Текст книги "Обыкновенные люди"
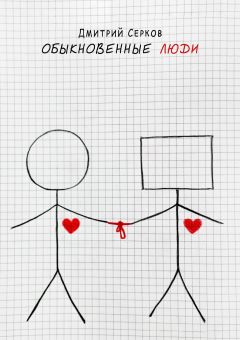
Автор книги: Дмитрий Cерков
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
«Порционный»
И все-таки, несмотря на привычку перекладывать друг на друга мытье полов, еще сохраняется в человеческом существе что-то объединяюще-социальное. Я убежден в этом. Оно будто вшито в наш биологический чип. Бывают ситуации, буквально обязывающие нас к общению (даже если нет необходимости делить пол). Тогда все складывается естественно и непринужденно, точно само собой. Если же, попади в такую ситуацию, не начать тот естественный (как восход солнца) диалог, то на его месте начнется неестественная тишина. И, боги, что может быть хуже той тишины, что посылает на социальный чип этот тревожный ток. Два магнита с разными полюсами просто не могут не притягиваться. Это закон природы. То же касается и двух людей, посади их напротив друг друга в одном помещении и за одним столом и лиши их всего того, на что можно отвлечься или сделать вид, что отвлекся, чтобы оправдать друг перед другом эту громкую тишину. Социальные чипы, как два магнита, найдут путь друг к другу. Закон природы как-никак. Но выбери они иной путь, и даже представить неловко: быть изолированным наедине с таким же чипом, что запрограммирован на общение и даже по-своему чувствовать это неосязаемое желание, но вместо этого смотреть в стол, осознавая, что та самая неестественная тишина уже началась.
Так вот. Странное дело. Я чувствовал эту самую неловкость, пока мы шли домой. Не знаю теперь уже, как и правильно. Ко мне домой или уже к нам. Теперь нас было двое. Я лишь надеялся, что это «теперь» закончится в мою пользу.
Мы молчали, и мне все казалось, что на месте этого пристального молчания потерялись строчки какого-то диалога. Уверен, по задуманному сценарию там просто обязан был быть разговор, да вот страница выбыла, а с ней выбыли и реплики.
А еще немного болело. Прошел мимо окна, где обычно прыгали женщины – все-также прыгают, но и их прыжки тоже растворились в концентрированном мне, не оставив никакой радости от наблюдения за этим обычно радостным делом.
– Обидел ее? – задумался я. – А даже если и так, какая разница? Она – всего лишь опухоль. Кто она такая? Кем себя возомнила, чтобы сравнивать мою жизнь и свою? У нее ни ног нет, ни глаз, ни даже носа. Что это вообще за жизнь такая? Такая жизнь не стоит жизни человека.
Прихватило мое сердце.
Вернувшись к нам домой, я нарезал «Порционный» и занес чайную ложку.
– Опухоль опухолью, а торт по расписанию.
Забросив маслянистый кусок вниз, я почувствовал, как углеводы начали заряжать меня энергией, а я, как солнечная батарея, жадно ее принимал. Надо сказать, торт был замечательный. Я ел его очень сочно и громко, но неестественная тишина перебивала вкус и отвлекала меня от моих рецепторов. Я понял, что если мы так и продолжим молчать, то вкус торта, и тот раствориться во мне, и я потеряю всякое удовольствие. А я и так уже потерял удовольствие от прыгающих женщин, терять еще и торт я был не готов.
– Слушай… – начал я. – А почему ты говорящая? Ну, в смысле почему говоришь?
– Не знаю, – задумчиво ответила опухоль. – А что другие… Такие, как я, не говорят?
– Не знаю, – почесал я подбородок. – Не слышал о таком.
Проанализировав ее голос, я понял – отошла. Полегчало. Я вздохнул, осознав, что неестественная тишина отступила и тревожный ток перестал отвлекать меня от вкуса. Я отрезал кусочек и жадно проглотил его. Совсем другое дело! – никакого привкуса молчания.
– Давай я задам вопрос по-другому? – когда кусок провалился до чувства расширяющейся полноты, спросила у меня опухоль.
– И как же? – помахав ложкой в воздухе, поинтересовался я.
– Почему Ты слышишь меня?
– Не знаю, – поразил ложкой воображаемую цель.
– Вот и я тоже. Не знаю. Ты в общем-то у меня первый, – горько усмехнулась опухоль. – Не знаю я, как всё там в таких случаях происходит.
– Не знаешь как? Ты убьёшь меня. Вот как! – приготовился я к новому удару.
– Я не об этом.
– А я об этом – прожевывая «Порционный», процедил я через крем. – Почему я вообще говорю с тобой? Со своей убийцей.
– Но мне больше не с кем поговорить, – немного обреченно сказала опухоль.
– Вот тогда и помалкивай, – сказал опухоли я. – Нормальные опухоли не разговаривают.
И почему мне даже опухоль и та досталась ненормальная?
Замолчала.
– Какая послушная, – подумал я про себя. – И за что мне это? Почему все люди как люди, а мне досталась опухоль. Я что, виноват в чем-то? Хорошо, во многом. И все равно!
Завершив сладкую трапезу, я разлегся на диване. Самом обычном диване в самом необычном состоянии. Вытянул ноги так, чтобы привыкшие к стульям колени наконец полностью выпрямились. Я просто лежал, и, признаться, как-то странно просто лежать, когда у тебя опухоль. Начинает казаться, что просто лежать больше не про тебя. Теперь это все про кого-то другого. Про всех остальных них. А для тебя теперь даже лежать должно быть как-то иначе. С грустинкой, что ли, или с осознанием пресловутой «ценности времени». Впрочем, я ничего такого не испытывал и даже детский альбом перелистывать не начал, зато я почувствовал себя очень особенным в самом плохом смысле слова «особенный». Точно я находился в одном измерении, а диван в другом. И все содержательное удовольствие от дивана тоже (вместе с диваном) осталось там. А мне же досталась только стерильная форма, на которой по законам физики моего измерения я мог лежать, но по законам дивана из другого измерения – без всякого удовольствия.
Кольнуло.
– Ты это специально? – на этот раз уже взорвался я, подпрыгнув на форме дивана.
– Что – это?
– Болишь так?
– Нет, – сказала опухоль.
– Врешь.
– Правда нет, просто я думаю, и мне страшно.
– Не смеши. Все ты специально.
– Вовсе нет.
– Вот возьму тебя и вырежу завтра! Чтобы не болела так больше!
– Ах вот как! – вякнула она. – Ну тогда, значит, никуда ты не пойдешь! Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю!
– Чего это? – удивился я.
– Я сделаю тебе так больно, что ты и с дивана встать не сможешь! Останешься дома.
– Вот значит ты как?! – разозлился я не на шутку (а на опухоль). – Заселилась без спроса, отравила меня, жизни лишаешь! И еще угрожать мне смеешь? – крикнул я на нее, а получилось, что на всю квартиру и улицу.
Она замолчала, и я понял, что это молчание – таймер перед тем самым.
– Это нечестно, – заплакала она. – Это так нечестно, что я опухоль. Так нечестно. Почему именно опухоль? Скажи мне, чем я это заслужила? – хныкал тоненький голосок.
– Не знаю, – мне даже немного стыдно стало. Голос-то у нее почти человеческий. А когда человеческий голос расстраивается, что-то расстраивается и во мне.
– И теперь я живу… Да ты все равно не поймёшь, – с досадой произнесла она.
«Вот блин, и правда расстроилась, – подумал тогда я. – Если будет молчать в таком состоянии, в таком же состоянии окажусь я, – представил этого мрачного беднягу (мне, признаться, и без грусти как-то не шибко здорово было, а если еще и раскисну, то точно начну размышлять о „ценности времени“, и тут уж никакой торт не поможет)».
– Скажи, опухоль, а ты видишь что-нибудь? – решил сменить тему я. А еще меня и правда это интересовало.
– Нет, я ничего не вижу, зато отчётливо чувствую, – ответила она.
– И что же ты чувствуешь? – поинтересовался я у опухоли.
– Твоё сердце, – с горечью того воображаемого бедняги сказала опухоль. – Оно такое теплое. Знаешь, я постоянно чувствую стук твоего сердца. Можно сказать, что я бьюсь вместе с ним. Я не хочу, чтобы оно остановилось. Твоё сердце. Ведь… – она снова обреченно заплакала. – Оно такое большое и тёплое. Это так жестоко. Убивать то, что тебя греет. Так жестоко. Прости меня! – умоляла она.
Мне стало еще более стыдно.
– Ну-ну не плачь! Только нечего болеть, – успокаивал я свою опухоль. – Ничего страшного. Подумаешь, какое-то сердце!
Теперь не только плакало сильнее, но еще и заболело сильнее.
– Хорошо-хорошо, не буду я тебя завтра вырезать!
Перестало. Правда, она и говорить перестала. Мы опять начали молчать. Да что же такое-то? Какой враг вообще придумал такое молчание?
Я прислонил голову к груди.
– Эй! Что молчишь? – спросил я у опухоли, чтобы не допустить возвращения меланхолических мыслей об измерениях, где нет меня, и измерениях, где нет дивана.
– Значит, другие опухоли не говорят? – задумчиво произнесла она.
– Вроде нет. Я о таком не слышал, – вернул голову в исходное положение, расслабив натяжение в шее.
– Выходит, я такая одна?
– Наверное, – промычал я, ковыряя пальцем потолок.
– И что же мне теперь делать? Больно быть одной. Особенно когда все против. Даже хуже. Все, и даже ты. Человек, чьё сердце я люблю.
– Что? – удивился я, перестав ковырять потолок.
– Что слышал, – буркнула опухоль и точно перевернулась внутри.
– Эй-эй, – процедил я. – Ты там что вытворяешь?
– Ничего, – почти шепотом сказала она, продолжая болеть, но не сильно, а так хронически как-то.
Мы замолчали. 3.2.1.
– Эй! Мне же очень больно, – соврал я, чтобы прекратить импорт тревожного тока.
На самом деле болеть-то у меня перестало, но не мог же я к ней просто «вот так» обратиться – без внешнего повода. Еще подумает, что я с ней разговаривать хочу. Нет, для разговора с опухолью нужен независящий от моего желания объективный повод. Вот я и использовал боль как повод для обращения.
Но она промолчала.
– Эй! К кому обращаюсь?! – рявкнул я, ударив ладонью по сердцу. – Невежливо молчать, когда с тобой разговаривают.
– Я же опухоль, забыл? – прошипела она. – Опухоли не разговаривают.
– Но ты же разговариваешь, – заметил я.
– Может, я хочу быть нормальной опухолью. Быть как все, – опять перевернулась она.
– Не нужна мне нормальная опухоль, – вдруг подскочил я. – Смысл в опухоли, если с ней даже поговорить нельзя?
В самом деле, если делаешь больно, то хотя бы разговаривай, а не делай это молча.
– А зачем тебе разговаривать со своей убийцей, – напомнила она мне мои слова.
Мне вдруг стало совсем непорядочно стыдно. И было бы еще перед кем! Но перед опухолью – это уже слишком. Видно, торт в голову ударил. Но от этого стыдно быть не перестало.
– Ну… ты же еще меня не убила, а значит, ты еще не убийца, – поддержал я опухоль.
И сам не понял, зачем я это сделал.
– Еще не убийца… – задумалась опухоль. – А ты прав! – повеселела она.
Я вдруг сам захотел, как она, перевернуться, что я, собственно, и сделал, плюхнувшись на диван и отвернувшись от опухоли.
– Знаешь… – сказал я в подушку. – Тебе вовсе не обязательно меня убивать.
– Я стараюсь… – расстроенно произнесла она. – Я очень стараюсь не расти, но все равно расту… но для тебя я постараюсь еще сильнее.
– Спасибо, – сказал я опухоли. – Ладно, давай спать ложиться. Завтра в больницу.
– Но я не сплю, – сказала опухоль.
– Зато я сплю, – ответил я.
«39»
Сидел и смотрел на талончик с числом «39». Эти две цифры были моими. А я, получается, был их. Мне все хотелось как-нибудь от них дистанцироваться, чтобы вернуть себе что-то большее, чем две цифры, но когда на табло высветился мой номер, я понял, что я и есть это самое число. От себя уже не дистанцируешься.
Если подумать, есть нечто странное в том, что людям присваивают номера, точно мы не люди, а числа из учебника по математике. До талончика я был почти уверен, что я человек и принадлежу только себе и, более того, чувствовал себя особенным, а оказался просто «39» в чужой очереди из чисел.
– А у тебя есть имя? – спросил я у опухоли.
– Нет, – мрачно ответила она и вздохнула так, что мои легкие надулись, как парус.
– А ты… – даже как-то неловко было спрашивать. – Ты бы хотела иметь свое имя?
– Я? Но имена же бывают только у людей, – удивилась она.
– Какая разница, – усмехнулся я. – У каждого говорящего должно быть свое имя, иначе как к нему обращаться? «Эй ты»!?
– Имена дают, а не выбирают. Мне имени не досталось, – сказала она с уколом зависти.
– Хочешь, Я дам тебе имя? – спросил я.
– Нет, – грубо отрезала опухоль. – Я опухоль. Не человек.
– Но…
– Если продолжишь, сделаю тебе очень больно, – сказала она.
– Ладно… чтоб тебя, будешь Светой.
– Я предупреждала тебя…
– Хорошо, Света, хорошо.
Больно не стало.
– «39» прибыл! – сказал я врачу функциональной диагностики.
– Ложитесь, – сказал мне он.
Я задумался, как может лечь число «39». Упрется на спинку 9? Но тогда ее неизбежно прижмет сверху тяжелой грудью 3. Лег, оперевшись, на свою спину. Вроде не придавило. Врач намазал меня чем-то холодным, а потом начал водить по мне прибором. Я почувствовал себя числом еще больше, чем до этого.
Интересно, какой я у него? 1339? Нет. Судя по его выверенным движениям, точно за три тысячи перевалил. Решил не думать об этом. Числу лучше не думать о том, что он число. И, тем более, числу лучше не знать своего значения.
– Вот она! – произнес врач, точно открыл новую планету в нашей галактике.
– Где? – посмотрел я в окно на небо, но потом вспомнил, что врач нашел планету во мне.
– Вот же, – указал он математически точным пальцем на монитор. – Видите это пятно?
– Да, – кивнул я, все еще представляя, что речь идет о планете.
– Это опухоль, – сказал врач, напомнив, что речь о планете не шла.
– Так вот ты какая, – подумал, уставившись на пятно.
– А можно поближе? – спросил я у врача.
– Ближе? Вам зачем? – удивился врач.
– Я хочу разглядеть ее лицо, – ответил ему я.
– Лицо? – врач с сочувствием посмотрел на меня. – У опухоли нет лица. Это просто опухоль.
– Все-то вы, врачи, знаете, – скривился я, вытирая салфеткой грудь. – Это не просто опухоль. Это Света. А это ее фотография.
Света
– Почему молчишь?
– Мне стыдно.
– Стыдно? Но почему?
– Стыдно, потому что ты видел меня такой.
– Такой?
– Такой.
«Вас, опухолей, не разберешь», – подумал я.
Электричка одиноко стучала, а я в пустом вагоне не чувствовал себя одиноким. Странное дело, но иметь собеседника в своем сердце оказалось не так уж и плохо.
– Хотела бы я тоже узнать, какой ты на самом деле, – мечтательно произнесла она. – Я тебе даже немного завидую.
– В смысле увидеть меня? – спросил я, пиная стеклянную бутылку.
– Увидеть? Не знаю, ты забыл, я ничего не вижу. Я даже не знаю, как это – видеть. Хорошо это или плохо?
– Честно говоря, по-разному, – ответил я. – Иногда хорошо, иногда плохо. Зависит от того, на что и как смотреть.
– Значит, хорошо, что я тебя не вижу, – сказала Света.
– Это почему? – удивился я.
– Вдруг я бы посмотрела на тебя не так, – просопела она.
– И как же это? – поинтересовался я.
– Так как ты посмотрел на меня, когда увидел на снимке, – с досадой произнесла она. – Я все понимаю. Я – всего лишь опухоль, но мне все равно стало обидно. Твоё сердце вдруг перестало греть, и мне стало холодно. Когда ты посмотрел на меня, мне стало холодно.
– Извини, – стыдно за себя.
– Не извиняйся. Я все понимаю. Я уродливая и мерзкая. Сгусток, что убивает твоё сердце. Как ещё на меня можно смотреть?
(Ну вот… опять).
– Слушай… – перебил ее я. – Но если ты не видишь меня, тогда какой я? Какой я для тебя?
– Тёплый и даже иногда горячий.
– И это все?
– Да. Все что у меня есть. И все, что мне нужно. Я не могу жить без тебя, – с грустью произнесла она.
– Да уж… как романтично, – усмехнулся я.
– Нет никакой романтики. Я – опухоль, и мне нужно твое сердце, чтобы жить.
Странное дело. Хоть Света и росла, мне почему-то начало казаться, что все налаживается, точно что-то еще росло вместе с ней. Даже день как-то наладился, перестав растворяться во мне. Определенно у меня было настроение 1 типа – я определенно хотел съесть тортик и определенно не хотел ни в кого его метать. Я даже подумал, что настроение 2 типа и вовсе ерунда полная – в самом деле человек, в которого ты бросишь торт, получит торт, а ты не получишь ничего, зато потратишь деньги. Выходит, что тот второй (адресат торта) всегда будет в плюсе, а я всегда буду в минусе. Нет, настроение 2 типа однозначно не стоит своих денег.
Купил очередной «Порционный» и пару трубочек. Шел домой, задорно размахивая пакетом. В голове вкус. В сердце опухоль.
Я даже подумал: «А что еще нужно?»
А потом вспомнил, что умираю, но ответ на вопрос почему-то не изменился.
Я анализировал прохожих. И мужчин, и женщин. Некоторые казались мне чуть более здоровыми, некоторые чуть менее, но я не ошибусь, если допущу, что в основной своей массе, в отличие от меня, они не умирали. Они беззаботно перемещались без всяких там опухолей внутри. В тот момент во мне проснулась совсем бессовестная жалость. Только вот странное дело. По какой-то совсем непонятной мне причудливой причине, мне стало жалко вовсе не себя, но одинаково жалко всех остальных. Они все казались такими обреченно-одинокими. И еще бы. Ни у кого из них не было собеседника в груди. Ни у кого из них не было той, которая была во мне. Знаете, я люблю представлять, но я не хотел представлять себя на их месте. В этом смысле у меня было то, чего не было ни у кого из них. Не сердце, конечно, а кое-что получше. У меня была Света, которая любила мое сердце.
Вернувшись к нам домой, я начал готовить ужин. Если под словом готовить, конечно, можно понимать распаковку торта и заваривание чая.
– Свет?
– Не называй меня так.
– О! Все-таки откликаешься.
– Да иди ты!
– Свет, а каково это – быть опухолью?
– Не знаю, наверное, так же, как человеком… – задумчиво протянула она. – Только все хотят тебя вырезать или вытравить. А еще… – голос ее стал почти счастливым. – Не видеть и не чувствовать ничего, кроме теплого сердца.
– Тогда я бы тоже хотел ей стать. В смысле опухолью, – сказал я. – Тогда бы я освободился.
– От чего? – удивилась опухоль.
– От всего того, что значит быть человеком, – ответил я.
– Тебе не нравится быть человеком? – еще больше удивилась она.
– Мне нравится быть человеком, но лучше уж чувствовать одно теплое сердце, чем не видеть ни одного, – сказал я Свете. – По крайней мере, хоть ты находишься в теплом месте…
Она призадумалась, а потом спросила:
– Слушай… А какого это – быть человеком?
– Не знаю, – ответил я. – Наверное, так же, как опухолью – все хотят тебя вытравить или вырезать. Только разве что проблем создавать побольше. Опухоль может создать проблему только одному человеку, а один человек может создать проблему многим людям.
– Вот, значит, как…
– Да.
– Наверное, тяжело быть человеком, – сказала она.
– Наверное, хорошо быть опухолью, – подумал я.
– А ты бы хотела им стать? Ну, человеком.
– Не знаю. Пожалуй. Тогда бы я перестала причинять тебе боль и смогла бы на тебя посмотреть.
– А знаешь, с тобой приятно говорить, – улыбнулся я Свете.
– Со мной? И почему? – удивилась она.
– С людьми говорить у меня не очень-то получается… Это, наверное, потому что они родились людьми, и им все равно, что они люди. Потому что они не хотят быть людьми. А с тобой приятно, потому что ты хочешь быть человеком.
– Спасибо, – произнесла она. – Мне очень тепло.
– И мне, кажется, тоже, – сказал я.
Потрогал лоб – и правда. Температура. Я и забыл, что она опухоль. Забыл, что у меня жар, и я умираю.
– Знаешь, я согласна, – тихо сказала она. – Пускай меня вырежут, но прежде я бы хотела попросить тебя кое о чем.
– Да, конечно. О чем угодно! – не задумываясь, ответил я.
– Мог бы ты… похоронить меня как человека?
– Ээ. Я даже не знаю… – растерялся я. – Ты же…
– Я знаю, знаю, кто я. Но умереть я хочу как человек. Не хочу, чтобы ко мне и после смерти относились как к опухоли. Хочу, чтобы хоть один раз ко мне отнеслись как к человеку, если и не при жизни, то хотя бы после смерти. Пожалуйста.
– Хорошо, – смирился я.
– Значит, похоронишь? – обрадовалась она.
– Да, похороню, – что-то совсем не обрадовался я.
– И ещё! Я бы хотела посмотреть с тобой вместе кино! Как это делают люди, – задорно, точно не было той просьбы сказала Света. – То есть почувствовать с тобой. Перед смертью я хочу почувствовать твоё счастливое сердце.
– И какой фильм может понравиться опухоли? – задумался я. Этот вопрос действительно не такой простой, каким кажется. – Какой же фильм может понравиться Свете?
Суббота
– И все-таки я бы хотела тебя увидеть, – сказала она в субботу.
– Поверь… тебе не на что смотреть, – сказал ей правду я.
На самом деле выглядел-то я уже весьма паршиво. И без того худой, еще больше похудел. Даже тортики не могли зарядить меня приятным глазу жиром. Я уверен, что классическая бабушка, увидев меня в таком состоянии, ахнула бы (как умеют делать только бабушки в преддверии пирожковой терапии), а потом до смерти накачала бы меня классическими пирожками.
Но Света была особенно разговорчива:
– Скажи… а что ты видишь? Что ты видишь прямо сейчас?
Я посмотрел сначала на стену слева, потом на стену справа, а затем и на пол между ними. Встав с дивана, я расположился по центру.
– Вот что я вижу: впереди пустота. Та же, что и сзади. А я между двух пустот. И куда бы я ни пошел, все равно ничего хорошего меня уже не ждёт. Только очередной пол, который тоже существует между пустотой спереди и пустотой сзади. Пустотой «а» и пустотой «б». Примерно так, – я улыбнулся и сел обратно на диван.
– А что такое пустота? – спросила у меня опухоль.
– Хм… – задумался я. – Как же тебе объяснить… Это когда ничего нет. Можешь себе такое представить?
– Но все, что у меня есть – это только твоё сердце, – сказала она.
– Значит, представь, что его нет. Это и будет пустота. Представила?
– Да.
– Ну и как?
– Холодно.
– Вот. Это и есть пустота.
– Тогда пустота – это холод, – сформулировала она.
– Пожалуй, – согласился я.
Она тяжело вздохнула.
– Значит, вот что ты видишь перед собой, – мрачно произнесла Света. – Если глаза видят только это, то я, пожалуй, рада, что у меня их нет. Лучше вовсе не видеть, чем видеть так.
– Ты просто сама не видела, – точно оправдываться начал. – Если бы видела, то поняла.
– Нет. Не поняла. Потому что ты врешь!
– Я? – удивился я, а не «39».
– Да. Пускай я не вижу, зато я чувствую. Я тут уже не первую неделю. Я знаю, как бьётся твоё сердце. Как и почему. Когда ты говорил о пустоте, я чувствовала стук. Говоря о пустоте, ты стучишь об объеме. И не о холоде билось твое сердце, а о тепле. Твои глаза тебя обманывают. А у меня из глаз только сердце. А сердце не обманешь. Меня не обманешь, – тепло сказала она, и мне стало еще теплее.
Я взял снимок УЗИ и посмотрел на нее – не такая уж она и мерзкая.
– Знаешь… я тут подумала… как же это странно чего-то хотеть, – когда я хрустел вафлей, между прочим произнесла Света.
– Как это странно? – с набитым ртом издал я какое-то подобие слов. – Не понимаю.
– Ну… вот сам посуди, я опухоль, а хотела бы ей не быть. Но это абсолютно невозможно. Строго говоря, мне не имеет никого смысла хотеть этого, ведь этого никогда не случится, а я все равно, – хныкнула она. – Хочу.
Признаться, я тогда не нашел слов, и не знал, что сказать. Никак не мог придумать то, что сделает лучше и не сделает по-своему хуже. Поэтому я не сказал ничего. Зато я очень хорошо ее понял, и мне стало так обидно, как обычно обидно не было. Я понял её на таком уровне, на который лучше не погружаться – есть риск не подняться обратно. Это как дайвинг, только погружаешься не в воду, а в сердце, но последствия одинаковые: если не соблюдать технику безопасности и резко вынырнуть, начнется кессонная болезнь. Твоя кровь вспенится, а сердце остановится.
Здесь кто-нибудь может справедливо подумать, что я тогда не поддержал её. Но такое умозаключение было бы в корне неверно. У такого «кого-нибудь» просто никогда не было своей Светы.
На самом деле я поддержал ее и даже очень, но совсем не так, как обычно принято. А она без слов поняла меня. Точно нас с ней объединяла еще одна форма коммуникации, и, кажется, куда более естественная, чем какие-то придуманные слова. Вербальные вибрации тут были бы просто не к месту.
– А ты хочешь чего-нибудь? – спросила у меня Света.
Я подумал. И правда, чего же я хочу? Избавиться от нее? Кажется… Должен ли я этого хотеть? Вот чего я хочу – поправиться. Я молчал слишком долго, даже опухоль это заметила.
– Ты вообще хочешь чего-нибудь? – напомнила она о вопросе.
– Да, кажется. Есть кое-что… (вылечиться я, наверное, все-таки хотел).
– Звучит как-то неубедительно, – усмехнулась Света. – Скажи… а то, что ты так неубедительно хочешь… Точно ли ты так хочешь этого?
Странный вопрос.
– Не знаю, – пожал я плечами, хотя меня никто и не видел. – А как понять, точно я хочу или нет? Разве есть какой-то критерий?
– Есть один, – сказала опухоль.
– И какой? – удивился я.
– Сначала представь что это самое – то, что ты хочешь, уже случилось. Представил?
– Ну… вроде да, – представил, как она перестала со мной разговаривать.
– И как тебе? – спросила она.
– Тихо, – ответил я.
– И все? – удивилась Света.
– Да, и все, – повторил я.
– Спрошу по-другому, – продолжала Света. – Счастлив ли ты?
Я тогда растерялся.
– Счастлив? Даже не знаю… Счастье – такое сложное чувство. Очень субъективное и в то же время очень объективное. Как понять, счастлив ли я или нет? Это же так сложно.
– Ошибаешься! – строго сказала она. – Я, конечно, всего лишь опухоль, но даже я это понимаю. Счастье совсем не сложное. Напротив – очень простое чувство. Ты либо счастлив, либо нет. Вот и всё. И поэтому понять, счастлив ли ты или нет, тоже очень просто. Если ты задумываешься или сомневаешься, значит, это вовсе никакое не счастье.
– Тогда выходит… что «то», чего я хочу, не сделает меня счастливым?
– Не знаю, – пожала сосудами опухоль. – Но если то, что ты хочешь, не делает тебя счастливым, точно ли ты хочешь этого?
– И почему хотеть так сложно… – промычал я.
– Я вот, например, счастлива, – сказала Света. – У меня уже все есть. И нет сомнений. У меня есть ты, человек с сердцем, которое я люблю. Что же мне еще может быть нужно.
– Везет тебе, – усмехнулся я.
– Еще как, – усмехнулась она. – Мне достался человек, а тебе опухоль.
– Знаешь… я, кажется, все-таки кое-чего хочу.
– Это «кое-что» сделает тебя счастливым? – заботливо спросила Света.
– Да. Очень, – мрачно ответил я.
– Тогда не говори! – сказала Света. – Мне так тепло. Вдруг, если я узнаю причину, то уже не смогу греться. Мне нравится «кое-что», которое ты хочешь, – улыбнулась она.
– Лучше бы мы поменялись местами, – подумал тогда я. – Я бы стал ее опухолью, а она моим человеком, так бы мы исполнили желание друг друга – я бы исполнил ее желание стать человеком, а она мое желание – сделать так, чтобы она жила.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































