Текст книги "Альфа и Омега"
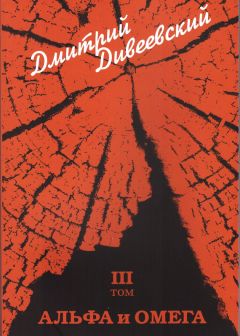
Автор книги: Дмитрий Дивеевский
Жанр: Политические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
– Помоги тебе Господь, – услышал Иван голос и, вздрогнув от неожиданности, обернулся.
Сбоку от него стояла пожилая женщина, пришедшая, очевидно, по лесной дороге от Сатиса. Дорога эта уходила дальше в лес, и по ней можно было добраться до бывших святых мест – Сарова и Дивеева. Женщина была странно, по-старинному одета. На ней светила мелкими цветочками коричневая ситцевая блузка с длинными рукавами, пыльная черная юбка до пят прикрывала полусапожки из грубой кожи, голову плотно окутывал темный платок. Лицо ее ничем не запоминалось, разве что скорбной полоской рта, окруженной частыми морщинами. В руке она держала книгу, судя по кресту на обложке – Святое Писание. За плечами висел полупустой полотняный мешок.
– Кто Вы? – спросил Звонарь с внутренним напряжением. Столь неожиданное появление женщины не могло ему понравиться, хотя никакого чувства опасности он не испытывал.
– Раба Божья Полина, скиталица. Иду в Дивеево, Серафимушку славить. У его канавки буду молитвы читать да его назад призывать.
Хорошо знавший родную округу, Звонарь улыбнулся.
– Какого Серафимушку, гражданка? Саровского, что ли? Да там и следа никакого не осталось с тех времен. Храм только разоренный стоит, а где его канавка знаменитая была – свиньи пасутся.
Полина улыбнулась в ответ легкой ясной улыбкой:
– Нет, Иванушка, не все ты знаешь. В Дивеево сейчас со всей земли люди собираются и храм восстанавливают. Все там будет как раньше. А я Серафимушку туда призывать буду, и даст Бог, настанет светлый день, он туда вернется.
– Откуда Вы мое имя знаете?
– На тебе написано.
– Так Вы что, колдунья?
– Глупый ты мальчик, Иванушка. Колдуньи у язычников и бесов бывают, а у православных – ясновидящие. Я не ясновидящая, но маленькие тайны мне Господь открывает. Вот и к тебе я зашла, чтобы тайну открыть. Ты по правильному пути идешь. В трудах от душевной ржавчины освободишься. Потом труды закончишь и поднимешься сильный духом. Тебя будут любить светлые люди, а злые ненавидеть. А о кончине твоей мне говорить не велено. Велено лишь сказать, что дается тебе еще немало жизненного времени, но все твое геройство на это время потребуется. А теперь пойду дальше, спаси тебя Господь.
– Подождите, Полина, уже ночь на дворе, переночуйте в моей избе и с утра…
Полина снова улыбнулась и ответила:
– Ночь только злым людям страшна, а мне в ней бояться нечего. Зато скорее в Дивееве буду.
Она поклонилась Ивану в пояс и не спеша пошла в лес…
Глядя ей вслед, Звонарь неожиданно осознал, что душой его владеет ранее неведомое ощущение присутствия вокруг чего-то незримого, но разумного и всесильного, проникающего в каждую извилинку бытия. Привыкший по-военному анализировать каждую новую вводную, он вдруг ощутил свою беспомощность. Новое состояние не поддавалось логическому пониманию.
Словно сгустилось вокруг пространство, и густота эта была теплой, сладостной, успокаивающей.
«Хорошо бы всегда – так», – подумал Иван.
11. Музей
В иссиня-черном ночном небе желтый лик луны источает мертвенный, лишающий покоя свет. Заполонившие улицы Окоянова тополя превратились под этим светом в серебряные ризы, из-за которых выглядывают печальные окна домов. Дома старше и умней людей. Они пропускают через себя целые поколения и пропитывают свои стены их чувствами. Порой домам бывает тяжело, потому что они страдают от темных страстей жильцов. Кому не приходилось видеть жилье, всем видом своим выказывающее неблагополучие хозяйских душ? Такое жилье похоже на несчастного человека: скособочившееся, нахмуренное и безрадостное. Все в природе взаимосвязано, все взаимозависимо. И ошибается тот, кто полагает, что между живой и неживой природой существует пропасть, разрывающая все связи. Нет такой пропасти. Связи неразрывны. Даже соскочивший с теплой ноги валенок отчаянно умирает от холода в мерзлом снегу, призывая хозяина.
Сейчас стоит пора темных страстей, и окна домов печальны. Правда, так было не всегда. Когда-то очень давно (тогда еще была замечена в городе кибитка одного курчавого всероссийского сочинителя), окна домов глядели на мир по-иному. Они не страдали от темных страстей так много, как сейчас, потому что большинство людей следовало православной вере и принимало свою судьбу со смирением. Тогда дома болели состраданием к несчастным человекам, но, согласитесь, это не так тяжело, как мучиться от их скверных чувств.
Музей возвышается на углу Соборной площади темной громадой с ломаными линиями крыши. Вокруг него, как и везде в Окоянове, блестит под луной серебряная стружка тополей – свидетельств византийского наследия местной жизни. Ни в одном городе папской Европы Вы не увидите тополей, вредоносных разносчиков пуха и мусора, оскверняющих собой упорядоченный образ жизни народов, сумевших договориться с Господом о разделе полномочий. Эти народы давно освоили Богову делянку, изъяв из нее наиболее неудобные части, вроде сорных растений, кусачих насекомых или, хуже того, сточных канав. В Окоянове же, как и в незапамятные дни Феофана Грека, позволяют плодиться всему, что лезет из почвы. Да и канализация в городе еще не зародилась, и это дает возможность достоверно узнать, как пахли древние цивилизации. Но тем и отличается византийская Русь от папской, что не захотела требовать у Господа раздела полномочий. Правда, бывали на ней времена, когда Господа пытались полностью отменить, но он не отменился, и тополя подтверждали собою, что все идет своим, российским чередом.
Итак, над городом висела луна, облившая его тревожным светом. Давно известно, что в такие часы в мире происходит нечто особенное, нечто незримое и нехорошее. В неясных предчувствиях мучаются бессонницей люди, на крышах появляются лунатики, в темных закоулках копошатся бродячие собаки, а для опытного глаза не остается незамеченным множество больших и малых проявлений нечистой силы.
Вот и в музее стало твориться что-то неописуемое, связанное не только с полнолунием, но и с происходящей за окнами эпохой, которую лишь по лукавому наущению сподобились назвать перестройкой. Мы-то с Вами полагали, что перестройка касается только наших земных дел, а мир иной живет по своим законам. Но если хотя бы чуть-чуть вдуматься, то станет ясно, что перестройка как раз и ударяет по тем, кто уже сегодня в мире ином. Могут ли они на все это смотреть спокойно из своего небытия, тем более в окояновском музее, где им предоставилась возможность хоть малость показаться живущим людям?
Так вот, помнится, мы оставили музей в ту самую напряженную минуту, когда домовой Чавкунов осквернял своим седалищем фотографический портрет Фани Кац. Случилось это потому, что в результате перестройки растаяли остекленевшие звуки «Марсельезы» и экспонаты обрели некоторую свободу действий. Сразу отметим, что не все они проявили участие в развернувшейся драме. Некоторые из них, такие, как восковая фигура первобытного человека, чучела представителей фауны и целая группа активистов-безбожников остались безучастными к происходящему. Относительно чучел все понятно, а о безбожниках можно предположить, что судьба их сложилась на том свете неудачно и ничего, кроме фотографий от них не осталось.
– И за борт ее бросает, в набежавшую волну, – ревел Чавкунов, сидя на фаниной фотографии, – будешь знать, как развращаться!
– Освободи гражданку, контра, – послышался из групповой фотографии уездного исполкома чей-то голос, – мало мы вас экспроприировали!
– Дурное дело нехитрое, – отвечал Чавкунов, – только зря вы утомлялися. Теперь вас всех черной краской обгадят. А я буду полезный продукт хозяйства. Вот так! Без таких, как я – спросите хоть у Гайдара, жизни никакой нет.
– Видали мы твоего Гайдара, – снова донесся голос из уездного исполкома, – порода бесовская, однако – недоносок. Ты лучше нас послушай: на Руси паразитов всегда давили и будут давить, понял? Освободи гражданку сейчас же. Товарищ Кац, как вы там, под этой контрой?
– Ах, товарищ Юшкин, после столь большого перерыва мне и эта поза кажется неплохой.
– Тьфу, нечисть, – вскричал домовой и взвился к потолку, – это надо же!
От групповой фотографии донесся дружный смех, который прервал зычный командирский голос Федора Собакина:
– Прекратить балаган, граждане бывшие живые! Или не видите, какая тьма собирается? Кто от нее отбиваться будет? Опять, что ли, полную чертовщину позволим завести?
В помещении установилась тишина. Здесь все знали, что такое правление бесов среди людей.
– Я, как тяжкий грешник, всегда готовый последние гроши…, тьфу ты, последние силы на благо веры положить, пойду в сраженье с Диаволом…, – послышался бас Чавкунова.
– Ну, опять завел свою сурдинку, – вмешался голос Собакина, – кто бы сомневался, гражданин купец, что вы пойдете. Не век же вам в домовых вековать. Возьму вас к себе сыном полка.
– А ты знаешь, что я в пятьдесят годов преставился?
– На вас написано, что не вьюношем.
– И я – сын полка?
– У нас возраст не считается, а других вакансий нет. Да и с верой вашей надо еще посмотреть. Не напрасно вы столько лет никак не определитесь…
– Не тебе, Федька, мою веру проверять. Я еще до вашей жидовской революции перед Господом в грехах каялся, а ты, голопузый, тогда и в мыслях такого не держал…
– Ты, Чавкунов, из себя лишнего не изображай. Здесь каждый знает, как ты каялся и как тебя Господь прибрал. Или напомнить?
– Я чинно-благородно преставился, от руки заезжих матросиков, как контрреволюционный элемент.
– И все?
– Все!
– То есть, просто за красивые глаза тебя стрельнули, так что ли? Никто твоей гнилой селедкой не травился, животом не маялся, тебя на сеновале не разыскивал?
– А я их не угощал! Сами конфисковали, сами и обгадились.
– Матросиков ты, и впрямь, не угощал, это точно. Сами виноваты. Зато у других ты на эту селедочку драгоценности выменивал. Вот и трешься теперь в домовых.
– Я каюся, каюся в своем окаянстве. Не совладал с собой, возлюбил сатану льстивого! Но теперь против него пойду, будь что будет.
– Товарищ Собакин, меня тоже надо мобилизовать, я надежная защитница наших устоев, – послышался голос Фани Кац.
– Насчет устоев надо посмотреть, товарищ Фаня. Будь я красным командиром, я бы взял, дело на войне нужное… Но здесь таких не мобилизуют, сами понимаете, товарищ. Вы как бы даже и не на нашей стороне. Это пока у нас мирная ситуация – мы с вами разговариваем, а если дойдет до перепалки, то вы ведь нас ослаблять будете самим, так сказать, своим явлением…. Так что, извиняйте. Итак, товарищи, предлагаю организовать комитет по противодействию нечистой силе и незамедлительно приступить к работе… Предлагаю в президиум избрать только лиц, прошедших чистилище. Они не дают повода сомневаться в надежности. А такие, как товарищи Кац и Чавкунов, оказавшиеся в особом списке на прохождение Страшного Суда, могут пользоваться только совещательным голосом.
– Я категорически протестую против дискриминации, – раздался певучий голос Фани. – Вы совершенно отстали в своих представлениях о перестройке. Вы же видите, к власти идут сплошные педерасты. Могу назвать фамилии, если хотите. Да я со своей женской слабостью, может быть, самая яростная ненавистница этих врагов природы. Пустите меня в свои ряды!
– Это точно, товарищи духи, – вмешался голос Юшкина, в бытность свою на земле приобретшего профессию ветеринарного врача, – просто черно становится от анальных перестройщиков. Кстати говоря, среди животных педерастии не бывает, что само по себе свидетельствует о ненормальности этого явления.
– Ты бы еще червяков приплел, они вообще делением размножаются, – послышался пропитой бас местного поэта Аполлинария Захолустного, чьи революционные стихи в многотиражке вместе с его портретом висели за стеклом витрины, – выходит, то, что люди делением не размножаются, свидетельствует о ненормальности этого явления.
– Это у тебя, Аполлинарий, мозги уже давно делением размножились и в разные стороны разбежались, – отвечал Юшкин, – надо же, писанул:
Пусть гром в портах
и пыль в степях,
По всей планете
устроим трах!
То, что в твоих портах бывает гром, понятно. Но как ты собираешься устраивать трах по всей планете, и какого вида эта хреновина, никто не может уразуметь.
В воздухе образовалась фигура поэта. Служитель муз был высок ростом, тощ и сутоловат. Лицо его украшал большой нос кочерыжкой. Мышиные глазки, выдававшие человека смекалистого и бойкого. Отвисшие губы саркастически кривились. Сальные волосы Аполлинария спадали на плечи редкими космами, а в позе его угадывалось что-то от римских цезарей.
– Толпа, охлос, глиняные морды – вот кто ты и твои сатрапы, не желающие постичь силы слова! Т-р-р-ах! По всей земле поднимем т-р-р-а-х! Поднимем и воспарим! А ты будешь лежать мордой в грязи, как не понявший величия момента Мировой Революции. По всей земле Трах – это мировая революция.
– Аполлинарий Евсеич, я за Вас! – крикнула Фаня. – Действительно, надо везде устраивать трах! Надеюсь, Вы знаете, что именно молодые люди нынче понимают под этим словом. Замечательно!
– Прошу прекратить прения, – снова прорезался зычный голос Собакина, – будем говорить по делу. В миру наступает период полного безумия, в котором к рулю рвутся самые мерзкие из живущих. На поверхность поднимается моральный сброд, но среди него самые опасные – это жулики. Разворуют всю страну. Что делать будем?
– А что ты сделаешь? – вмешался Чавкунов, – скажу тебе как бывший мироед: ничего ты не сделаешь. Пока государь-император еврейскому сословию по рукам бил, оно еще себя помнило. А теперь, извини– подвинься. При этой власти они все, что русский мужик произвел, украдут.
– А надо, чтобы не украли!
– Не наше это с тобой дело, Собакин. Коли Господь им попускает, то, значит, так тому и быть. Пока пусть празднуют. Сам знаешь, чем эти праздники кончаются. А ты разгоняй бесов в педучилище. Там девки Фанин шепоток по ночам слушают, и оттого плодится ципилис. С гражданской войны его не было, а теперь есть. Нешто это дело?!
– Во-первых, я, как представительница многострадального еврейского народа, должна сказать, что – сами хороши. Зильберманов в стране единицы, а Чавкуновых миллионы. Вот они, массы жуликов-то! А вашим девицам ничего нашептывать не надо. Они сами кому угодно нашепчут.
– Эх, Фанька, зараза, нет на тебя управы, и здесь меня прижгла! Да все Чавкуновы вместе взятые одного Зильбермана не стоят. Мы по копейке православных стригли, а он миллионами. Тоже мне, сравнила!
В музее поднялся невообразимый шум, поэтому мы не станем заниматься его отображением и вернемся в музей попозже, когда страсти успокоятся.
12. Небесные источники
Закружило, понесло по воздуху легкие нити паутинок, словно вдохновенные росчерки невидимого композитора свивались в прощальную музыку уходящего тепла. Утренние туманы растворялись под солнечными лучами, каждый раз обнажая новые костюмы на окружавших избушку деревьях. Костюмы становились все ярче – артисты готовились к самому блистательному в своей красоте дню, после которого одежки спадут и начнется пора засыпания. Иван незаметно для себя включился в этот спектакль. Он с нетерпением ждал рассвета и внимательно оглядывал своих любимых артистов: вот береза у калитки гордо отвернула голову, наклонив гриву рыжих волос, еще не просохших от ночной росы. Грива прибавила в позолоте, а внизу уже появились первые черные полоски обнаженных веток. Но береза красива и своенравна, она любуется собой, не признается в скором увядании. Чуть поодаль старый дуб, расставив кряжистые руки, словно ловит березу, собравшуюся юркнуть мимо. Он побурел, покрылся желудями и скрипит даже в безветрие. Дальше стена елей хихикает над переживаниями лиственных пород. Им, вечнозеленым, все равно, какая на дворе погода. Зато кустарники на опушке буйно меняют краски каждый день. И бересклет и краснотал, и крушина и калина – вся эта развеселая компания устроила вокруг избушки такую яркую карусель, что в глазах рябит. Иван смотрел на этот Божий мир новыми глазами и видел в нем постоянно меняющуюся гармонию. Все здесь дополняло и украшало друг друга, источая в пространство симфонию красоты. Сизые травы шли волной струнной музыки и поднимали мелкий малахитовый ивняк, который завивался в стоны рожков, а рожки заставляли подлесок отзываться свирелями в дрожащих кронах осин, голоса свирелей уходили в глубину леса и возвращались раскатистым призывом валторн и гобоев, пробивавшихся сквозь океанский шелест бесчисленных золотых монист. Иван начал понимать, что и он играет какую-то партию в этом волшебном оркестре, но какую? Может быть, он тот, кто добавляет в это звучание свою мелодию человеческой любви? Ведь кем-то задумано так, что в ответ на музыку природы в человеческой душе рождается любовь, и она вырывается из души и включается в этот круговорот прекрасного. Теперь его уже не покидало ощущение заполненности пространства чем-то Любящим и Живым. Все изменилось в сознании и в душе Звонаря. Он видел себя частью совсем другого мира – мира великого, гармоничного и питающегося любовью невидимого Любящего и Живого.
Иван чувствовал, что земля, на которой стоит избушка, какая-то особенная. Через нее нет-нет, да и проходили богомольцы на Дивеево. Это было невозможно объяснить логикой. До мест Серафима подсобнее было добираться как угодно, только не по этой тропе. Однако с непонятным упорством мимо его делянки двигались ходоки, исчезавшие в лесу как призраки. Мало кто из них задерживался у дома Звонаря, и вскоре он привык к ним, как к естественному явлению жизни.
Однажды в дом его зашел богомолец, попросивший водицы. Звонарю было интересно поговорить с этими странными людьми, и указав гостю на ведро с водой, он спросил:
– Скажи мне, гостюнек дорогой, почему Ваш брат пешком на Дивеево ходит? Или денег у Вас на автобус нет? Да еще крюк такой через мою избушку даете, сам-то, поди, от Шатков идешь?
– Меня Матвеем кличут, – отвечал незнакомец, – калика перехожий, раб Божий Матвей. Правильно ты угадал. Иду я от Шатков, а до них автобусом от Арзамаса добрался. Как бы полукруг делаю.
– И какой же смысл в таком маршруте?
– Смысл только один. По преданию примерно так же Серафимушка шел и много на этом пути натерпелся. А мы, грешные, его дорожку повторяем, поближе к нему хотим встать.
– И пешком, значит, поэтому?
– Поэтому, и не только. Слышал, наверное, что третий удел Богородицы над Дивеевом и окрестностями распространяется. Может, и над твоей избушкой. Уж больно здесь воздух сладкий. А нам грех по такой земле на машинах ездить, понимаешь?
– И ты что, во все это веришь?
– Отчего же не верить. Верю.
– Не от темноты ли своей ты в это все поверил, а? Я вот в Афгане офицером воевал. Столько смертей, столько страданий видел. Порой кричал туда, в Небо: помоги! А Он не помогал, не помогал. Так есть ли Он?
– Может, и от темноты я поверил. Мне Бог знаний много не дал. Командиром атомной подводной лодки со службы ушел. Тридцать лет в море провел и точно понял, что Он есть. Сначала Родине служил, а вот теперь иду Ему служить.
Ивану стало не по себе. Армейская закваска сидела в нем глубоко, и такие штучные командиры, как капитаны атомных подводных лодок, пользовались в армии особым уважением.
– Простите, товарищ капитан первого ранга, никак не думал…
– Мы с тобой уже не в армии, что здесь чиниться. Лучше послушай меня, старого человека. Вот ты в Афгане воевал, смерть видел, а может, и сам ее приносил. Тебе тогда в голову приходило, нужны были эти смерти или нет? От чего все это там творилось? Может, конечно, ты об этом не задумывался. Есть люди, которые о жизни и смерти не размышляют. Не берусь судить, плохо это или хорошо. Но, на мой взгляд, человеку очень полезно такие вопросы через голову пропускать. Я пропускал и знаешь, к какому заключению пришел, брат мой возлюбленный? К очень простому выводу я пришел. Не бывает человеков просто так. Все человеки различаются по их отношению к Богу. На самом верху стоят люди богоносные – истинные верующие, которых никакая сила не может заставить смертный грех совершить. Таких сегодня мало. А в самом низу людского рода стоят бесочеловеки. Это те, кто в предательстве и убийстве ничего дурного не видят. Они верят только в одного бога – в свое собственное благополучие. Ты таких немало видел. А между верхом и низом мятемся все мы, остальные. Кто больше, кто меньше грешен, кто понимает, кто не понимает свое окаянство, но дело не в этом. Главное, что мы подвергаемся влиянию и верха и низа. До каждого из нас доходят и сигналы праведников и примеры бесочеловеков. То есть, приглашают нас к выбору. Вот от этого выбора и зависит все в нашем народе и в нашей стране.
– Картинка интересная, хотя я ее другими словами нарисовал бы. Так ты полагаешь, что эти самые бесочеловеки нас еще не завоевали? А я как посмотрю на страну родную, на генсека, на правительство, на землячков своих, так рыдать хочется. Где же богоносные люди? Нет совсем!
Иван скрежетнул зубами. Что-то глубинное задел в нем калика перехожий, капитан первого ранга. Снова выкатилось из сердца раскаленное ядро обиды на родину, выкинувшую его в сварной каталке из своей жизни. На остальных людей, оставшихся равнодушными к нему.
– Ты от людей сердечности ждешь? Они вдруг все черствыми оказались? А сам, пока в инвалида не превратился, разве не таким же был? Мимо нищих, отвернувшись, не проходил? Попавшим в беду без колебаний руку протягивал? Милость к павшим проявлял? Значит, прежде чем на людей обижаться, надо подумать, а чем они хуже тебя, эти люди? Ведь ничем не хуже! Значит дело-то в другом, брат мой, в том, что все мы сообща такими стали и каждому из нас надо с собой разбираться. Ладно, пойду я. Уж прости ради Бога, коли что не так сказал.
Провожая калику взглядом, Иван едва смог побороть в себе озлобление. «Ишь ты, святоша рваный, тоже в божьи люди метит, – задребезжал в его голове чей-то гнусавый голос. – А как матросиков обворовывал, как санитарок драл, уж и забыл по святости-то своей. Мне, значит, инвалиду, на плаху совести ложись, а он вокруг Дивеева пузо отъедать будет. И что таких слушать?»
«Что такое? – подумал Иван. – Откуда голос этот мерзкий? Не мои же мысли, честное слово, не мои. Откуда они?». А голос затих или совсем сгинул из его головы. «Как интересно. Ведь чужой голос. Кто же мне в башку приходил? Или я с ума схожу? Но почему? Никогда на нервы не жаловался», – подумал он и перешел на то, о чем говорил Матвей. На свою прошлую жизнь.
Словно в обратной прокрутке кинофильма перед ним замелькали кадры из юности, а потом и из офицерской жизни.
Вот он, семиклассник, среди группы пацанов издевается над Хавой – полубездомным сыном пьющих родителей, приходившим в школу только потому, что некуда было деться. Кому-то из мальчишек пришла в голову мысль заставить Хаву петь «Интернационал». Они скрутили слабенького, недокормленного подростка, спустили с него штаны, под которыми не было трусиков, и суровой ниткой перевязали головку члена. Затем размотали катушку и повлекли его этой ниткой по коридору, заставляя петь гимн пролетариев. «Вставай, проклятьем заклейменный…. весь мир… и рабов…», – обливаясь слезами, срывающимся голосом хрипел Хава, едва двигаясь и конвульсивно припадая на обе ноги. Писюлька его стала совсем синей от удушающей петли. Среди этих ребят был и он, Иван, также тянувший за нитку. Им было очень весело.
А вот позже, уже выпускником школы, он взахлеб рассказывает друзьям, как учительница немецкого языка, двадцатипятилетняя Елена Николаевна, зазвала его к себе домой, что-то бурно говорила, а затем опустилась перед ним на колени, подняла рубашку, стала целовать живот и повалила на кровать. Потом она плакала, просила никому не говорить о случившемся, но Ванюшки хватило только на то, чтобы донести тайну до танцплощадки. Там он рассказал дружкам о происшедшем под их восхищенные восклицания, добавив и такого, чего не было. Тогда он упивался завистливым блеском глаз своих корешей и чувствовал себя героем.
А вот его армейская холостая жизнь по различным гарнизонам Отечества. Сколько их было, этих Валечек и Верочек, встретившихся на его пути? Все они влюблялись в него с простой сердечностью русской женщины, готовые ради любви на все. Ивану везло, среди его любовных связей почти не попадалось двурушниц. Но кончалось это для них всегда одним и тем же. Наступал момент, когда Иван посылал девушку на аборт, а некоторое время спустя заводил себе новую зазнобу. Его нимало не тревожила совесть. Уж таковы были правила жизни в гарнизонах.
А этот афганский мальчик, у которого ты отнял жизнь лишь потому, что не хотел сдержать в себе зверя? А Зафира, память о которой жжет твою совесть? Нет, прав, прав калика перехожий, капитан первого ранга. Сам дерьмо, и нечего на других пенять.
Что-то изменилось в сознании Ивана. Он потерял уверенность в правоте собственной жизни. А ведь это чувство сопровождало его всегда. И всегда, действуя в унисон с ним, он одерживал свои маленькие победы. Звонарь считал себя хозяином собственного бытия. Это было похоже на правду в том военном мире, в котором он жил. Даже став инвалидом, Иван вел себя как человек, находящийся на пути к самой главной победе – к победе над собственной инвалидностью. Но слова калики все перевернули.
Настала ночь, а Звонарь все не возвращался в дом. Он сидел в каталке, слушал последние посвисты птиц, смотрел на высыпавшую в небе звездную соль и думал о разговоре с Матвеем.
Капитан атомной подводной лодки, превратившийся в богомольца… Как это понять? Разве мог Иван представить себе нечто подобное еще полгода назад, валяясь в клинике Вишневского? Непонятный этот человек пришел в его жизнь и словно голову ему в другую сторону повернул. Ведь еще сегодня утром ты жил надеждой вернуться в прежнюю жизнь. Ты же за это боролся, Иван, с утра до вечера истязая свое тело. А в какую жизнь возвращаться собрался? В ту самую, в которой остались тени твоих мерзких поступков? К силачу-сержанту Сырятникову, которому ты намекал, кого из новобранцев надо приструнить? К тайным и явным слезам этих новобранцев, стонавших под ремнем Сырятникова? К попойкам с толстым жуликом старшиной Зуевым, сбывавшим налево солдатские сапоги и белье и приносившем тебе коробки с водкой и консервами? К слезам армейских беззащитных девчонок, по душам которых ты прошелся своими яловыми сапогами? В какую жизнь излечиться задумал, Иван?
«Боже, какая же я падла, какой гнус, чтоб мне лихо было! Ведь ничего доброго не сделал, только обманывал самого себя – защитник Родины, все для Отечества. Каким большим и могучим себя представлял, а сам – насекомое. Грязное насекомое… вот мне название», – приходило ему в голову и сразу же, словно в ответ, знакомый дребезжащий голос вклинивался в мысли:
«Пошли их подальше, Ваня, этих моралистов. Они тебя в навоз превратят. Сами гроша ломаного не стоят, а других поучают. Ты не хуже других был, а может, и получше многих. Страху не знал, за родину кровь проливал. Солдаты тебя любили, а ежели ты у них по мелочи что стянул, так Боже мой! Нам ли не знать, как генералы воруют! Да ты в сравнении с ними вообще ангел. Тебе ли убиваться! Живи со спокойной совестью. Ведь когда совесть спокойна, то и человек здоров. А то изведешь себя, изболеешься. От инвалидности не избавишься и помрешь раньше времени».
«Опять голосок пожаловал, – подумал Звонарь, – да и был ли он в отлучке? Может, просто притаился где-то в подсознании и наблюдал за моими мыслями. А теперь вклиниться решил. Похоже, два человека во мне борются. Один совесть защищает, а другой над ним глумится. И каждый по своему прав. Кого же мне слушать?».
Иван смотрел на отблески далеких зарниц над горизонтом, на темные очертания деревьев и снова ощущал присутствие вокруг чего-то таинственного и непостижимого. Из сырой, мерцающей дали, из черного, беззвездного неба, из глухоты леса к нему приходило теплое чувство любви ко всему, что существует вокруг. В сторону уходили беды, горечи, несбывшиеся мечты. А любовь все больше заполняла душу и трудно было удержать это чувство в себе. Так и хотелось громко закричать: «Я люблю тебя, люблю тебя, мир!» И словно вспышкой далекой зарницы в его голове сверкнула мысль: «ЭТО ГОСПОДЬ! Вот как он пришел ко мне – Любовью. ЭТО ГОСПОДЬ! – Звонарь облегченно рассмеялся. – Конечно! Бог – это любовь. Вот оно, наконец-то, случилось. Как же долго меня крутило, как томила меня лихая моя жизнь, а оно совсем рядом было, и пришло! Теперь я с пути не собьюсь. Со мною Господь, его защита. Как же просто все: еще сегодня не знал, куда душу приложить, а сейчас знаю: ее только надо Богу открыть и она расцветет, успокоится, примет в себя весь мир».
С каким-то неизведанным светлым облегчением Иван стал устраиваться спать, и, лежа на своей жесткой постели, почему-то вспомнил детство.
Вот бабка его читает перед сном Святое Писание, а он спрашивает, смеясь:
– Бабуля, ты, чай, Библию наизусть знаешь, а все каждый вечер бубнишь…
Бабка не обижалась и отвечала:
– И вправду, знаю. А все равно, каждый раз новое нахожу. Вот когда сам почитаешь, узнаешь, какая это книга.
Ваня опять смеялся, потому что знал, что никогда Библии в руки не возьмет. Чего в ней интересного, сказки про Бога, которого нету?
«А ведь малолетство мое до сих пор продолжалось, – думал Иван, – все в том же детском, безбожном состоянии ума находился. Значит, вот какое испытание понадобилось, чтобы я, наконец, вокруг осмотрелся и понял – как же нету? Везде он, везде его всевидящая сила, везде свершение судеб, незримыми нитями связанных с прошлым и будущим. Как же непросто все и как слеп я был…О чем заповеди говорят? Не убий, не возжелай, не предай… Все их нарушал. Убивал, прелюбодействовал, пачкал душу без конца. Думал, что никто не видит и не знает. А Бог все видел! Как очиститься, как сбросить проклятую ношу прошлого?». На память пришли рассказы бабки о хождении по святым местам. Ходили просить святых о здоровье близких, о рождении детей, о пропавших воинах, о заблудших душах. Ходили очищать себя от навалившихся грехов. Видно, и ему пришла пора вспомнить о древнем обычае.
«Покачу-ка я в Дивеево, к Серафиму. Хоть и нет сегодня там его мощей, а дух витает. Не зря туда со всей страны люди идут. Вот кого надо просить о помощи, вот кто поможет мне душу облегчить…», – пришла ему в голову простая мысль, и он уснул под звездным небом крепким, целебным сном.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































