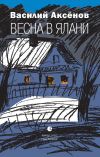Текст книги "Осень в Ворожейке"

Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
– Ничё, не брякнется, – сказал один из них.
И иной запах, дух иной сообщил, что долго в пути был брат, вспоминал долго, долго искал домой дорогу… Да, а?.. а это она, мать, так, это ноги у неё подкосились. А он смотрит на стену, и стена, привычная такая, меняет цвет, темнеет будто, и вертится, вертится в голове у него: снег будет – кости ломит, ночью дак не знала, куда ноги свои прямо деть, бери пилу хошь и отпиливай их. И снова так, будто половицы напряглись: это её, мать, с пола подняли, усадили на кровать – та проскрипела.
– Она рядом хочет, – говорит один из них, – вишь, маячит.
– А-а, дак возьми, подставь вон табуретку, – говорит другой.
А тот, первое сказавший:
– Табуретку уберёшь – поедет крышка – пол-то, вишь, какой покатый.
А другой:
– Ну дак и чё теперь, и табуретки, что ли, в доме больше нет… вон, хоть ту давай, чашку-то с картошкой… или чё там, подойди, сыми с неё.
А это её, мать, под руки так… к столам, наверное, поближе… скрябают по полу носками сапоги её… и обезволенное тело… села… Усадили, значит, мать… вцепилась… И всем легче будто стало: затихло в избе. И только там, на улице – в Раю, в обратную сторону ветер ворон погнал, и молча уж вороны, не горланят, словно все споры свои разрешили, шумят лишь крыльями. А тут, в избе, затихло. Может быть, и не оттого затихло – да и скорей всего не оттого, – что легче всем сделалось, а оттого, что – наоборот… А это она, мать, пальцами, видимо, в простыню… или что там? – под чем брат от света белого спрятался, – ткань так пальцам что-то сообщила, тонкая ткань, недорогая, и шелестом-то звук такой не назовёшь… и не шуршанием… шорох?… орох… рох… ох… «Х-хо-о-ох, Божа-а-а ты мой! – а это и не мать будто даже, а за неё будто кто-то, кто в человеке часто прячется. – Сыно-о-о-очак, ягнёно-о-очак родненька-а-ай, чё ж это с тобой такое-то, а? Да почему ты на меня не смо-о-отришь-та?» – это уже шёпотом, так, будто не дай Бог кто услышит, или, Боже упаси, кого разбудишь: спит как будто рядом кто-то. И ещё один голос, это уже человеческий:
– Пойдём.
И топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ через порог. И дверь – будто не вынесла – закрылась. «Во-от, теперь как раньше, – думает он, – теперь как раньше, как раньше теперь: брат… брат, мать и я. Как раньше. Совсем как раньше. И Сулиан, прослышав, в гости придёт скоро. И беседа будет долгой – допоздна, поди, продлится. И Фиста с Фостирием привет через Сулиана передадут – обязательно». И ладони ледяные медленно с груди, будто долой, да нет – с груди переползли на горло. «Не надо так, не надо, так же и задушить ведь можно, – думает он, – не время этому», – думает он. И плачет. И так ещё он думает: «Господи, Господи, отыми у меня уши».
А мать:
– Пашто же Ты, беспошшадный, у меня самое драгоценное-то забрал, а?! Не Отец Ты – хуже свёкра! – кричит она. – Своё Дитё родное и то чужим людям на воспитание отдал, а срок пришёл, не заступился даже! Бревно у Тебя заместо сердца-то! Ы-ы-ы-ы… сыночек ты мой ма-а-аленько-ой, золото ты моё-о-о-о…
А он уж головой под подушкой и с горла будто ладони ледяные сорвать не может и давит из себя: «Во бля, во бля-а», – а потом, чтобы слов материных не слышать, одно и то же несколько раз: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат». А голос матери и туда, под подушку, как струёй затянутая под камень тина, и мать тоже к Нему, к Господу: «Почему же Ты не отнял того-то у меня, с которым мне проститься было б легче, а?..» – а там, дальше, там не слова, там – боль, там – ревность… сына к Богу?.. или – к смерти?.. А потом кровь в висках, в ушах кровь: так-к, так-к. Так! Та-ак! Так ладно, так можно спастись, так не слышно матери, того ли, кто за неё там причитает… Когда хоронили деда твоего, плакальщицей была жена Семёнова, дурная женщина, но дело своё знала, уж и не скажешь ничего тут, такой уж жалобы подпустит… А потом звук этот… и он, звук, туда же, под подушку: там, на кладбище, бензопила завыла… А им чё, Семён приедет, тарыкалкой-то этой быстро дров им на зиму напилит, не лучковой, как мне, шоркать… Пила это такая, братуха, работает на бензине, бензин – топливо, как дрова, только жидкое, как вода… А тут уж как и не понять: лопатой её, землю, сейчас не возьмёшь. Бесы с ней так обошлись, не хотят, чтобы мирно, спокойно приняла земля, взяла себе то, что ей принадлежит, только летом земля ведь – как пух. «Да, нынче их ещё пока… их время», – так думает он. И ужимается он, ужимается под одеяло: её это, матери, взгляд? И бегут, бегут по телу мурашки, достигают бёдер, а там словно обрываются, словно падают и разбредаются по простыне: немые – что простынь, что ноги – не рассказывают о своих ощущениях, о жизни своей молчат. И злость и злость, а на что, на что? И хочется приподнять руку, дотянуться до мотающегося за стеклом стебля отжившей крапивы, стиснуть его сколь мочи есть, надломить, сорвать и растереть в порошок – пусть пропадёт, пусть сгинет, пусть проклинает своего губителя, но не мозолит пусть глаза. Но как заставить, как приказать руке – не оторваться даже ею, нет – и не скользнуть по одеялу? Хи-хи, не то умерла рука, не то крепко спит? И что за сон успокоил пальцы? Они бледны, бескровны – кровь спит возле сердца – не подпускает к нему беса. Но нет, вся кровь в висках, в ушах, перед глазами… красная наволочка на подушке?.. Но там подушка, на полу… «Вот Тебе, отчим, явись, сотвори чудо!» – это мать, но не сейчас, давно, до слуха его, вероятно, нет, до ума достигло только что – как эхо вернулось, отпрянув от стенки, которой подсознание отгородилось… Как с Понтием Пилатом торгуешься, болярыня… И тут, будто у рук ныне другой кто-то хозяин: сорвались с одеяла, поднялись сами по себе, к ушам прижались. А в голове, по мозгам, как муха по краю сахарницы, шибко прилипчивая мысль: «Как же это ложно, если мой ум – это и есть я». И кто за кем гонится, и кто от кого убегает, но по пятам за ней, за этой мыслью, злой, чужой голос: «Ты за своё опять, ну ради, ради… но почему тогда, скажи-ка мне на милость, они – ум твой и тело твоё – только и делают что дурачат друг друга, а то, что называет себя при этом „Я“, даже и не судья – куда там! – а мало что понимающий, мало во что посвящённый свидетель?» – «Да, я думал когда-то об этом», – говорит он. А злой, чужой голос смеётся так: «Ха-ха-ха-ох-хо», – и говорит, просмеявшись, вот как: «Ты не „думал“, забудь, как ненужное, это слово, ты даже не чувствовал, ты касался, как касается, не осознавая, земли или травы колесо телеги, да, да, да, да, и от всего этого мне забава… Корова думает, ты должен мыслить, да вот увы», – и снова злой, чужой голос смеётся так: «Ха-ха-ха-ох-хо!» – «Но что же мне делать?» – спрашивает он. «Оглянись», – говорит злой, чужой голос. «Не-е-ет», – говорит он. «Почему-у-у?» – «Я боюсь: там брат и мать мои – они раздельно». – «Оглянись, не бойся, там ещё никого нет, там нет, во всяком случае, пока ещё твоей матери. Ну вот, ну? Что ты там видел, что?» – «Я видел там твой зрачок, я видел в зрачке себя…» – «Нет. Не-е-е-ет! – перебил злой, чужой голос, – ты ошибаешься!.. я сам… прости… я сам не знаю, что за этим… как тебя зовут?» А он кричит: «Да ты, ты должен это мне сказать! Назвать ты должен моё имя!..»
– Эй, как тебя зовут?!
Он открыл глаза: жёлтая муть простыни. Он повернулся.
– Эй, как зовут тебя? – бородатый, в испачканных мазутом прыщах на лице, стоит перед ним, держит в руке накрененно стакан, колеблется в стакане брага. – А?.. зову, зову, – говорит бородатый, а потом будто рубит ладонью свободной руки воздух и говорит: – Да ни один ли хрен, как бы тебя ни звали, парень, ты как, брательника-то не помянешь?
– А-а-а, – отвечает он и отворачивается к стене.
А тот, бородатый, говорит:
– Хм, не знаю как, парень, – он, бородатый, пожал, наверное, плечами и отошёл – пьяный, наверное, – он сдвинул шумно стул и не сел на него – упал, а в избе после этого так:
Дрогнула лампа, тени взволновались, и за столом кто-то сказал:
– Ты не лезь, куда тебя не просят, выпил лишнего – сядь, посиди, клоун, тоже мне нашёлся.
А тот, бородатый:
– А чё такого я?.. Поговорить нельзя уж с человеком… я и сижу.
А ему снова:
– Ну всё, всё, парень, успокойся.
А если опять про тени, то на стене, возле него, отпечатались огромные стаканы, и рёбра у стаканов видны – это когда пусты стоят стаканы.
И знакомый уже голос:
– Всё, хватит, ребята, хватит, поехали, пусть люди тут маленько хоть очухаются.
А тот, бородатый:
– В бидоне-то осталось чё, допьём уж… всю ночь ведь ехать, ночь ведь целую мантулить! – и, брякнув головой об стол, заплакал и запричитал: – Ой, Дима, Дима, ой, бля-а-а, сука-а-а, – и сам себе: – Рот свой зажми-ка, падла, а!
– Ну всё, ребята, покатили.
– Да счас… теперь-то чё уж ты торопишься?!
– Ты ей скажи, пускай в дорожку-то плеснёт хоть.
– Ладно, не суйся к ней, не лезь. Знаю, где фляга, сам я зачерпну…
– Ну всё, поехали, ребята.
Но не сразу, посидели ещё, поговорили. А потом громко выросли их тени, сломались на потолке, заслонили свет лампы, покачиваются: подались. И застонали половицы – давно груз такой не держали. И они, мужики, спорят ещё на ходу о чём-то – не о похлёбке. А потом дверь будто вздохнула и долго выдохнуть не могла. И холодом по лицу и по рукам обдало: кожа гусиная на них так быстро – как вскипела. А шаги уже по крыльцу, по двору: звучен двор, как пустая, опрокинутая бочка, секрет доверишь – разболтает. А ворота, видимо, не закрывал никто – открыты были, потому что так, без стука всякого, выкатился на улицу разговор, но там, на улице, уже темно, ничего не различишь, да кому это и нужно? И скоро, скоро заглушил голоса рёв танкетки. И пробежал по пустому противоположному дому луч, сверкнул в уцелевших стёклах и провалился там, где они градом были выбиты или ветром выдавлены. И будто ещё темнее стало за окном, будто в ночь ночь вошла, удвоилась её темнота. И гул дизеля уже так тих, что тараканов возню опять стало слышно. Сколько их там, магометов, шептунов велиаровых? Он оглянулся: там, далее столов, на кровати сидит мать. Обхватила голову руками, телогрейка… в глине, а на коленях у неё тряпица белая. Да просто ли тряпица? Маленькая, с короткими рукавами рубашка… А, это – в школу, в первый класс… и во второй… в третий – мала уже… «Ма-ать», – прошептал он и отвернулся: и поплыла стена, сначала медленно, затем всё быстрее и быстрее пятясь, пока не вернулась по кругу на прежнее место. «Тут ты и должна быть, опостылая, замри», – подумал он. Послушалась, замерла стена, а когда он сомкнул веки, повторила свою выходку и растворилась. «Вот, видишь, даже глаза твои обманывают тебя», – произнёс злой, чужой голос. «Это не так, это от их усердия», – сказал он, помолчал, а затем говорит вот как: «А ты что, отныне постоянно будешь ко мне липнуть, даже тогда, когда не сплю я?» – «А разве я тебе сказал, что ты не спишь?» – «Не нужно мне об этом говорить, и без тебя я это знаю». – «В таком случае, проснись, проснись и послушай». И как рукой сон сразу сняло. И видит он: мать стоит против его кровати, смотрит на него, и не на него даже, а куда-то дальше или глубже, через него, держит в руках вафельное полотенце с вышитыми на нём петушком, курочкой и зёрнышками, теребит пальцами кисти и приговаривает тихо:
– Хм, язва, совсем из ума выскочило. И как я это про него забыла?.. ничё не пойму… на радостях-то растерялась… Ну да ладно – дело поправимое: догоню ещё, успею… Хм, а красиво, – сказала так и плечами пожала. И теперь в глаза уж прямо ему глянула. Серьёзная. Сказала: – Хм? – и повернулась. Пошла. И скоро дверь за ней захлопнулась: у-у-уть. А скрип этот? А скрип этот уже там, в сенях: в темноте мать, наверное, войти пытается в кладовку. Упало что-то – натолкнулась мать на что-то. И ещё: дзинькнуло что-то, так, словно пропело: дзэ-э-ы-ы-инь. Не так-то просто там – войти в кладовку. А брат когда-то говорил, чего там, в кладовке этой, только нет. И латаные-перелатанные мешки и кошёлки. И задубелые-перезадубелые шкуры: свиные, телячьи, овечьи и собачьи – все и не перечислишь. И горшки, целые и треснутые, и чугунки, и вёдра. И санки. И два портрета, нет, не родственников, так кто-то, а кто? – не знал брат, не знает и он, знает лишь, что из городского или яланского магазина были привезены они когда-то. И висели-то они, эти портреты, в той, другой, комнате, куда в ту пору он ещё не заезжал при побелках, а потом как-то заявился в гости подвыпивший Сулиан и сказал: «Ты сыми-ка его, жэншына, теперь, девка, не я один, все худо о нём говорят, да и того убери тоже – все они одним миром мазаны, к чему они тебе, жэншына?.. В избе не место им – и так темно-то вон как». А она, мать, выносила когда, дак той, обратной, запылённой стороной их развернула, умышленно так или случайно, от него или от Святых ли пряча, Богу одному ведомо, но он так и не увидел ни того лица что на одном портрете, ни того, что на другом. Да, так вот, были, говорил брат, в кладовке даже и литовки, новые и старые, острые и сточенные до основания – ничего не выбрасывали ни дед, ни мать… «Дед ваш, бывало, – говорил Сулиан, – палки суковатой мимо не пройдёт, всё кругом вон захламил… в ограде-то». – «А тебе-то чё за дело?! – сердилась на него за упрёк такой мать. «Да мне-то чё, – отвечал Сулиан, – я это так… это нормально». – «И сколько там крыс и мышей, – говорил брат, – всех не преловишь, не перебьёшь, гранатой только разве. Стоит лишь дверь открыть в кладовку, – говорил брат, – тут же с полок, с ларя и со стен даже… на стены-то вот как они, я не пойму, залазят?.. шмякаются на пол и разбегаются с писком во все щели, ох уж кого я не люблю, так это крыс уж… ох и противные, как падлы», – говорил брат. А когда в кладовку мать на ночь запирала кота, того, одряхлевшего, который сдох нынче, в конце августа, которого мать, плача, отнесла и закопала в лесу, кот скрёбся отчаянно в дверь кладовки и жаловался чуть ли не по-человечески, чтобы его оттуда выпустили. А он каждый раз упрашивал мать:
– Иди открой ему, то тошно слышать.
Мать отвечала:
– Чудак человек, чё ты за него так беспокоишься-то, чё ты жалешь-то, на то он и кот идь.
И только утром мать выпускала кота. Выгнув спину и задрав кверху растрёпанный хвост, кот вбегал стремительно в открытую матерью дверь, останавливался посередь избы, тряс башкой, будто поверить не мог в своё избавление и тому, что видит, затем медленно подступал к кровати и тёрся боком об её деревянную ногу, изуродованную его когтями и его предшественников, а уж потом, поглядывая на него и как бы испрашивая позволения, запрыгивал на постель, устраивался поуютнее и, засыпая после бессонно проведённой ночи, урчал так, будто треснула его мурлыкалка. И в дрёме уж, видно, бормотал что-то кот… но путанной была его речь, и духом кладовки несло от его… зелёной шерсти… А он, он будто лист, на который пала утренняя роса, тяжёлая, студёная, как обмороженная, обындевевшая свинцовая картечь. «Это так, это так, просто на животе моём выступил пот, – думает он. – Нужно перевернуться, опрокинуться, чтобы роса скатилась на простынь. Да, но как такое совершить? Бально уж крепок, упруг сторожок. Как справиться с ним? Каким усилием превозмочь его цепкость? Вот если бы ветер, с его бы помощью благой… Ну да, ты не трудись там прятаться, я уже слышу тебя, я чувствую присутствие твоё, я хочу задать тебе вопрос: коли мой ум сам по себе, коли само по себе тело моё, тогда тот, как ты говоришь, непосвящённый свидетель – не открывай, кто он, скажи, где место его? Да, можешь похихикать, и не отвечая. Я знаю: это то, у чего нет имени, а нет имени – нет и места. Когда называю я: мой ум – это только то, чем я осознаю мир мой, моё окружение, пусть даже моим воображением и созданное; когда я говорю: тело моё – это только то, чем я ощущаю этот мир, пусть даже ощущения эти – ложь; а когда я хочу сказать: Я – это то, чем я соприкасаюсь с… вот, видишь, мой черёд теперь смеяться, правда, я не умею это делать, кажется…» – «Тише, ты спугнёшь чёрный зрачок», – сказал злой, чужой голос. «Ха-ха, вот для чего тебе я нужен, нет, нет, обходись без меня, пусть тайна зрачка останется для тебя тайной», – он уже хохотал, и смех душил его, и он сказал сквозь слёзы: «А это так, оказывается, несложно…» – и раньше чем проснулся, открыл глаза он. И глаза его успели заметить, как освещённая лампой изба перевернулась, принимая то положение, в котором её и положено быть, но поспешила: там, вероятно в сенях, что-то опрокинулось, упало, загремев. Да вот ещё: будто вверх подоконником так и осталось окно, но лишь на миг – в тот момент, когда переступил он пределы отсутствия, и окно вернулось в своё обычное состояние – вниз подоконником.
«Так оно и есть: ты пришла», – подумал он.
– Явилась, – сказал он тихо и, оторвав голову от постели, закричал вдруг:
– И что ты мне скажешь, что?! Что сообщишь ты мне, тупая, немая и пустоглазая?! Кто, что, какая недобрая воля гонит тебя сюда и для чего? – для того только, чтобы попялиться в окно чужого дома на чужое, но не мёртвое, как у тебя, а полуживое всё же тело?! Зачем ты приходишь, дура, глиняная, пологрудая тварь, лишённая сердца?! И не твоя ли затея – эти богохульные сны?! А?! Только такой, как ты, может принадлежать этот замогильный голос: тише, ты спугнёшь чёрный зрачок! А?!
А она молчит.
– Ну, бессловесная?!
Молчит она. И веко у неё не дрогнет. Так только, будто едва лишь в сторону скосила взгляд. А там, за ней будто, ещё два зелёных, но более искристых, огонька вспыхнули. А те, ближние, её, глаза глиняной женщины, так, быстро, к нему как будто бросились. И будто решилась, вспомнила будто она, она сказала:
– Епафрас!
А его, его, как прут ивовый, молодой, гибкий, словно скрутил кто сильный и жестокий, так, что ноги, будто два сторожка одного сорванного, отнятого у ветви листа-уродца, туго переплелись. И смотрит он на мать, и любуется её добрым, юным девическим лицом, и говорит:
– Мама, а имя моё?!
И мать откидывает одеяло – и одеяло плавно, как будто брошенное в воду, оседает, и отводит мать рукой от лица густые, рыжие волосы – и медленно, сонно их рассыпание, и матово из-под них лицо, и поднимается мать с кровати легко, порывисто, и идёт к нему мать, босая, в длинной ночной рубахе, сотканной из льна, и глядит на него нежно зелёными глазами, и мягким, давно забытым голосом говорит мать:
– Спи, спи, мальчик мой, спи, Епафрас, не гневи ночь, радость моя, мой суженый.
И спокойно и благостно делается ему от прикосновения материнской руки, и ощущает он тепло и заботливость её пальцев, и говорит он матери: «Ладно, мама, я усну, теперь меня уже не пугает сказка». Тогда мать ласково обнимает его за шею, бережно берёт его на руки, выносит его из сумрачной, душной избы, выходит с ним в белое – то ли от снега, то ли от разбросанной по нему кем-то соли, а то и ваты – поле и опускает его в межу. И говорит: «Я тебе больше не нужна, Епафрас, а если ты хочешь, чтобы и та девочка обрела имя, нареки её сам. Но надо ли?» – и уходит. А ему вдруг трудно, так трудно убедить себя в том, что это была его мать. Как завороженный, смотрит он на её удаляющийся образ, на размывающиеся контуры её белой фигуры, увенчанной пламенем рыжих волос. «Как свеча, как свеча», – думает он, а потом произносит: «Женщина, женщина, женщина», – произносит он и уж ловит рукой что-то, что-нибудь такое, чем можно было бы исхлестать сладостно свои ноги, и уж чувствует приступ тошноты, и уж хватает с поля щепотку соли, но соль ли это?.. это – вата – рот она только забивает… А поле не прямо так, не горизонтальна его поверхность, а так вроде, как столешница, под которую вроде как для того, чтобы откатать по ней бруснику, полено с края одного подсунули, – наискось к небу поле. И к нему по полю сверху, от неба как бы, точка скатывается, вроде как одинокая брусничка. Приближается и вырастает. И видно уже, разглядеть впору, что не брусничка это, а красная, сердитая собака: нос в землю, хвост в небо – по следу чьёму-то идёт. Подбегает, разворачивается возле него и хвостом ему стегает больно по лицу. И горький, горький, совсем не пёсий, от неё запах. И во рту от него, от запаха этого, горечь. И в горле. И там, где-то под сердцем. И хочется ему извернуться, посмотреть, куда подевалась собака. И сил: с веками не ссилить, едва-едва лишь разомкнуть их. А поле уж и не белое – жёлтое, как в зрелой пщенице, с масляно-чёрными бороздами-провалами, – но нет, не чувствует себя он ни зерном, ни всходом и ни колосом, – и там, в небе, куда круто взметнулся дальний край поля, ослепительный сноп света, разбитый крестом, призрачным, с границами, нерезко обозначенными, плавно переходящими в свет, явно вливающий в него силы. И сил уже теперь настолько, что без боли, без особого напряжения можно глаза открыть – широко и не моргая. И будто сжимается свет, и крест будто обретает чёткие очертания. Ну да, он видел это, он это так часто раньше видел, ежедневно, с тех пор, как себя осознаёт… но дай Бог памяти, дай памяти, Господь… А свет уже в пределы стиснут, нет, не круга и не эллипса, не квадрата и не ромба – прямоугольника, а крест в нём… крест почернел, крест отделил себя от света резкими контурами и назвал громко своё имя: я – оконный переплёт! «Да, ты – оконный переплёт, – думает он, – но отчего ты там, будто на небе? Мне не привычно. И что за горница там, за тобой?» Но ни знака, ни звука в ответ – покойно, безгласно, только кузнечики будто где-то нудят. И напрягся он, выгнулся, и – словно освободили, выпустили из рук скрученный, свитый туго ивовый прут – распрямилось тело, стукнули пятки его по полу: нет в пятках боли, боль в локтях и в затылке только. И закачался потолок, а кольцо в матке дрогнуло будто, звон будто от него тихий отстранился, и кто-то произнёс будто: «Разогни его, Василиска, разогни, я изнемог по нему бегать». – «А отец твой, – так говорил когда-то Сулиан, – а отец твой, в смерть перейдя, тотчас глаза бы закрыл, если бы ты, – так говорил Сулиан, – если бы ты, жэншына, волю его исполнила – вытащила бы и разогнула это кольцо, а так, видать, вроде как с проклятием к тебе, жэншына, в Царствие Небёсное и вознёсся Харлам Сергеич… славный был человек, хошь и прижимистый, дак – благо». А мать всё же вынесла тогда Сулиану кружечку, сунула её ему сердито в руки и сказала: «Во, жалось-то кака, а! и чё это в ту пору тебя-то, пьяница, тут не было поблизости, а то бы подучил, подсказал бы мне, дуре». – «А ты не дерзи, жэншына, не дерзи… твой отец бы не одобрил», – Сулиан ей так, кружку от неё принимая. «А ты, смотри вон, не пролей-ка, – мать так ему. – Руки-то, эвон чё, как на ветру листок осиновый, трясутся, будто украл где чё, ли чё ли, парень!» – «Укра… украл, я у себя-то взять чё не могу, а то украл я». А он, он повернул голову и взглянул на материну кровать: измята, но не разобрана постель, а там, где давеча сидела мать, так до сих как будто и сидит она, но невидимо, незримо: не поднялось, не выправилось покрывало. И тогда – как в натопленную избу при открытой двери изморозь – вошла в его сердце боль. Вошла, освоилась, обжилась. А Сулиан говорит: «Отвернись, отвернись, дитя, отвернись – и голова не будет кружиться», – сказал так и коснулся ладонью лица его и отвлёк внимание его от материной кровати. И тогда взглянул он и увидел на полу и на подоконнике осколки стекла. И больно, больно глазам на их острых гранях, но рассеян он и не заботит его это. «Отвернись, отвернись, дитя», – говорит Сулиан, говорит и, как над хворым, головой покачивает опечаленно. И тогда выше взгляд: разбито стекло в окне, а там, за окном, разгул белого на белом и белым по белому. Огрузли от снега ветви берёзы, успокоились под тяжестью. И на ствол берёзы снег налип, сырой потому что снег, ряндой зовётся. И жерди палисадника сверху будто ватой обложены. А что там, дальше? – пустого противоположного дома не разглядеть, не узреть сопки Медвежьей. И залетают в избу снежинки, и по доброй будто воле, и не спеша, не суетясь, ищут место своё на жёлтом полу, ложатся, оседают – и происходит с ними после вот такое чудодейство: перевоплощаются они в капли, расползаясь, впитываются в половицы, и остаётся от них, от капель, имя лишь – сырое пятно, – и так всё просто. «И так всё просто», – говорит Сулиан и тихо-тихо, как среди спящих, разбудить которых грех, затягивает псалом на Покров Пресвятой Богородицы. И лицом к образу Божию. И крест на себя двуперстный. А там, в углу, под божницей, нахохлившись, будто курица на седале, приник к полу филин с перебитым крылом. Бездумны, будто незрячи глаза птицы, однако так, словно в упор глядит, око в око, будто тупа её, птицы, мысль, но надсадна: ну что, мол, сделаешь со мной ты? «Ох и какая же потеха! – а это он уж так, губами шевеля едва. – Ну, что ты скажешь мне?» – и засмеялся, но не он, а брат его. Засмеялся брат, распахнул резко полы телогрейки и выпустил большую, взъерошенную пёструю птицу. Взметнулась птица к потолку и тут же пала тенью на пол, а оттого пала, что шнурком привязана за лапу. «Эт-т он какой красавец-то! К Адашевским на чердак сослепу да с ознобу залетел, мороз-то был под шестьдесят, – говорит брат и смеётся и снова говорит: – Да окстись ты, окстись – филин же это, это – фи-илин. Окоченел гад, застудил мозги, – говорит брат, – хоть и доха на ём пуховая, ишь, лапы-то, как деревянные, по полу-то, как колодками, бряцает». И приоткрыл брат дверь. И пустил птицу в сени: окна тут ещё повышибает, мол. И ощутил он тогда холод. И перевернулся он на живот. И поджал под себя руки. И горькое что-то в нос. И тогда приподнял он голову и увидел на жёлтом полу зелёную, как тина, лужицу, туго стекающую через щель в подполье. «И всё так просто, – подумал он, – я чист, я чист, как после поста». А тина? Тина, тина… «А что такое – тина?» – спросил он у брата. И брат ответил ему так: «Тина?.. а хрен бы её знал… зелёная-зелёная, в воде с августа болтаться начинает, на плёсе от неё дак и веслом не прогрести бывает». – «Как что?» – спросил он. «Да как… ничто… или как эта… как слизня, – сказал брат, – только при ней уж в речку лучше не залазить… то задолбают чиряки». А там, под столами, там черным-черно от грязи, там множество растоптанных окурков. И так шершав пол от натасканного на ногах песка, что локти от него как будто на огне горят, пылают. И тут мать, будто – чего с ней сроду не бывало – подпила будто на праздник, домой из гостей возвращается и частушку громко так, на всю Ворожейку, поёт пронзительно, и будто не бранные, но богохульны слова той частушки. А Сулиан ей, издали ещё ей Сулиан, а прежде-то дак и в стекло пальцем постучал и возле виска своего им покрутил: «Пуста башка твоя, жэншына, пуста, как жалуток после поста». И смешно Сулиану, и брату смешно, и ей самой, матери-то, смешно смехом пьяным, смешно слышать её слова, сказанные Сулиановым голосом. А тут, в сенях, так студёны плахи пола. Двери сенные настежь – свет белизною по глазам нещадно лупит. Курицы толкутся в сенях, обычно мать сюда их не пускает. И за сенной порог, в сени, снегу набило – лежит сугробиком, подтаивает. А там, на крыльце и дальше – в огороде, вату будто уложил кто аккуратно, чистую, белую, совсем не такую, какую мать когда-то настёгивала в телогрейки. И только там, где, звонко шлёпая, капает с крыши, – лунки, и в лунках, заглянуть в них если, – жёлтое, промытое дерево крылечных досок. И локти – не огнём уж будто жжёт их, а – железом раскалённым. А там, сзади, захлопнулась дверь в избу, а за дверью глухо так, вроде как опять голосом Сулиановым: «Сквозняк вон какой – ничё себе – свищет, и закрыть, зараза, некому». А тут, словно обронил кто и надавил бруснику, от крыльца пятна красные. И дальше пятна, к хлеву, как будто ниточка с бусами разорвана и брошена. И следы вдоль ниточки – будто ниточку в хлев затянул кто, а назад ни с ней, ни без неё будто так и не вышел. И белый, едва различимый на снегу, петух с розово-сизыми, будто обмороженными, обмороженными и есть, лапами и гребнем, переступает от бусины к бусине и склёвывает их, да молча так, не зазывая к себе куриц. А там, возле хлева, под навесом двора, куда снег не проник ещё, в сухой, тёплой сенной трухе лежат, в разные стороны рылами развернувшись, две свиньи, лежат и похрюкивают: тебе, мол, девка, ладно ли? – ладно, а тебе? – и мне, мол, ладно. И кто-то, не то брат, не то он, Сулиан, долго очень и много, припоминая и припоминая что-то, с ним будто когда-то даже и случившееся, толкует о свинье, а после о ковчеге Ноеве, но глуха, словно эхом задавлена, неразборчива речь. А тут, а тут и хлев открыт. И овцы в хлеву, в клетушке заперты отдельно, блеют. И в навозном зёве его материны руки с синькой кручёных и верчёных жил, и зажато в руках белое вафельное полотенце с вышитыми на нём петушком, курочкой и семью зёрнышками – словно бусинами на снегу, – на которые с вожделением заглядывает петушок, а ниже если – материна юбка, не шелохнутся складки её, а ещё ниже – ноги материны. И не удержалась, сползла с одной ноги калоша, под ступнёй стоит, из-за порога ободок её бордовый лишь и виден. А Сулиан говорит: «Он родился в деревне Вифлеем, в Иудее, – и ещё говорит: – И туда, в хлев, а по-нашему, дак – стайку, люди Ирода войти не сдогадались». – «Ну да ладно, – говорит мать, – дело-то поправимое: успею, – и смотрит на него и говорит: – Хм?» – «Тупай, тупай, тупай с Богом! – барабанит в стекло оконное и кричит ему Сулиан. – Ты на неё-то не смотри!» – «Да я и так… и так», – шепчет он, вжимая голову в плечи. А там, под снегом, земля мёрзлая, изуродованная, торчит шалыгами. И больно от них локтям. И раздирает грудь – яркой звездой шалыга каждая. Но вот и она, улица, вот он и Рай, и снег в Раю только птицами райскими – сороками да воронами – исхожен. И так беспечны, бессмысленны, так причудливы и несерьёзны письмена следов их. На то он и Рай, конечно. А брат склонился прямо к уху его и говорит: «Смотри, смотри, снег вообще болтлив, а первый уж и вовсе – всё расскажет, выдаст, какой и чьей ноги ему доверен отпечаток, какие у кого подошвы – у меня вон, полюбуйся, „ёлочка“, – откроет. А тут, – говорит брат, – видишь? Кошка была, давно была, слабо следы её уж обозначены. Ночью ещё топталась возле палисадника, кралась по жерди, затем сидела, вжавшись, на столбе – линяет, видишь? – чёрную ость оставила, потом… потом – вон, видишь? – на суку берёзы… И спрыгнула, в лес подалась, к листвяжной выскори», – говорит брат. А оттуда, издали, от своего дома, со скамеечки, кричит ему Фиста: «Ты где видал ещё такую дуру-то, совсем одичала, нас уж со стариком не признаёт! Да не дура она, не ду-у-ура, болярыня, так уж это я, люблю её, холеру, хошь и не кошка она вовсе, а велиар!» – а когда он проснулся, её, Фисты, уже не было на скамеечке, не было и скамеечки, и дома не было, а было только пепелище. И ворона лишь с амбара: «Дур-р-ра, дур-р-ра!» – победила. И падают, падают на шею снежинки, заносит глубже под рубаху их, но крестец для них пределом: далее – немота. «Господи! светел, светел мир Твой, – шепчет он, – славься Имя Твоё, Господи!» – и так, в снег лицом – отрадно. Чуден запах оживающей земли – отходит под покровом. «Спасла землю Богородица от беды и страданий!» – с крыши избы своей кричит ему Сулиан. А там? – там пустой противоположный дом с отвалившейся, отмучившейся наконец-то ставней. И мир праху её, и земля ей пухом. Пусть растворится в глине, пусть душой войдёт в павшее в глину семя и возродится деревцем… А там, дальше? – там ветхая изгородь затянутого сплошь бурьяном огорода. А по огороду, подминая хрустящий стылый дудочник, подталкивая руками облипшие снегом и чёрнозёмом колёса своей тележки, катается зло Фостирий. Озабочен старик, напряжённо, внимательно смотрит он то на ивовые прутики, что на коленях у себя расположил, то вперёд, то оглядывается по сторонам, и не гаснет клич при этом на устах его: «Где ты, где ты, сука оперная?! Один ведь хрен найду, не скроешься!» И дай-то Бог тебе, Фостирий. И только воздух гудит. И только локти кипят. И только тут, где тропинка, не видна стерня – вытоптала её корова. А сама тропинка – так с ней: чем она дальше, тем она шире, и в устье её – там, за речкой, на белой поле сопки, те двое, и на ней косынка красная… да нет, тебя так просто обмануть. Это кипрей запоздавший – осенний цвет. Розовый. И косынка не красная – алая. «И жарки, и черёмуха, и марьин корень иной раз среди осени лепестки выпустят, – шепчет он, – к затяжному, затяжному теплу и к дурной, лютой зиме поздний цвет, так говорил Сулиан. О, Господи, Господи! светел, светел Твой мир». И только локти горят, кипит в них кровь, сочится, выкипая. И только грудь палит – о звёзды бередилась… И вот уж она, Така. И вот он, крутой-крутой и высокий яр, о котором так много и часто говорили брат и Сулиан, а мать про который и слышать не хотела. А там, внизу? – чёрный круг омута. И так, что даже тальник береговой не видит в нём себя, не видит, а потому и в существование своё не верит, если впечатление о себе создаёт верное. И снежинки до поверхности омута будто не долетают, так, не коснувшись воды, и гинут. И перевернулся он на спину. И расплелись его спутанные ноги-сторожки. И сказал он:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.