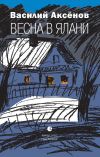Текст книги "Осень в Ворожейке"

Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
И о… совсем как будто постороннем
Одиночество журавлю доставляло радость. Он много бродил по полям и болоту пешком, наблюдал со стороны новых, не виденных им ранее птиц, дивился их поведению: легкомысленным оно ему казалось. Подолгу он останавливался перед цветами, которых прежде не замечал, и оставался доволен их раскраской. И цвет неба был ему приятен. И уж будто вернулось к нему равновесие душевное. Но скоро он стал улавливать в душе своей какое-то беспокойство. Прислушался к себе журавль и понял: гнезда ему не хватает, заботы о нём, о гнезде. Тогда забрёл он в середину глухого, топкого болота и принялся строить гнездо. И громко, громко при этом старался хлюпать ногами по болотной жиже журавль, пытаясь заглушить поднимающийся изнутри в нём голос природы, голос матери, голос яйца, из которого он когда-то вылупился, и того места, конечно, где это произошло…
Бумаги нет – мать извела всю бумагу – чистила ею стекло от лампы, фонаря и стёкла в окнах; нет и карандаша – летом ещё унёс его Сулиан, чтобы надписать им на ульях пасеки своей время рождения и облёта маток, а принести назад, видно, забыл; пробую, пробую написать, Макей, тебе мысленно…
Осень в ноябре
Солнце зарделось, повисело сколько-то над взмытым к небу горизонтом да и закатилось, ощупывая лучами с той, с западной, стороны лишь верхушки сосен и лиственниц на Медвежьей. Восточное лицо сопки уже погрузилось в слепой полумрак, зажмурившись: спит – не добудешься и до рассвета. Над соснами и лиственницами, будто норовя их задеть, не дать спокойно приготовиться ко сну им, плетутся на юг потрёпанные на севере, обозлённые на весь мир тучки, борзые, разнузданные, словно мародёры, – сзади их войско. Лучше избегать – лучше не смотреть сейчас на небо: выть хочется, хочется натянуть на голову одеяло, хоть и не станет от этого, конечно, легче, станет только хуже, так как все ощущения замкнутся сами на себе, ну а мысли: тем позволь – и не рад будешь, не остановишь, не заглушишь их, тогда, действительно, уж взвоешь… Он взялся за Служебник, отложил его, раскрыл Святцы, но долго их читать не смог. На полу, возле кровати, лежит ещё одна книга: «Страсти Христовы» – но лень потянуться, лень обхватить пальцами толстый кожаный переплёт её, не достанет сил поднять и положить книгу на одеяло – лень даже и помышлять об этом. Те книги, которые в свой последний приезд оставил ему брат, он знал уже чуть ли не наизусть, а всё заученное, – подумал он, – это уже не твоё, это уже и не Его, это – Велиара, а Его – Богово – только то, что в сопровеждении совести блуждает по сердцу или в нём покоится, что каждый раз как будто новое, а затверженное, оседая в уме, обретает форму, которой пользуется дьявол, – так подумал он. А ещё он подумал: обрела ли та девочка форму? – подумал и отвлёкся, прислушиваясь: мимо дома с посвистом проносится тяжёлый ветер, ищейки его пронырливые – сквозняки – бесцеремонно залетают во все щели и в трубу: у-у-у-у-ую, – распугивают всё, что ещё сохранилось в деревне от лета, чтобы нигде и духу его не было, – будто так приказано ищейкам. Гулко на улице – промёрзла земля. Издали ещё корову слышно – возвращается домой из леса, – словно и не по земле идёт она, стуча копытами, а по простуженному небу, по застылому ли деревянному настилу из сухих, дуплистых брёвен. Гремят когтями во вдворе собаки – шалыги там. Уже несколько раз, проснувшись до свету, он иней принимал за снег, тот иней, от которого к одиннадцати-двенадцати часам дня оставался на траве и на изгороди палисадника лишь разноцветный водяной бисер, если при солнце, то игривый: радужно переливается, лучисто перемигивается – мир Божий славит. Крепкие уже случались зазимки. А этой ночью он никак не мог согреться, старательно подтыкал со всех сторон под себя одеяло, сверху на грудь клал подушку – никак – зябко и неуютно, а будить и просить мать, чтобы она его укрыла ещё чем-нибудь помимо одеяла, он не решился: в последнее время мать сделалась ещё пугливее. Она уже помыла рамы и подоконники; говорит, что завтра, будет жива-здорова если, начнёт вставлять. И когда она проходит рядом с его кроватью, от её одежды, от её обветренного лица и обыганных рук пахнет стужей, пахнет улицей, пахнет угрюмостью и тоской. В передней, где и стоит сейчас его кровать, мать уже уложила на подоконники мох, украсила моховые валики шишками, ягодой и засушенными впрок цветами саранки. Красиво, и дух в избе иной: скоро зима, зима – как вечность. Да, скоро зима, а снега ещё нет. Он снова посмотрел в окно. Теперь и сосны, и лиственницы забыли про солнце, до тучек лишь лучами и дотягивается. Как там сейчас – на улице? Осенью легче дождаться ночи, чем утра. А чего, собственно, ждать, чего? Ведь и утро, и утро-то в ноябре редко приносит радость, всего-то что – подкрадётся и сообщит: вот вам и ещё один угрюмый, нудный день, распоряжайтесь им как вздумаете. Зато вечером можно, вздохнув, сказать: ну вот, слава Богу, он и кончился. Как там сейчас – на улице? Он помнит, тогда его запеленали плотно. А такими долгими казались сборы. Но на самом-то деле: брат приподнял его, мать подсунула под него байковое одеяльце, сложила ему на груди крестом руки, закутала – и готово. И до сих пор вот, стоит только обратиться к памяти, касается ноздрей тот воздух, кожи лица – лёгкий, прохладный ветерок, и возникает перед глазами примерно такой же, как нынче, ноябрьский вечер. Только в отличие: в свежевыпавшем снегу дорожка: это следы больших материных калош, это – «ёлочка» от кирзовых сапог брата, которыми, пока они были новыми, брат очень гордился. «Солдатские», – говорил о них брат. И ещё: отпечатки когтей и подушечек – это за матерью по пятам, клянча у неё кусок хлеба, бегали собаки. И петух, с рвано зазубренным, обмороженным будто гребнем, петух, которого днём мать с братом не сумели поймать и закинуть в стайку, стоит возле крыльца и перетаптывается – он, дескать, сдался, он обмозговал свою ошибку, на всё согласен он теперь, мол, лишь бы не морозить лапы… И вот: быстро-быстро брат несёт его в дом. А там, в бане, его раздели и положили на сполоснутый прежде горячей водой полок. Мать возле каменки, подоткнув юбку, о стиральную доску шоркает бельё, а брат, намылив вехотку, трёт ему спину. Трёт и поёт: «В далёком от дома Колымском краю, в кедровом бору куковала кукушка…» И ещё: мать фартуком смахивает со лба у себя пот и говорит: «Следи, Макей, чтоб он с полка-то у тебя не соскользнул там». Он слаб, ему сделалось дурно, его наскоро вытерли полотенцем, а когда растворили дверь бани, навстречу им рванулся клуб изморози, он это помнит, а после так: темно и тихо. И какая-то желтизна в памяти – как горчица. А на следующий день проснулся он рано и услышал, как мать говорила Макею:
– Ну, чё, вишь, Бог гневится – баню пожёг, выносить станем – осердится вовсе – и избу спалит. Тут его место, Господу так угодно, и перечить Ему неча.
А брат ей ничего на это не ответил, брат сидел около громко потрескивающей еловыми дровами печки и лепил из пластилина, который ему привёз из города Сулиан, какую-то избушку, потом брат поднял вверх на ладони то, что вылепил, и, взглянув на него, сказал:
– Это чё, ты думашь? Это – баня.
Так с тех пор купали его только в избе, так с того раза он больше и не бывал за пределами этих стен и довольствовался переездами на кровати по комнате, а когда мать устраивала в избе побелку – из комнаты в комнату и одну ночь провёл даже на кухне… А вот и сгустился мрак, вкрался в избу незаметно. Можно взглянуть на образа, но толку-то от этого – чёрный провал там да и только. Да он туда и не смотрит, он наблюдает за своими пальцами – трудно ими пошевелить, в них уже проник, отяжелив их, словно заполнив оловом или свинцом, из одеяла сон. Левый мизинец слабо подёргивается, он уже дремлет, спокойного ему сна, пусть снится ему другой мизинец. А безымянный?.. Безымянный глаз не сомкнёт – ищет своё имя. И локти не дремлют, локти засыпают в последнюю очередь. Да, но почему? Да потому, что кузнечики всегда наизготове прыгнуть, выскочить из самого глубокого и интересного сна, из самой высокой и густой травы, загораживающей им небо. А если не прыгать кузнечику, если просто взять и раздвинуть ему стебли? Тогда другое дело. Можно и так, так даже лучше. Ну вот. И что? Там кто-то есть? Там мужики играют в карты. А ты не лежи, ты прыгни, – говорит чужой, злой голос. Ну, ну. Вот так. Ну, получилось же. А там? А там: в «двадцать одно»? – на лучок, на чесночок, на заварочку, а можно и на табачок, махорочку желательно, а? Нет? Нет, ну и не надо. Мы так и знали, что откажешься. Бедному жениться – и ночь коротка. А злой, чужой голос искушает: ну и что, ты прыгни ещё, ты спроси у лошади. – Возле непомерно длинного бревенчатого здания, развёрнутого к нему, как на иконах иных храм, тремя сторонами, видит он пасущуюся нестреноженную лошадь. Он оттолкнулся локтями, взлетел, приземлился рядом с лошадью и спросил у неё: это конюшня? – Лошадь отвлеклась от жиденькой, блеклой травёнки, изрядно уже пообщипанной мужиками, как плечами, пожала лопатками и сказала: не знаю, милый, не знаю, зайди-ка сам да посмотри. – Он: скок-скок-скок – и уже в тёмном и сыром помещении. Посередине проход, расширяющийся к концу, конца не видать, конец как бы там, за облаками. С двух сторон этого бесконечного прохода нары в три яруса. А на нарах иконы сидят, безмолвно, понуро: Никола, Георгий, Параскева, Иоанн, Кирилл, Пётр, Павел, Леонтий, Моисей, Исайя и Сулиан. Павел обращён лицом к входящему, приподнял Павел глаза, увидел его и выронил из рук Евангелие: бум-м… Он проснулся, взглянул, повернувшись, на скатившийся с одеяла на пол Служебник, но не потянулся за ним и посмотреть даже не захотел, на какой странице распахнулась книга: не всё ли равно, – так подумал он, так приказал себе он.
– Напугал, язви тебя, – это, вздрогнув, сказала мать. Она сидит за столом и что-то штопает. И не нужно поворачиваться в её сторону, чтобы это понять, достаточно поглядеть на её тень. Не доверяешь тени, взгляни в окно. Ну вот, и удостоверился: там, за окном, в такой же комнате с покатым, но в противоположную сторону, полом, расположилась, работая, мать. Видна половина лампы, другая – за косяком, если чуть сдвинуться, можно увидеть и всю, но нет надобности. Видна дверь, видны полати… Он утянул голову в плечи и пальцами вцепился в пододеяльник: с полатей – с тех, что за стеклом, – уставились на него два зелёных огонька, как всегда почти не мигающих, холодных и безразличных. От неожиданности – её давно уже так не было – он не сказал, а, скорее, подумал: «Она глядит», – подумал вслух. Там же, под огоньками, снова вздрогнула мать. На окно не оглянувшись, она отложила штопанье и исчезла из виду – ушла в горницу, где скоро скрипнула крышка сундука. Он видел – видел, когда мать белила в избе и кровать с ним перевозила из комнаты в комнату, – он помнит этот сундук, сундук обит жестяными лентами, а получившиеся при этом ромбы окрашены в три цвета: чёрный, голубой и зелёный. И понял он уже, он не ошибся: мать появилась с большой суконной шалью и, укрепив её на гвоздях, занавесила ею окно. Делала это мать с закрытыми глазами, с закушенной губой, а он подумал так: «Ага, зажмурилась… а то ведь».
– Зачем? – сказал он.
– А чё тако? – спросила она.
– Она сказать мне что-то собиралась, – сказал он.
– Ай, не мели-ка всяку чепуховину, – ответила мать. Она подняла с полу Служебник и, захлопнув и обтерев подолом книгу, положила её на табуретку возле него. И ещё она сказала: – Молока нету, сам знашь, картошки вон поешь, – и так уж, на пути к столу, не оборачиваясь: – И чё ты всё молчишь? Чё всё молчишь-то?! Рот открыть тебе, ли чё ли, трудно?
– Ладно, – сказал он, – ночью поем.
– Ночью, – сказала мать, – уже и ночь, – и села на своё место и занялась прежним делом, что-то под нос себе нашёптывая.
Шаль на окне, как и тот сундук в горнице, в чёрную, зелёную и голубую клетку, только шаль ещё и: с разноцветными по краям кистями. Окна из-за шали не видно совсем, не видно даже косяков. А почему про шаль? – потому что он перебирает глазами кисти, мысленно их расплетает и пытается при этом вспомнить сон. И как часто бывает: вот оно, будто рядом стоит, будто касаешься его боковым зрением, поворачиваешься осторожно, опасаясь спугнуть, и на тебе – всё равно ускользает. Трудно его уловить, ещё трудне сдаться, тем более, если знаешь, что в любом случае, коли проявишь должное упорство, уцепишь за край облачения, под которым оно скрывается, и вытянешь, обязательно вытянешь, нужно только обмануть его: сделать вид, будто ты устал и отказываешься за ним гоняться. Ему станет скучно – без этой, конечно, игры, – и оно выплывет само, так, возникнет вдруг, что удивишься, несмотря на то, что ждал, как раз на это и надеялся. А для этого: не меняя положения, заставь себя думать о чём-нибудь постороннем, но только так, чтобы не увлечься, чтобы всегда держать в поле зрения тот уголок одежды, за который ты намереваешься ухватить то, что пока не даётся, иначе скроется, затеряется в тайниках сознания, куда мысли твои могут и не добратсья, разве что так, когда случайно. Но о чём думать? О ком? Ну вот, например, об этом: обрела ли она, девочка, форму? Нет, дьявол не успел её коснуться, Господь упредил его, призвав её к Себе. И это всё, всё, что ты можешь сказать? Нет, нет, просто будет больно об этом думать сейчас, в эту пору суток и года, когда Бог на время, до снежного покрова, всю землю отдаёт в пользование бесам. И он взглянул на образа непроизвольно. И караулило будто, будто поджидало момент – между ним и иконами возникло видение: роняет Апостол Павел Евангелие: бум-м… Хм, ну вот, поймал, обманул. Только почему же Павел, а не Пётр? – подумал он. А затем он подумал так: не всё равно ли.
Свистит ветер, гудит в дымоходе, завывает диким зверем – дымоход для него игрушка. У пустого противоположного дома бьётся ставня, которая скоро, вероятно, отвалится: давно держится на честном слове лишь – на одном шарнире, правда, на верхнем, а так ветру труднее с ней справиться. Интересно – так думает он, – когда это случится? Днём? Ночью? Зимой или летом? Окажется ли он свидетелем, придётся ли ему быть очевидцем этого? Или так: проснётся он, посмотрит в окно, а её, ставни, уже нет – сорвалась, в бурьян упала. Истлеет дерево, перержавеют гвозди, однако рано или поздно это произойдёт, вопрос лишь времени. Но какое ему дело до этой ставни, если ей самой, наверное, без разницы, болтается ли она, постанывая, на оконном косяке, отлетела ли, ахнув, и оказалась в лебеде и крапиве? И всё-таки нет, он помнит, у ставни в последние дни, после минувших проливных дождей особенно, такой вид, будто единственное, чего бы ей теперь хотелось, это – достичь земли, успокоиться, влежаться и войти в неё, в глину, чтобы потом, быть может, неважно когда, вытянуться из неё молодым крепким деревцем и стать, неважно чем, пусть даже опять ставней, пусть даже зыбкой для младенца, пусть даже в другом месте, и так, сквозь дрёму деревянную, припоминать будто бы даже и не с ней случившееся, давнее, давнее: с нагретой солнцем ладно сработанной скамеечки, что возле палисадника с плетёной изгородью, обхватив до блеска отполированные за долгую службу палки ходулей тонкими руками, отталкивается пронзительно визгливая, белоголовая девочка и… Будто вокруг избы всё кто-то бродит, постукивает по стенам, трётся об дверь – так всегда, когда сильный, порывистый ветер налетает на деревню, и так обычно для осени поздней, подумал он. И передёрнулся. А оттого передёрнулся, что пришла на ум сказка, которую в детстве ему и брату рассказывала мать, рассказывала всегда почему-то в ноябре, когда вечера глухи, темны и бесконечны, когда она, наверное, даже и пожелай, не смогла бы вспомнить иной, более весёлой сказки. Дослушав, а порой ещё и нет, эту сказку, брат покидал всегда свою и перебегал в потёмках скоренько в постель под одеяло к матери. Он оставался у себя на месте. И ночью ему хотелось дико закричать: «Перенесите же меня к себе, боюсь я!» Но страх был настолько силён, что не только кричать, а и губами-то пошевелить было нельзя – немели губы, да и они, мать с братом, уже спали. А сказка была такой: «Старик в тайге нечаянно с мядмедем столкнулся, повздорил с ём из-за какого там пустяка, какой-то ерундовины да и отсёк в сердцах ему топором лапу. Вернулся старик домой и говорит старухе своёй озабоченно: таки вот, баба, дела, мол, вот тебе мядмежья лапа, не знаю, чё с ей и делать? – Ну чё, чё, – молвит старуха, а сдрешна она была маленечко, – из шерсти я себе… и тебе, еслив останется, рукавицы свяжу, а лапу – чё же ещё? – суп сварим из яё да похлебам свежатинки в охотку. – А жили они в деревне на самом отшибе, возле самуёй тайги, звать еслив кого, дак не дозовёшься, кричать – не докричишься. Ну дак и вот, значит, обкорнала старуха лапу, шкуру ободрала с яё да под себя для тепла и мягкости на лавку подложила, сидит кудельку прядёт, песенку срамную про мядмедя мурлыкат да трубку посасыват – курящая была старуха, видно что корня-то не нашего, а остяцкого, шибко старику бакуном да дымом-то досаждала, – а старик – тот опустил лапу в горшок с водой, лучком, чесночком сдобрил – суп варит. Темно за окном – глаз хошь коли, тихо – голоса живого не слыхать, только мыши в подполье шороборятся – спать укладываются. Готова у старухи пряжа, рукавицу перед лучиной начала вязать, а старик варит суп да пробует, пробует да нахваливат: ох и суп, ну и суп – не развяжется ли пуп. – Ты эдак-то всё, пробуя, не слопай, – говорит старуха, привыкла во всём старика своёва ушшэмлять, как работника. А крыльцо ходучее у них было, времени старику всё никак не удавалось выкроить, чтобы подкрепить яво, подчинить да чуть подправить, – говором говорит крыльцо, стоит листу осиновому на яво упасть – и застрясётся, как Июда. Как уж старуха старика с крыльцом-то не пилила, как уж над стариком-то не куражилась – завтре да завтре – один ответ у старика на это. Ну дак чё, значит, старуха рукавицу довязыват, за вторую намерена взяться, пряжи хватит ли, не хватит ли, прикидыват, старик суп довариват, пенку снимат. Помолились да ужинать было сподобились. А крыльцо-то тут и говорит им: стук-стук клюка еловая, топ-топ культя пихтовая, тяп-тяп нога костяная. А мядмедь уж и у двери да и спрашиват человеческим голосом: тут ли старуха живёт, что на моёй шкуре сидит, песенку срамную про меня поёт да из моёй шерсти рукавицу себе вяжет? Тут ли старик живёт, что из моёй лапы суп варит, пробует да нахваливат? – Молчи, – велит старику старуха. Молчит старик, яму и приказывать не надо – обомлел от страху. А мядмедь опять там за своё: тут ли старуха живёт, что на моёй шкуре сидит, песенку срамную про меня поёт да из моёй шерсти рукавицу себе вяжет? Тут ли старик живёт, что… – У старика и ложка из рук выпала да об пол брякнула. – Тут, тут, – говорит мядмедь, – тут, коли помалкиваете, не одманете. – Перепугались старик со старухой до смерти да и попрятались кто-куда: она – на печку, под корыто там, в три погибели скрючившись, забралась; он – на полати, и ситом накрылся. Лежат – не дышат – словно камни. Вошёл мядмедь в избушку, отыскал стариков и съел их… От идь». Сказка сказкой, но всё равно крестилась после этих слов мать: помилуй, Осподи. – И пощёлкивал в лампе фитиль. И подёргивалось на нём пламя. И двигались чуть заметно в избе тени. И таился по углам ужас, поджидая, когда же, наконец, задуют в лампе огонь. И рассказывала мать, на каждый звук сама оглядываясь, а то и вздрагивая, и, между словами сказки кидая взгляд на образа, скоро и тихо что-то шептала. Брат такими вечерами уже не выбегал на улицу – мать ставила для него возле печки помойное ведро. А он – он натягивал на глаза одеяло, пугался ещё сильнее, откидывал одеяло и пытался разговорить брата, пока тот не уснул, на какую угодно тему: про школу, про интернат, про Ялань или про электричество и электрический свет. Но брата – того тоже страх терзал, наверное, и ничего, кроме медведя с клюкой еловой и культёй пихтовой, на ум ему не шло. Так было во время его каникул, а после каникул становилось ещё хуже – брат уезжал. Нет теперь тех ощущений, сейчас уже и не понять, отчего же делалось так жутко? – жутко не за стариков, которых уже съел медведь, и не столько за себя, как за брата и за мать. В холод бросало от любого шороха на крыльце, от внезапного стука ставен, от рожи за окном, не явной, пусть даже нарисованной воображением, – у страха велики глаза. И самое странное, что не сам медведь был причиной того ужаса, медведя собаки и близко бы не подпустили к дому, медведь воспринимался так: как маска, в которую рядился страх, а то и как рука, которую страх протягивал из окружившей Ворожейку тьмы, медведь – образ, принятый одним из бесов, снующих за стенами дома и не проникающих в него только из-за Святых на иконах да конской попоне благодаря, попоне, которую мать кое-как выклянчила у Сулиана и постелила на полу, – боятся бесы, дескать, поту лошадиного. «Конь ржёт – беси дрожат: Георгий скачет», – так говорила мать. Да, но вдруг Святые отвернутся? А вдруг нипочём бесам конская попона? А вдруг… – и так бесперечь и без конца – словно бегом по колесу. И как одно, самое верное будто, спасение и поддержка надёжная теми же вечерами: до поздна – до первых петухов порой – доносилось до них громкое, но нестройное пение псалмов, которые затягивали запьяневшие Фостирий и Сулиан – то по отдельности, каждый из своего дома, то собравшись в чьём-то одном, – чередуя святое голошение с матершинными частушками, которым певцы, возможно, тоже отгоняли бесов из себя, от себя и от Ворожейки. А когда до материных ушей начинали долетать неристойные куплеты, в любом месте сказки – или посередь другого какого занятия – мать прерывалась и говорила так: «Ух, ироды, ух, латынники, ну ясно дело – нити уж не тянут», – сказав, плевала в пол, как бы в сторону поющих, стелила постель и заставляла их с братом спать, головы прикрыв подушками. Но разве можно было после этого уснуть. Всю ночь на крыльце скрипел деревянной ногой медведь, всю ночь старуха пряталась на печи, старик забирался на полати, а к стёклам окон льнули поганые бесы и бесенята. А стоило только задремать, как отворялась дверь и… и всё по новой.
– Ну дак чё, гашу я лампу, – это мать, вставая с табуретки и откладывая рукоделье.
– Гаси, – это он, поправляя одеяло.
Мать подставила ладонь преградой к стеклу лампы, дунула – тени метнулись, набросились и съели свет, как будто только этого и ждали. Стало темно… как в могиле, если повторить за матерью, – так подумал он. Стало темно, как в погребе, – так бы об этом же сказал Сулиан. А Фиста: темь несусветная, болярыня… И тут же будто добрая и мягкая рука лица коснулась, и добрый и певучий голос произнёс: спи, спи, наступит утро скоро… И будто только что ожили, загомозились на печи и полатях тараканы, вороша там луковую и чесночную шелуху. Своя, особая у тараканов жизнь: тараканья – тараканьи мысли, тараканьи заботы, тараканьи радости, обиды и беды. А тут, прямо перед глазами, ползёт один, будто тот, вывалявшийся в муке словно, Мельник, ползёт без цели, на одном месте, просто лапками перебирает, а под мышкой у него Евангелие… да и он ли это? – это тот, другой, Сулиан… А Павел там потому, наверное, что Пётр устал очень, из сил выбился и Павлу передал ключи… У Петра не выдержали, поди, нервы… и… И почему сказка казалось такой длинной? Не рассказывала же её мать целый вечер, нет, повторял рассказанное ею страх и… И опрокинулась тьма, и с потолка будто пал плавно на пол Мельник, и потянулось густое, чёрное отсутствие. Да и отсутствие ли? Это огромный чёрный зрачок. – Это огромный чёрный зрачок, – сказал злой, чужой голос. А он ответил: я так утомился за день, сказка так меня уморила, что сил моих осталось только лишь спросить: а какая разница? – А злой, чужой голос захохотал: ох-хо-хо-ха! – А он лежит и молчит, и ему кажется, что из матраса сквозь его тело, сквозь одеяло и его руки прорастают побеги гибкого ивняка. – Вижу, вижу, – говорит злой, чужой голос. – А твои ноги мхом, я вижу, покрываются, ха-ха, ха-ха! – О, теперь смейся, смейся, смейся сколько посмеётся, теперь, если даже мне и захочется, я не смогу – ты видишь, скован я побегами, – я не смогу тебе повиноваться. – А мне этого и не нужно, – говорит злой, чужой голос. – Зачем мне это? Я просто сказал: это не отсутствие, это – огромный и чёрный зрачок. – И что мне делать? – спрашивает он. – Это не тот вопрос, который ждал я от тебя, – говорит злой, чужой голос. – И что мне думать? – спрашивает он. Тогда злой, чужой голос так ответил: что твоё действие? – ты представляешь сам; что твои мысли, которых не способен верно ты истолковать, которые подсовываю тебе я как осколки разбитого кувшина, а ты из них склеиваешь горшок, а когда склеенное пытаешься показать матери или брату, те начинают суетиться вокруг тебя взволнованно и приговаривать: успокойся, успокойся, – и прикладывать к твоему лбу мокрую тряпицу – разве всё это не забава для меня? Забава. – Что же тогда, что? – спрашивает он. – Лежи, – отвечает злой, чужой голос, – смотри, как скоро разрастаются живучие побеги ивняка, слушай, как рвут они ткани твоего – нужного, или, скажем так, полезного больше земле, дёрну, чем тебе – тела, и не делай никаких выводов, каких либо обобщений не строй – всё, что идёт от твоего ума, ложно. – Как это ложно, – говорит он, – если мой ум и есть я, а какой смысл… – Вот видишь, – говорит злой, чужой голос, – ты и запутался, а уж время просыпаться… да и мне пора… ха-ха… – и будто там, с обратной стороны темноты, готовой опрокинуться в исходное положение, стали удаляться шаги: тук, тук, тук, тук…
Тук, тук, – но так не в дверь, это мать молотком колотит по гвоздю.
Он открыл глаза и спросил у света, и свет не медлил, свет ответил ему тут же: восьмой час очередного дня, а мрачно оттого, что с севера нагнало туч, стиснутых между собою так, будто сильный, напористый ветер дует-старается на них сразу со всех сторон. А мать стучит? – раму вставила на кухне, закрепляет. Начала с окна в кухне, доберётся и до этих, к обеду везде, может, вставит… если, конечно, Бог дозволит.
«Накопится тепло, выживет из-под кровати стылость, и постель сделается уютнее», – так он подумал.
– Сон сёдня видела дурной: рясную-рясную, крупную-крупную да чернущую-чернущую смородину как будто собирала, а потом грядки вроде как вздумала полоть, – чувствуя, что он проснулся, говорит с кухни мать, сама с собой ли рассуждая. – И то плохо, – говорит, – и это… Да будто полю, а знать не знаю, чё у меня на грядке-то посажено, так всё сплошь и повыдёргивала, а это вовсе уж к худому… и чё ждать, к чему готовиться?
«Все сны у тебя к худому, редко уж когда к хорошему-то», – подумал он.
А там, за окном, трёт ветер об стекло пересохшим, озябшим стеблем крапивы: ы-ышь, ши-и-и-им. И трудно спросонья глаза от него отвести, слезятся глаза – двоится в них стебель.
– Господи, да это чё же, стерня до сих пор ещё вон не сокрыта, – говорит там, на кухне, мать. – Ну, уж и нынче еслив снег не выпадет, тогда, видать, и вовсе уж его не жди. Севодни-то уж должон, глянь, небо-то. Будет, будет, ага, зря, ли чё ли, кости-то всю ночь мне выворачивало.
«И снег у тебя каждый день идёт, с Покрова начиная, и ноги у тебя каждую ночь выворачивает», – думает он, слыша, что говорит на кухне мать, а смотрит всё на тот же стебель, но уже так: его не видя. И ещё подумал вот как он:
«Странно – разговорилась, прорвалось в ней что-то, наверное, или ворона, может быть, в капкан попалась?»
А мать закончила работу на кухне, ведро, видать, подхватила – дужка у того звякнула, – в комнату направляется. Занавеску отвела рукой свободной. Вышла.
– Там, у тебя, картошка свежая, только что испекла, поешь, – говорит мать, кивая на табуретку, что находится у него в изголовье, и ставит ведро возле окна. А потом напряглась так, будто слушает, будто понять хочет: был гром, или ослышалаь? Не гром, конечно, так это, к примеру. А он давно уже уловил этот звук, но поверить не может.
– Трактор, ли чё ли, где туртычит? – говорит мать, замерев, словно сердце у неё кольнуло – то уж кольнёт, так неожиданно. И вроде как ей дурно сделалось: присела на лавку, помолчала. И говорит:
– Чё бы это? – и голос у неё ослаб, будто после долгого, тяжкого недуга. И тут же вроде как саму себя и успокаивает: – А может, мимо кто?
«Нет, не мимо, – думает он, думает, но не произносит, – не мимо, это – брат. Но тот ли, Макей, родной и близкий, или другой, имя которому чужое – Дмитрий? А если всё же мимо? – думает он. – Если мимо, значит – Дмитрий – один ответ. В сопку, надрываясь так, поднимается, скоро перевалит, – думает он, – а перевалит и не пойдёт по хребту, тогда и гадать нечего: только сюда, больше-то некуда», – и в груди противно засосало.
И мать птицей взметнулась с лавки, закружилась юлой по избе, то одно хватает в руки, то другое – прибирается, но не от ума так, а с переполоху.
– Ой, тошно мне, – говорит.
И снова, ноги у неё как будто отказали, опустилась на кровать, в угол с божничкой глядит вопрошающе, рокот ухом слушает, слушает телом бегущий по мёрзлой земле гул, а сердцем душе своей внимает – та ничего не отвечает, не подсказывает, опять к божничке – там молчок. А потом и говорит вдруг как бы ни с того и ни с сего:
– Снег будет – кости ломит, – и сорвалась с места, к окну подбежала, к стеклу прильнула, смотрит.
– Где же они? – говорит. – Это, – бормочет, соскальзывая лицом по стеклу. – Макеюшку… неживого везут, – и будто бы не она последние слова произнесла, а за неё кто-то.
А ему встать захотелось, захотелось уйти, так вдруг захотелось, что на лопатках даже ножки будто маленькие, цыплячьи, отрастать начали – так захотелось. А там, за окном, над сопкой, стая ворон, и не летит будто, а словно ветром её, как ворох листьев чёрных, сорвало с земли и гонит, а грай вороний – ничему тот не подвластен – во все стороны, и ветра против, и хоть уши затыкай от него – до того громкий… А он приподнялся на локтях, напрягся, в глазах – будто дробь серебряную кто рассыпал, упал головой в подушку, отвернулся к стене лицом и закусил губы. И обдало его стужей – это мать выскочила из избы на улицу, дверь второпях оставила открытой. Гулко шаги её по заледеневшему двору, двор – как колокол – зычный. И ворота хлопнули. И собаки пустились в заливистый, зарный лай – трактор уже показался, наверное. А по звуку судя, и не трактор это, а тягач или, как называл когда-то брат, танкетка, такая же, как та, на которой привозили как-то Семёна к покойным старикам Адашевским. А потом, вероятно, напился до беспамятства вместе с Семёном водитель и долго куролесил на танкетке против их окон и даже наехал, подмяв сгнившую уже изгородь палисадника, на стену заброшенного дома, в котором жила когда-то девочка, летом ходившая на ходулях, а зимой прыгавшая с крыши в снег, и уснул, наверное, за рычагами, так как всю ночь, работая, с задранным передом и простояла у дома танкетка и уехала оттуда только утром: следы гусениц её и до сих пор на стене различимы. Точно, точно такой же звук, разница лишь в том, что воздух сейчас звонкий, осенний, а тогда было лето – глох в духоте и в зелени рокот. Вывернулся он лицом к окну. А там, на улице, мать стоит. И явно: заметила она уже танкетку – в одно место, в одну точку глазами впилась, ничего ими не выискивает. Руки у матери к груди прижаты – так: ладонь на ладонь, с левого боку. А тут уж и кровать под ним мелко-мелко затряслась, стёкла в окнах тонко-тонко зазвенели – совсем близко, по Ворожейке едет машина. Не рвутся встречать танкетку собаки, побаиваются, рядом с матерью, хозяйкой своей, крутятся, трудно предположить, чем собакам представляется танкетка, может, домом, может, стогом сена, ожившим вдруг, ползущим и ревущим. К палисаднику отступила мать. За жердь ухватилась. А танкетка подъехала, развернулась, уркнула и остановилась возле матери. И водитель танкетки выпрыгнул, и тот, что с другой стороны в кабине сидел, хлопнул дверцей, обошёл с носа тягач, матери на колени глядит – лицо у него в мазуте, брови кустистые, так густы и лохматы, что глаз под ними не разглядеть, глядят глаза его как из засады. А мать плавно, замедленно, будто он во сне это увидел, осела на землю. И собака около неё хвостом повиливает, будто обрадовалась собака – на новых людей в Ворожейке редко доводится подивиться, думает, наверное, что и у хозяйки такое от радости. Остальных собак поблизости не видно, на расстоянии держатся. А там, сзади, из-под брезента танкетки ещё трое выбрались, ноги разминают – и они делают это медленно, будто и их всё в том же сне он видит. И опять он к стене отвернулся, а на стене потрескалась прошлогодняя глина, замысловат рисунок трещин. А на грудь ему словно чужой и злой кто-то положил свои ладони ледяные, и не для того будто, чтобы согреть их, ладони, а того будто ради, чтобы ему холоднее стало. «Макей, Макей, – шепчет он. – Макей, а не Дмитрий, – и не замечает, что шепчет, полагает, что думает, губы стиснув. – Макей, ты теперь отсюда не уедешь, мы обо всём теперь с тобою, брат, перебеседуем». А там, в сенях, топот уже такой, будто каждый идущий на плечах своих ещё одного несёт. И один из идущих, тот, что налегке, забежал в дверь, оставленную матерью открытой, стол на середину избы оттащил и на кухню сбегал и с кухни, посуду с него наспех спихнув на лавку, стол приволок, к первому его впритык подставил, и всё это так, что можно подумать: торопится человек. А те, что порог переступили грузно, что-то тяжёлое на столы опустили, выдохнули из лёгких одновременно воздух лишний, отошли и раздвинулись будто – и запах свежеструганных досок сосновых, острый, незримый – новый дом у брата, без изврат. «Сейчас, – думает он, – увидит брат кольцо, на котором висела его зыбка, и вспомнит всё о них. И о себе. О имени своём, конечно. Но, может быть, и нет, может быть, он так устал, что и смотреть ему покуда ни на что не хочется, и сил нет для того, чтоб веки приоткрыть, а приоткрыть теперь их чтобы, ох как много сил-то надо – своих не хватит». А те, что пришли, осторожно приподняли лёгкое уже что-то и, слуху если доверять, едва слышно к стене приставили, подправили, чтобы не упало, чтобы по полу не съехало, табуретку вплотную ещё к тому придвинули – подпёрли.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.