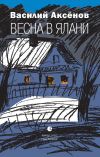Текст книги "Осень в Ворожейке"

Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Машинально повернув голову, он хотел, наверное, взглянуть где мать, но от резкого, неловкого движения свело мыщцы шеи, и перед глазами поплыли, разбегаясь, словно волны на поверхности медленно текуще воды, взволнованной брошенным в неё камнем, серебряные круги. Так же, без осознания, но менее поспешно, он принял прежнее положение и, приоткрыв рот, выгнул шею. Круги поблекли, будто патиной подёрнулись, а через некоторое время, словно серебро растворилось, исчезли совсем. Потолок прокрутился вокруг кольца, вбитого в потрескавшуюся повдоль матицу, и замер, ещё минута – и обрёл свой настоящий цвет, превратившись из пепельного в бледно-голубой, – таким и должен быть по цвету потолок, если в глину при побелке была добавлена синька. Боль в мыщцах унялась. Он громко выдохнул, сомкнул губы и, расслабившись, вытянулся на кровати. Забавно, подумал он, на это кольцо из зыбки глядел ещё его дед. Глядела мать. Глядел брат. Глядел и он сам. Он как будто даже помнит свою первую на нём сосредоточенность… А когда дед умирал, говорит мать, одной рукой он натягивал на лицо одеяло, другой – указывал на кольцо и, хрипя, словно горло кто спешил ему передавить, полагая, что кричит, сипел шёпотом: «Вынь его, Василиса, вынь, Бога ради, и разогни, я устал по нему бегать». Так, говорит мать, и отошёл в вечность с застывшими, утратившими земной смысл глазами, уставленными на кольцо, – так иногда рассеянно живой человек глядит за предмет, – и указывающей на него рукою. Руку его отвела мать и, скрестив с другой, уложила их ему на грудь – тут дед смирился, – а вот глаза, как ни пыталась, так и не смогла закрыть – не подчинился. Выходит, дед видел всё, пока его не похоронили. А что он мог видеть? Кольцо. Когда выносили из избы – потолок и дверной косяк. Когда провожали до кладбища – пасмурное небо и, может быть, гребёнку ельника. Затем – края могилы и склонившиеся над могилой к нему, с чуждым, уже непонятным ему выражением, лица прощающихся. А потом?.. Под оглушающий гром глины по крышке домовины… Он перевёл взгляд на окно. А потом дед видел, наверное, только себя, вытянутого, успокоенного, отдыхающего девять, а то и все сорок дней перед тем как толком собраться с мыслями, подумать хорошенько, вспомнить данное ему при крещении имя и подыскать самые верные, самые необходимые слова для встречи с…
Постепенно вниманием его завладела улица. Лёгкий – возможно, оттого, что тёплый – ветерок разгуливал там, тревожа безропотные ветви берёзы, заворачивая оставшиеся ещё на них листья, обескровленные, источенные насекомыми и начавшие уже тлеть. «Скоро, – подумал он, – перетрутся отработавшие своё сторожки, и последние листья облетят на землю, туда, где и положено давно уже им находиться». А там, за берёзовыми ветвями, над Медвежьей, октябрьский небосвод, особенно после стольких дней непроглядной хмури, радует, ласкает взгляд поразительной по чистоте и тону голубизной, такой же, как на самой большой иконе, которую подарил когда-то деду яланский участковый Истомин, где за белым облаком, на котором, потонув в нём босыми ногами, подняв в благословении два перста… Сулиан, а кто такой – Истомин?.. Раньше он знал о музыке лишь со слов Сулиана и брата. А тут ощутил вдруг, что впервые слышит её наяву, как шум дождя, как крики птиц, как лай собак, как шелест паутины, как стук ворот, как скрип ставен, как голос матери. Музыка спустилась над впавшим в спячку папоротником, покрывающим сопку, заполнила, как розовый, озарённый восходом туман заполняет речной створ, Ворожейку, вошла в него и коснулась каждого органа, каждой клетки тела и – чудится, чудится! – будто разлилась по ногам, шевеля, двигая, как клавиши, их пальцы. Впитывая музыку, он чувствовал, что с каждым звуком её становится всё более невесомым, как лист, как выпавший из крыла птицы пух, как воздух бабьего лета, как солнечный луч, скользнувший по стеклу. Он приподнимается над постелью и подчиняется воле сквозняка, который подхватывает его и бережно выносит в окно. А там, в розовом тумане, по улице, заросшей высокой травой, навстречу ему на тонких, долговязых ходулях идёт она, маленькая девочка… но странно: в зимнее одета… «Дур-р-ра, дур-р-ра!..» Он вздрогнул ещё во сне, как от громкого неожиданного аккорда, которым зло так и нарочно пошутил один из музыкантов будто. Он открыл глаза. По суку берёзы, раскачивая его, топчется ворона и зычно каркает, мол, вот и я – невеста, да, прилетела, разрешения ни у кого не спрашивала, теперь здесь посижу, а чё, мол, мне – свобода не заказана. Брат говорил, что ворона долгое время обитала во дворе у Сулиана, Сулиан будто бы и обучил её этому дурному слову, а потом как-то и от двора своего её отвадил. Своим маленьким чёрным зрачком, слегка наклонив при этом набок голову, ворона вгляделась через стекло в избу и, увидев, наверное, его и оценив его как возможную угрозу, каркнула ещё раз: сказала, дескать, посижу, значит – посижу, – и развернулась к нему хвостом. «Сама ты дура», – подумал он и посмотрел на мать. С испачканным сажей лицом, напомнившим ему обгорелое лицо той женщины, что обрезала во сне ему крылья, и с чёрными руками, покрывающими колени, мать сидит на кровати. И только ногти у неё будто розовые. И только пальцы слегка подрагивают. И будто снова, снова где-то настраивают инструменты, словно испуганные чем-то и разбежавшиеся в разные стороны музыканты, блуждая по лесу, разыскивают друг друга, осторожно – одной-двумя нотами давая о себе знать, находят, сближаются, – и будто снова зарождается музыка. И музыка – как свет, как цвет, как тёплые волны прозрачного воздуха, а на волнах её вместе с кроватью качается мать, а на волнах её раскачивается изба, лавка и стол, а потом всё опрокидывается и уносится ввысь, удаляется в точку, в ничто, в беззвучие, а это значит, что потянулось дневное отсутствие с нелепыми снами – не снами, а с вами, с кусочками изображений; с лицами – не лицами, гримасами, ряжеными в чудных масках; со словами – не словами, с бульканьем, урканьем, кваканьем, кряканьем и ржаньем – то есть с тишиной; со знакомыми – не знакомыми, так, где-то мельком виденными; с мыслями-половинками, четвертинками и восьмушками; с разрастающимися пятнами, полосками и убегающими наутёк чёрточками; с погружением на дно и приближением к поверхности; с…
И о другом, как бы причастном
Ему говорят, что в Елисейске хоть пруд ими пруди – так много красивых девиц, есть будто и красивее гораздо, чем она. Он не знает, не видел. Может быть. Может быть, он толком не представляет, что такое – красивая девушка. Может быть. Но он и не спорит, он соглашается: наверное. Он любит её, и для него красивее, чем она, нет никого, как нет для многих никого добрее матери. И ещё ему говорят: плохо, когда свет клином сходится на одной… У тебя зелёные глаза, не как трава майская, нет, как трава в августе, которая долго смотрела на солнце и устала. И когда я делал тебе больно, зрачки глаз твоих расширялись – и от зелёного оставался узенький лишь ободок – тоньше волоса. А когда ты оборачивалась к яркому свету, я уже знал и успевал заметить и подумать: ну вот, так же быстро, как ряска на озерине, куда бросили камень. А больно, ты сама знаешь, я тебе делал… ну, словом, я до сих пор такой же неловкий, стыдно… И волосы у тебя красивые, мягкие, так, будто в тёплой воде пальцы… Я и сейчас будто касаюсь их – так помню. Ладони помнят. Ты прости меня. Похожие… ну, издали, конечно… я видел у девочки… лет сами-восьми, на крыльце стояла тут, недалеко, а чья, не знаю. Но у неё только сейчас такие, похожими не останутся, выгорят или наоборот – потемнеют, не останутся… Я её постараюсь увидеть. Не скоро вырастет. Я узнаю её имя, но не думаю… И ещё: на правой руке у тебя, выше запястья, мелкие, как метки тонкого пера, родинки, и если между ними прочертить несколько линий, то получится буква: «Д». Я пытаюсь думать: «Дом». Почему я раньше никогда не говорил тебе об этом? Потому, что можно прочертить и так, что ничего не получится… или что-то странное, непонятное… то есть ничего не получится…
«Вот так, вот так… и вот так, – и он прочертил острием ножа по столу. – Ничего… как и раньше. А так? И так ничего… то есть странное что-то, лучше думать: „Дом“», – сказал он.
А когда я сжимал твои пальцы, зрачки твоих глаз расширялись так, что… может, это оттого, что ты смотрела на… нет, нет, мне легче думать о себе плохо…
Он выпил.
«У водки какой-то синий привкус», – сказал он.
…что… словом, там ничего не оставалось, кроме двух чёрных провалов, из которых выглядывал я, маленький, противный и ненавидящий себя – большого. Ты прости меня. А я – я тогда так: долго в постель к тебе я не ложился. Я курил тогда на кухне – тут о времени, а не о кухне. В этом доме, думал я, я впервые остаюсь на ночь, и ещё я думал: теперь я здесь буду жить. На кухню то и дело входила, выходила и снова входила твоя мать, ей, наверное, хотелось показать, что – я так думаю – спать сегодня она не собирается. Много у неё в голове её такого, непонятного, хотя… И ещё мне казалось, будто перед этим я проглотил нечаянно окурок: от курева горело в горле. И всё равно – докурю, – так подумал я. Твоя мать в ночной голубой рубахе – и тут, на кухне, и там, за окном, – я про отражение, которое видел, на которое смотрел. А в голове у меня – смотрю, – а вертится такое: моя бы мама никогда так. Ты прости меня. Я бросил в форточку докуренную папиросу и пошёл к тебе. Я выходил из кухни, а она склонилась над раковиной, дело там у неё какое-то было, не знаю, не посмотрел, я тогда подумал: они – ты и твоя мать – очень похожи, только одной из вас восемнадцать, другой – тридцать семь. А там, в коридоре, возле вешалки, я подсчитал: всем нам вместе семьдесят восемь. Один Фостирий – есть в Ворожейке старик такой – старше всех нас заодно взятых, – так я подумал, открывая дверь нашей комнаты, это для того, чтобы не думать: сейчас, вот сейчас я буду лежать рядом с ней – то есть с тобой. Ты не делала вид, будто спишь, ты сказала: это ты? – Я сказал: нет, привидение, – и ещё я кашлянул, это: мол, ничего особенного, я спокоен. И ещё я думал, что не терплю в коробке, там, с другой стороны от этикетки, обгорелые спички, я никогда не засовываю туда использованную, надгоревшую спичку, то есть: я думал, что я думаю об этом, то есть…
«Господи, что я несу тут», – сказал он.
…ну не терплю ещё, когда пижоны оставляют у коробка нетронутой одну – одну из двух – серную сторону, так её называя… то есть: лишь бы о чём старался думать. И всё равно… ничего у меня не вышло.
Он налил водки, выпил и лёг на диван.
Да как же так?! А?! Там, в Бауманском парке, с Королём, с Ментом и с их дружками безыменными, там, с еле тёплой от вина или одеколона, пропахшей мочой и перегаром бичихой Нонкой, которую потом выгнали из города, кажется, в Ялань, там всё это получилось, даже при том, что озирались от страха по сторонам, стоя на стрёме и ожидая когда подойдёт очередь, когда поманит Мент или Король, когда дождался… и потом…
Он поднялся, сел снова за стол.
Он сказал:
«Ту сторону коробка пижоны называют: целка».
А на следующую ночь то же самое. И на третью. И на четвёртую. Ты помнишь. И всё это молча, как будто творили незаконное, дурное, Богу противное дело. И дыхание её, матери твоей, за стенкой… И с глаз не идёт образ распластанной на сырых, не успевших влежаться в землю ещё листьях Нонки… А тебе, теперь-то знаю я, тебе нужно было просто сказать: «Макей», – провести рукой в родинках по моему лицу и закрыть ладонями мои уши. Ты прости меня. А потом…
А потом я напился. Меня кто-то довёл до дома. Я всегда стараюсь думать: «Дом», – но не этот… А там, на кухне, наверное, стояла она, твоя мать, я не помню, тогда я забыл, что она есть вообще, – дыхания её я не слышал. Я даже не прикрыл дверь нашей комнаты, я даже не выключил свет, чтобы в темноте перед глазами вдруг не возникла груда листьев. Утром ты всё мне рассказала, но не было мне стыдно, мне было так: спокойно: как-то когда-то из этого нам нужно было выйти…
А просто свет: свет мне сказал: зелёные глаза – значит – ты, у той, у Нонки, не было глаз, вместо глаз у неё были узкие ивовые жёлтые листья, прикленные слюной к глазницам, а рот её был запечатан синей изолентой – так сделали дружки, так они с Нонкой поступали часто, когда подлавливали её в Бауманском парке. И ещё: спросил у Бога я: «Так ли всё это?» Бог ответил: «Да» – Он промолчал, но это ведь – согласие… И ещё: я проснулся, я вытянулся в постели и сказал: «К нам в магазин…„тринадцатый“, или какой он?.. завезли вчера бутылочное пиво», – хотя похмелья у меня почти и не было.
А то, другое, – это уже после, когда отправили тебя в роддом. Я всегда стараюсь думать: «Дом», – но и не этот… Я долго не выглядывал из своей комнаты, я ждал, когда уйдёт с кухни она, твоя мать. Я думал: как они похожи, хотя и… Часа в два ночи я вышел, я закурил, я слышал, как открылась её дверь. Она подошла, она посмотрела на меня как-то иначе и сказала: «Станет холодно, зайди ко мне – возьмёшь себе ещё одно там одеяло». А потом…
Чем груда листьев с Нонкой, это гаже… но нет этого в моей памяти, я это выкинул – как пустую, скомканную пачку. Другое:
…а потом мы долго не могли дать ему имя. Я сказал: «Ладно, если не хотите так, тогда давайте откроем Книгу… – вы меня перебили, – …и нарекём его…”, – но это так уже я, чтоб договорить. И ещё я сказал: «Нет в этом ничего смешного – века так люди поступают». А назвала его она, твоя мать. Как? Я не помню: каким-то серым, пустым было это имя, похожим не на имя для человека, а на название для комсомольской стройки или стадиона. Или: что-то из учебника по зоологии, которую она преподавала в школе. А потом ты развешивала во вдворе бельё, через плечо на шнурке висели у тебя прищепки, и ты сказала: «Ты ревнуешь меня к нему, к нашему сыну?» – «Не знаю, – сказал я. – Это не похоже на ревность: когда ревнуешь – остро, а тут – тупо». А потом мы пошли в дом, и с тополя слетела шумно стая скворцов. Нет, теперь-то мне понятно, нет, я не ревновал тебя к нему, просто: тебя стало как бы меньше, вроде как ночь, но не январская, а в июне, но лучше с днём сравнить, конечно… Круглые сутки ты проводила с ним… не помню я, как его звали. Просто и тут: вроде как я тебя начал утрачивать: ты сделалась худой и слабой: ты это почувствовала раньше всех: она, твоя мать, была занята собой, я – тобой, а ты – им… забыл я его имя. Ты помнишь, какой осень от осени становилась жизнь в нашем доме. Я всегда пытаюсь думать: «Дом». А теперь, а теперь-то мне и вовсе кажется, что слово «жизнь» к этому ка-то не подходит. Или так: одного этого слова мало, а подобрать к нему другое, под вопросом – какая? – я не могу. Он не родился говорить, он мычал, он поедал своё дерьмо. Ему шёл пятый год, дети в этом возрасте уже поют и молятся. Он походил на толстенького, переболевшего чумкой барсучка, он ни на что не походил: он был один такой в своём роде. Можно было подойти к кроватке и, увидев лежащего в ней, спросить: разве ты его мать? разве тот – Макей – отец его? Но лучше не подходить, лучше не подпускать… Теперь-то я знаю: отец его – Дмитрий – так по его паспорту. Я всегда стараюсь думать: «Дом». Я тогда вспомнил и сказал: «Не отворачивайся от нас, Господи. Так велико ли то оскорбление, которое нанёс Тебе я… А вдруг решил Ты: вдохну в младенца частицу души отцовской…» – а у него, у отца, у Дмитрия, её нет, есть только паспорт, а душа осталась у Макея…
«У этой водки какой-то сине-зеленоватый привкус. Это, пожалуй, от бутылки – какое-то сине-зеленоватое стекло, – он посмотрел в окно, – какая-то сине-зеленоватая ночь, – он посмотрел на стол, – но вот так сголю, сголю, как эти крошки… я всегда стараюсь думать: „Дом“».
А ещё: он не улыбался ни тебе, ни мне. Что-то похожее на оскал получалось у него, когда входила к нему она, твоя мать, которая дала ему имя… не помню я – какое. Он открывал рот только для того, чтобы зевнуть звероподобно, чтобы ухватить зубами пищу из рук твоей матери, в твоём молоке он никогда и не нуждался. Мычал он со стиснутыми зубами. Я тогда вспомнил и сказал: «Господи, если кто-то-что-то-такое-подобное появляется на свет только для того, чтобы изводить и разлучать других, находя радость лишь в дерьме своём, – зачем Тебе его жизнь?» Но я забыл спросить: «Господи, угодно ли Тебе это?» – забыл, потому что я думал тогда только о том, как снова обрести тебя, – так я оправдывался после, так я оправдываюсь и теперь, но теперь-то я хоть знаю: обретать прежде всего мне нужно было самого себя. А потом ты плакала всю ночь, а под утро сказала: «Я беременная, Дима». Я помню: от зелёного остался тоненький лишь ободок, не толще волоса, но отвернулся я и сказал: «Нет, не называй меня так больше, я – Макей… и так теперь вовеки». И долго не звонил будильник. Было воскресенье – будильник не заводили. А потом, в тот же вечер, я напился. И до сих пор мне кажется, что не я – улица подо мной бежала, шарахались от меня дома, разлетались, как филины, фонари, от меня, как от ветра, сгибались тополя, и горько было думать о себе мне, и о горе моём – сладко, а там, на кухне, сидела она, твоя мать: голубое – и ночная на ней рубашка, и дым от её сигареты, и отражение в окне. И запах…
«Её запах, – так сказал он, – запах суки… И в глазах её, на грудах листьев, две маленькие Нонки, но не пьяные, а мёртвые… но нет этого в памяти – вон это выбросил».
А ты? Ты в её комнате дремала, вероятно, – так ты, во всяком случае, сказала на суде. А я прошёл по коридору – видел на вешалке твой, помню, чёрный плащ, твою зелёную косынку – открыл я дверь, а там – там тот гадёныш измазанными в дерьме пальцами чесал своё тупое… лицо, лишённое смысла и имени. А я – я был недолго там – я не про время, про что-то другое. Я только взглянул в пустой и тёмный угол, только спросил: «Угодно ли Тебе это?» И Он сказал: «Да». А я – я был слишком пьян и не понял и не переспросил: угодно то, что я уже сделал, то есть под чужим именем произвёл на свет, или то, что только ещё сделать собирался? И ещё: я только закрыл глаза – свои и тому… не помню его имени. И ещё: я сказал: «Макей» – то Дмитрий сотворил, а это совершил Макей. А потом я бежал по городу. Я падал. Вставал. И бежал снова. А будто всё не так, и теперь вот кажется мне, будто никогда ещё ради меня город наш так не старался, не выплясывал, не бесился, подбрасывая дома, как детские кубики, размахивая улицами, как длинными рукавами, как крыльями гигантская птица, и шевеля деревьями и столбами, как… усами. И ещё, ты знаешь: город наш днём тихий, слегка хамский, а ночью – урковатый. Ты помнишь: подкованные – громкие под фонарями – туфли, фиксатые рты и милиционер – бывший уголовник, и уголовник – бывший милиционер, и: бля на фиг, и: чё пялишься, лярва! – а ещё: плотно закрытые ставни – воздух через них не проникает. А тут Он сделал так: никого – пусто. Ну хоть бы душа. Ну хоть бы кто из них: Король, Цыган или Мент. Никого – пусто. И где, и чем заняты их дюралевые мозги и свинцовые кулаки? И где лежат, где ржавеют впустую их победитовые финки этой ночью? Никого – пусто. И я спросил: а где же нынче все машины, где их проворные колёса? И только собаки – там, там – забегают трусливо в подворотни, и оттуда их слюнявый рык выплёскивается. Так Он устроил: никого – пусто. Плящущий сам по себе, опустевший разом город. Угол, столб, асфальт – и только кровь, а смерти нет, нет её – смерти. Где она, где её жало? Там, у крыльца, за решёткой – освещённая изо окна груда листьев. Руками в решётку, лицом в её узор чугунный. И уж так: благодарить готов: вроде и всё – она, она – уходит, тает, ускользает, спокойно, радостно – спасибо. А потом, будто там, на куче листьев, из неё как будто – как из смерти: нет, это не твой голос, это она, твоя мать, кричит… А потом, уже с другой стороны: скрип тормозов и визг покрышек по асфальту, топот сапог, и он – Цыган, бывший уголовник: «Пни его, пни, старшина, по рылу хорошенько… или по пальцам, чтобы отцепился… а то провозимся с ним сколько…» А из форточки её, старухи, голос: «Хи-хи, хи-хи, вы не того, совсем другого вы поймали… того уж нет больше на свете». – «Заткнись, Настя, а то и тебя с собой прихватим… место для тебя найдём свободное». Господи! Господи! Господи, дай же мне сдохнуть…
Он встал из-за стола, повалился на диван и сказал:
«Нет, ничего писать я ей не буду, я просто: однажды поеду и убью его…»
Быстро чередуются дни, когда их не считаешь и ничего особенного от них не ждёшь: день и ночь – сутки прочь. А это – то утро, когда нужно собираться на работу. Он оделся, взял провизию и вышел на крыльцо. Он посмотрел на нижнее окно и подумал: «Странно… это чё же с ней случилось? Эй, где ты, Настя? Что с тобой? Почему не провожаешь, как обычно? Почему не пьёшь возле окошка чай?.. Снег, наверное, сегодня выпадет», – так подумал он. А потом долго трясло его в автобусе, баламутя ему хмельные мозги. А там, на деляне, ребята во времянке, которых приехали они сменить, говорят, что вошли они в азарт и проиграли в карты, но уже подложили динамит и провели шнуры, взрывайте сами, мол. Но нет, они ещё опохмелились, а после покурили. Это потом: уши заткнули – всегда громко, всегда неожиданно, всегда противно, никак к этому не привыкнешь – ждут, а взрыва нет. «Схожу я, – говорит он, – проверю». – «Стой, может…» – сказал ему из мужиков кто-то. А он: «Да сколько ждать, мандраж берёт… случилось чё-то». Встал он. Пошёл. Тлеет, как окурок, как вата, чуть быстрее, если уместно так сказать. Крадётся огонёк – не оторвать от него глаз… Я поеду, затаюсь, выслежу и убью… Там, где-то, видимо, был брак или за сегодня уже отсырело – туман; камнем могло передавить – так думает он. А в памяти, издалека будто, диктует словно кто-то: нет, Сулиан, не тут, не тут, пойдём в баню, слышишь, Сулиан, побойся Бога, идём в баню, тут же и образа вон, тут-то как – Макей проснётся, чутко спит, слышишь, Сулиан, Макей проснётся, он же уже большой, всё понимат уж, нет, не могу тут, не могу, давай уж в баню, – и дверь, вздохнула будто, хлопнула. А после тот будто, что диктует, ближе подошёл: Макей, сыночек, не пугайся, подойди, посмотри, это не «кыса», это – брат твой, твой младший братик. Макей. Маке-е-еюшка! Сыночек, подойди!
Да, да, иду, иду я, мама.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.