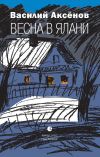Текст книги "Осень в Ворожейке"

Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
А назавтра пришли любопытные и увидели: нет на болоте тела Ивана О. Одни решили: засосала зыбь, – другие: утащил медведь в чащобу, – третьи сказали: вознёсся, – а некоторые утверждали, что будто видели ночью огромную птицу, поднявшуюся будто бы с той болотины, и что была эта птица как будто бы не налегке: держала в когтях кого-то, обутого во что-то будто круглое.
Межёвцы извелись, но деревня пустовала недолго – поселились в ней люди, пришедшие пешком откуда-то с севера. Привёл их вроде вождь, которого никто никогда не видел, даже с яланцами все переговоры вождь ведёт через закрытую дверь. И для пущей уж предосторожности яланским парламентёрам завязывают глаза. Трудно сказать, чем это вызвано.
Кануло тридцать лет. Новые межёвцы уже облысели, пальцы ног их атрофировались, а ступни – расширились вдвое и стали напоминать собою такую геометрическую фигуру: эллипс. Между новыми межёвцами и яланцами возникшие было военные действия прекратились, и завязалась бойкая торговля, которая носит пока натуральный характер. Но об этом в следующей уж главе…»
Он закрыл журнал и сунул его обратно под кровать, после сказал:
«Ты спишь?»
Ответа нет. На улице капает звонко и дробно с крыши. Тёща не спит – бормочет что-то там, за стенкой.
«Какая чушь… какая дребеднь, – подумал он. – Зачем печатают такое? Ну и родственничек, ну и накрутил».
А потом…
А потом где-то близко собаки залаяли. Нет, по рыку понятно, не лайки, не зверовые псы. Охотницы за человеком – овчарки, преданные скотинки, исполнительные, и лают только тогда, когда уверены, что нашли, – пунктуальные. И уж совсем рядом. А у него рот полон брусники и клюквы – вместе не так кисло. Нет, они их не спустят, не подарят они собакам этого удовольствия: не любят ребята такую работу, бесит она их. А потом он, сержант, и под водой голос его узнаешь, сверху откуда-то, как с неба, произносит, запыхавшись:
– Ну, чё, сука, набегался… пять плюс три – это ещё подфартит если, – говорит спокойно, сочувствуя будто.
Устал сержант, старый. Скоро на пенсию, отдохнёт, но по ночам ещё долго, наверное, будет тянуть ему руку собачий поводок, долго по ночам ещё, наверное, жене его пугаться крика: ну что набегалась, мол, сука!.. Ох, не любят ребята таких дел, бесятся. Первых полгода только такое интересно, а после и в письмах к невестам про это не пишут, врут, что служат в десантных или в таких секретных войсках, что и писать нельзя – цензура не пропустит. А парни там, неподалёку, собак уже привязывают, трудно им с ними управиться, рвутся – кора от деревьев отскакивает, слюна и пена, наверное, с языков брызжет. А сержант, видимо, присел где на кочку, закурил, выдохнул дым и говорит:
– Не переборщите тока, не на носилках же нести его отсюда, – старый сержант, повидал, поди, много.
А у него изо рта сок ягодный, словно сукровица. Вжался он в мох, прикрыл руками больные места, обильно мест больных у человека, все не прикроешь – рук не хватит, и сделал он это не так даже чтобы подумав – инстинктивно, а в глазах, вроде как там, подо мхом, стоит открытой дверь его родного дома, молится перед образами мать, смотрит на него с кровати брат и спрашивает будто: «Ну что, Макей, ты привёз мне книги?» – а на лавке сидит, к стене откинувшись, Сулиан и, двигая жёлтыми от перги усами, бурчит о чём-то, вроде: им, парень, лучше не противиться, мол. И всё это будто бы в большой, большой Божий праздник: пахнет пасхой, куличом и ещё: пирожками с брусникой и шаньгами с клюквой.
И скоро, не ждёшь когда, наступает утро. Он встал, натянул на себя свитер и направился в магазин. Рано ещё, ещё нет одиннадцати, но она – та, которую он не любит, которую ни разу он даже не поцеловал, она, несмотря на запрет, продаст ему бутылку, она сделает всё, о чём он ни попросит. Случись такое ещё, она учинит большую растрату в магазине, чтобы попасть к нему. Она так и сказала, что да, мол, учиню… И ещё: она сказала: «Тебя не будет, я умру». – «Не надо, – сказал он ей. – Ничего это не изменит». Но это не та… «Однажды я поеду и убью его…» Он мог бы взять и портвейн, и ром, и какое-то креплёное, но он купил водку: «Нет ничего лучше на похмелье», – так он ответил ей. И уже там, на крыльце своего дома, своей берлоги – так вернее, глядя в упор на Настю, подумал: «Надо, надо съездить в Ворожейку. В следующий раз обязательно съезжу». А на двери, а затем на стекле Настиного окна, на Настином скукоженном лице, а потом снова на двери, как на экране, лист к листу – жёлтая, зелёная, жёлто-зелёная груда.
И о… совсем как будто постороннем
Старый журавль устал разрываться между Севером и Югом. На севере была его родина, на юге за долгие годы появились другие привязанности, не менее цепкие. Детей он имел много, но связи с ними не поддерживал, при встрече, не узнав его или приревновав к молодой самке, им ничего не стоило стукнуть отца своего по голове клювом. С некоторыми дочерьми своими он бывал в семейном союзе, но союзы эти были недолговечны. И вот, однажды, когда все остальные птицы стали собираться в косяки, чтобы полететь на родину, старый журавль сказался нездоровым и остался на юге. Поднялся в небо зыбкий клин – закурлыкали птицы возбуждённо и радостно, – и скрылась скоро ниточка его за горизонтом.
Осень в октябре
Фиста говорит, будто долго нынче снега всем придётся ждать, будто прошлогодний снег был для неё самой последним, а насчёт других она не знает будто ничего. Мать уже загодя плачет, мать верит этому, она верит каждому слову Фисты. Фиста для матери что Христос для Апостолов: скажи, Равви, умножь в нас веру. И вот, будто бы пора уже и снегу повалить, время бы для него, и земле бы им уже укрыться кстати было, все сроки уже вроде вышли, а за окном дождь идёт, будто август месяц, не так давно и зарницы ещё полыхали. И тепло, словно лето повториться задумало. Мать даже не топит на ночь печь и не собирается, кажется, пока вставлять к зиме вторые рамы, хоть и принесла их уже из кладовки и помыла. И мох для утепления уже доставлен и просушен. Вставить лишь и заклеить. И если в ту пору он будет дремать, то, уловив запах мучного клейстера, тотчас же откроет глаза и увидит, как мать валиками укладывает на подоконник мох, на мох бросает несколько зрелых, крупных ягодин клюквы и брусники, а чтобы было ещё красивее, пристраивает на моховом валике, вслух обсуждая почти каждую, еловую, сосновую или кедровую шишку. Когда всё будет готово, мать, закусив язык, вставит раму и, чтобы она держалась, закрепит её двумя гвоздями, так, чтобы весной, чуть расшатав, гвозди легко можно было бы вытащить, затем нарежет из газеты, пачку которых на всех в Ворожейке для таких нужд каждое лето привозит из Ялани Сулиан, ленты, обмажет их тёплым ещё клейстером и заклеит ими щели между рамой и оконным косяком. Таким образом, улица с этого момента станет от него ещё как будто дальше. Но всё это пока впереди, хотя и не за горами. Сегодня, по крайней мере, при желании, можно ещё уговорить мать, чтобы она открыла окно, и подышать уличным воздухом. Нет, сегодня она не откроет. «Ещё чего удумал, – скажет она. – В сырось-то экую – чтобы глина со стен поотсыпалась». Сыро, сыро, даже воздух будто отяжелел. Дней десять назад зарядил дождь – а в первый-то день его начала и погремело немножко и посверкало, будто и действительно август на дворе, а не октябрь, чего в это время отродясь тут не случалось, – из сил, видно, выбился, но из упрямства, вероятно, не перестаёт и по сей час, сеет, как через сито. На береёзе в палисаднике ещё держатся листья, не беседуют между собой, как в продувной, погожий солнечный день, сникли, набухли от влаги, цвета живого в них не осталось, а сорвать их – доброе дело совершить некому – нет ветра, блудит где-то, может быть, там, за сопками. Может быть, в Елисейске. А здесь и духом-то его не пахнет: стекло в окне не дрогнет, занавеску не колыхнёт сквозняком, паутины, обросшей густо копотью, не потревожет. И мрак без ветра совсем освоился, будто навек в избе поселился и день белый ему не помеха. И все вещи в избе от мрака будто распухли, набрякли, от сырости словно. И чувство такое, что солнца никогда уже не увидишь. Да есть ли оно вообще? Было ли? А если и было, то сбежало, не ровён час, хмури такой не вынеся. Сопка Медвежья за всё это мокрое время как бы расплющилась и огладилась, подобно копне, которую в вёдро не успели сметать в зарод и оставили одну стоять в ненастье. И кипрей там, на бочине сопки, сник и поблек, красовавшийся ещё недавно, торчит нынче понуро дудками, с листьями, обвисшими, как уши у престарелой собаки. Потемнел раскидистый папоротник. Это всё там, за окном с запотевшими снизу стёклами. А ещё там, за окном, постоянно шлёпают капли, то чаще, то реже, то, приучив к себе, ускользают от внимания, то входят в слух внезапно и отчётливо, словно только что родились и возвестили о своём рождении громким вдохом. Да изредка промелькнёт за изгородью поскучневшего палисада тень слоняющегося в безделье кобеля. Ну и, конечно, подгоняют, жуют друг дружку над сопкой базгласые, словно оскоплённые, потерявшие Божий вид тучи. Он уже свыкся с таким положением и не просит мать развернуть его лицом от улицы. В крайнем случае, можно смотреть ведь и на стены, и на потолок, и на образа или не смотреть вовсе, уткнувшись зрачками в сомкнутые веки. Да и странно, но его нынче не пугает осень, как будто кто ему внушил: согласись и смирись – и так должно быть, не будет этого, не будет и другого – того, что после каждой ночи, начиная с равноденствия весеннего, а то и со Сретенья Господя, и усиливаясь к Пасхе, наполняет душу надеждой на что-то – на что? – не гадай, не задумывайся над этим, да что там! – надеждой на чудо, на Воскресение: Я воскрес, воистину, встань! иди вон, – да, да… да! но только приведи ту девочку, вложи в ладони руки её, позволь прыгнуть и полететь в последний… И вдруг так громко кричит ворона. Он разомкнул веки и стал всматриваться в затянутое мелкой испариной стекло. На нижнем суку берёзы, вжавшись в него и осторожно поворачивая вверх голову с приникнутыми к ней ушами, сидит кот. А чуть выше, горланя на весь белый свет, перетаптывается на ветви уверенная в себе ворона. Наверное: стыдно очень коту за своё положение; вероятно: почувствовал он, что есть свидетели его позора, – не глядя вверх, на заклятущего врага, он мягко переставил под собой лапы, покосился на окно и начал медленно приподниматься. Как ни была, вкушая радость от своего превосходства, ворона занята собой, заметила всё же манёвр кота и, предупреждая его дальнейшие действия, со всего размаху тюкнула его по макушке подаренным её природой клювом. Кот даже за сук не стал цепляться. Уже там, в палисаднике, удирая, прошебуршал кот шустро по мокрой траве… или просебурсял: скрынь-скрынь, црап-п, чак, чак – это уже по изгороди и по поленнице. Ворона торжествующе прогулялась по своему суку, затем соскочила на тот, где минутой раньше сидел её противник, поскоблила об него клюв и уже после всего этого полетела куда-то, наверное, искать слушательниц. Она зиму и лето околачивается здесь, будто другого места нет ей. На юг бы, что ли, улетела. Нагло садится иногда на подоконник, когда окно растворено, и всматривается в то, что творится в избе, поглядывает и на него, но так, без особого интереса. И если лежит неосторожно что-нибудь на подоконнике или на примыкающем к нему столе, улетит, прихватив с собой обязательно, будь то катушка ниток, напёрсток, игла вязальная или шило. Однажды украла даже ложку. «Зачем ей, говнюхе, ложка? – удивилась тогда мать. – Была б ещё какая-нибудь, то идь деревянная… Она нас, окаянная, разорит». Завидев ворону где-нибудь поблизости, мать сквернит её, не скупясь на слова. Усевшись в безопасном месте, в долгу ворона редко когда остаётся. «Дур-ра, дур-р-ра!» – каркает ворона дурногласно и не сидит при этом спокойно – подпрыгивает оскорбительно, показывая матери зад. Мать подхватывает с земли палку или камень, что под руку подвернётся, бросает, но, конечно, мимо, зато уж обещает: «Я тебе покажу дуру, воровка нахальная, морда носатая твоя бесстыжая! Давно у меня капкан на анбаришке на тебя, шелушовка, вертихвостка, насторожен, не зашибёт, дак лапы-то кривы твои по саму задницу плешивую твою оттяпат, тогда поскачешь уж, а я уж погляжу!» А ворона слышит такое и на амбар, конечно, ни ногой, потому что чуть ли не кровная у них вражда, взаимные обиды не на шутку, и глупо проиграть в этой войне вороне не хочется. Шумно закапало с потревоженных вороною ветвей и скоро затихло. Только с крыши изредка капли увесистые вдруг затвердят одно и то же: шлёп, шляп. Шуршат на печи и полатях луковой и чесночной шелухой тараканы, возятся там в своей тараканьей жизни. Ни днём угомониться не могут, ни ночью – всё у них суета. Минута редкая покоя – как по команде, так оно и ест, возможно, – и снова сутолока. И опять он подумал о ней. Вот уже несколько вечеров кряду она не появлялась. Придёт ли она на этот раз? Скажет ли что? Но, собственно, почему он так уверен, что только за этим она и приходит? Мало ли что, мало ли как. И всё-таки нет, не так просто появляется она и смотрит на него из палисадника своими зелёными, светящимися глазами. Кто, что, чья воля гонит её сюда? Что ей от него надо? Что… ой, да Господи. Руки его лежат поверх одеяла, спокойные, с длинными ногтями – мать уже с месяц их ему не подстригала, – с бледным, болезненным рисунком жилок. Рукава тёплой байковой рубахи складками стеснились на запястьях: рубаха велика – осталась от брата. Волосы давно не мыты и не чёсаны, лоснятся. И так: постепенно, сначала в кончики пальцев, потом по кистям и во всё тело – ноги, те спят всегда, не просыпаясь, – вкрадывается сон. Чтобы спугнуть его, достаточно лишь оторвать от одеяла руки или приподнять над подушкой голову: ускользнёт, юркнет в матрас сон, затаится там летучей мышью. Он этого не делает. Сердце уже спит, спит память, спит и кровь. Он закрывает глаза и погружается в марево дремоты, а когда открывает их – тут же, как ему кажется, – то в доме уже тихо царит свет от лампы, а по стене мечется изломанная тень от матери: мать стоит на коленях, простоволосая, крестится и бьёт поклоны. Но так и есть, обманывает тень – в косынке мать, завязана косынка на затылке. И медленно до него, как продолжение сна, доходит смысл материнской молитвы:
– Я, мать скудельная скудельного сосуда, Тебя, Господи, Отца всему и вся, былинке и скотинке, молю слёзно, прости раба Твоёва Макея. Нет ли на то разве пощады: не от разгула и распутства, а от горя бесям, врагам Твоим, поддакнулся, не на своё дело его сподобило: жизь-то мальчонке порешить. И то, Отче, пашто уж не простить-то? Мало ли Тебе убогих да увечных? Хворых Тебе не достаёт? Пашто за этого мальца-то шибко так Ты осердился? И так уж сколь их по земле-то? – как листьев осенью… чти – не сочтёшь, тьма-тьмущая – одно число им. Пьёт он, люди добрые оповестили, алкат шибко, как кобель борзой и ненасытный. Дак и то, Господи, не по Твоёму попущению ли? Прости, прости, то наплету ещё по глупости-то бабской… Дак и то идь, Боже, не от праздности пустой и не от жадости лихой, как латынник-то брюхатый, а от беды-горя заливается. Горит идь нутро-то его, как сено в пролитом зароде, вот и в уныние-то впал. А Ты бы и ослободил душу его от плесени, коснулся бы его Святым Духом. Отыми-ка от сердца его блядёшку-то ту беглую, дак, думаю, и так, сам по себе, очитсится. Поставь его да разверни лицом к Своёму Свету, а коли нет прощения убивцу, коли мне не на чё надеяться, дак Ты пашто меня-то раньше, Господи, не призовёшь и… – и почувствовала, что сын не спит, и скороговоркой закончила: … вчера и севодни и во веки, мол, Тот же, – затем молча сотворила ещё несколько поклонов, поднялась, на старость свою сетуя, и подалась на кухню, и уж оттуда вскоре снова послышался её голос:
– Ой, ой, ой, чё, девка, делать-то ты будешь, а?! А, не приведи Господь, зимой помрёт. Это ж тогда ни до паршивца Сеньки, будь он неладен трижды, ни до добрых людей не докричишься. Как же, Господи, прикажешь хоронить-то мне её тут? В землю-то идь средь зимы силами моими шибко не пробьёшься, не капусту же, небось, долбить, и ту… с морозу-то попробуй-ка. Как мне могилу-то ей выкопать? Не станешь счас же вот, за время. Это как же рыть живому человеку?.. Гулка земля – услышит, слухом идь тока обретается, а по гулу, дак и туловом… Ой, ой, ой, а до весны, батюшки вы мои, не дотянет пророчица. Этот бы лиходей-то хошь наведался, заглянуть бы сдогадался, сын идь, Господи, а не какой-нибудь приёмыш, кровь от кровушки, да пусь бы и приёмыш, чужие-то иной раз и своих лучше… Это пашто всё так-то, а? Ты уж устрой, Господи, как-нибудь так, чтоб за тепло-то – али весной к исходи, когда землица-то оттает, или уж летом, а я восславлю, так уж восславлю… о-ой. А тут ещё и внучончишко перед смертью обобрал – Образ Божий из избы упёр, тоже паршивец. Тут уж и наглостью не назовёшь – чистое изуверство. А я, надумала уж, и свою иконочку хотела им поставить, дак как? Никак не изловчиться. Принесу, подержу под мышкой – и назадь, бегу да реву, дура. Дура и есь… А как к божничке-то я сунусь: полезу, думаю, а идь она поймёт, слепа-слепа, дак слух-то Бог ещё не отнял. Ой, ой, ой, тошнёхоньки мои… Уж верует шибко в Него, в Спасителя-то, а Его и в избе-то давно уж нет… и ни Его, и ни Отца… уж как там Дух Святой, уж Тот-то, я не знаю… Тьпу, да я пашто така-то, вот непутёвка-то где, а!.. опять с языком своим и вылезла… Ну чё ни свято, то и опоганю, вырвал бы у меня кто уд-то этот с корнем, чё ли, ага, да свиньям бы скормил. И сам отсохнет когда-нибудь – и поделом, – и дальше так, без перехода: – Сидит девка, за платочек рукой дёржится и толкует мне такое: ты уж, болярыня, плохо ли, хорошо ли, грех об этом вроде бы и рассуждать пока, да надо, всё одно меня переживёшь, дак, будь уж добра, сослужи земле и Богу – не оставь меня так, в доме-то. Там, говорит, в анбаришке, три года назад, как ни больше-то, Сенька два гробика удобных сколотил, в городе-то после чтоб не мучиться да не везти потом оттуда их, дак ты меня в тот, болярыня, что помене, обмоешь как, уложи, как уж управишься?.. а гроб уж волоком, тяжёлой буду, знаю… на санках али как, допри до кладбища, сунь хошь в кусты где да гвоздь-другой вколоти в крышку… от зверя-то, а там, может, и Сенька приедет, похоронит по-людски. А уж одёжа, вся как есь, там, в сундучишке, наготовлена. Трусишки, почище каки да побеле, выбери, снизу-то и ладно, не видно будет, со стыда не умру. Чисто ведь главно-то: Господь не спросит, почему не имел, спросит, ленив почему был? Чулки вязаные там же, под скатертью, в левом углу. Натягивать их на меня станешь, дак следи, чтобы заплаткой на пятку не угодало. Там же, под скатертью, и рубаха пестрядевая лежит, отглажена, разве что отпаришь утюгом чуток по складкам. А сверху, крышку-то как подымешь, справа, кофтёнка с оборочками, если налезет… в девках ж ещё… давно её не меряла… а не налезет, дак и так пойду, в рубахе…
И утих, утих незаметно голос матери, будто и в самом деле мать просто думает, а не произносит все свои мысли вслух. Потом не стало и её самой, вытеснилась она с кухней вместе из сознания, из настоящего. Сначала на память ему пришло то, что он несколько раз видел в окно седовласого, большеголового старика в голубой, застиранной косоворотке, старика, с которым прочно связывалось имя – Фося, как называл его Сулиан, или – Фостирий – так говорил о нём Макей, старика, которого в летнее время, посуху, провозил изредка на противно скрипучей тележке мимо их дома – к речке, вероятно – внук его, и с которым распевал иногда по вечерам Сулиан псалмы или обычные, порой и матерные, зависело от опьянения голосящих, песни, заслышав кои, мать плевала в пол и затыкала себе уши. Однажды с Сулианом вместе и он, Фостирий, заезжал к ним в гости. Сулиан, выпив две кружки молодой браги, отвалился к стене и уснул, разговаривая во сне усами, а Фостирий весь вечер ездил по полу на тележке вокруг него, тщетно пытаясь разбудить спящего, и прилепётывал:
– Ну вот идь, а! Загвоздка-то какая! Кто ж повезёт меня теперь? И уж хозяевам-то надоели! Может, ты сдобришься, откатишь, Василиса?
– Дак как же, – сказала мать. – Они будут пьянствовать, веслеиться, а я их буду развозить. Напарник вот проспится – и поедешь. Такую тушу-то поторкай, ещё и грыжу наживёшь.
Фисту же раньше он видел часто и теперь ещё хорошо её себе представлял. Высокая, кареглазая, с сухим, морщинистым и добрым лицом старуха входила в дом, после приглашения садилась на лавку и подолгу беседовала с угодничающей перед ней матерью. А он неизменно: как бы ни хотелось ему слушать и слушать её текучую, завораживающую речь, засыпал, а проснувшись, уже не заставал гостью на месте. Последний раз она заглядывала к ним лет семь назад. Покров был, точно помнит он, и было утро. Мать тогда, суетясь и заискивая, указала рукой на него, при этом на него не глядя, и сказала Фисте:
– Он идь севодни у меня родился. Уж два часа как новорожденный. Толкусь вот: пирогов хошь, думаю, настряпать, чё ли?
– Во как, – сказала Фиста. – Ну дай Бог тебе, голубчик… дай Бог тебе всего доброго… в такой-то праздник народиться.
И ещё: он не забыл, он помнит до сих пор и может с лёгкостью восстановить высказанные однажды ею матери слова: «Ты, болярыня, заодно с Сулианом, вы оба что Фома неверущий: не видите – значит – нет, вам бы потрогать да пощупать, а воздух вон пощупай-ка, увидь-ка его, однако есть он, болярыня, чем-то ведь, слава Богу, дышим, не пустотой же ведь однако. Уверуй, говорят-то как, голубушка, уверуй безрассудно, бескорыстно, ведь мать же ты, не девка малолетая. Сулиан добрый человек, и кажется только, что он без Бога живёт, а Бог-то и без его ведома в нём кудельку прядёт… Да и мужик он, ему и простится – слаб, сломался где-то, раз упругий-то, усомнился – и вовсе потерял. А ты-то, ты же мать, Василиса, но я послушаю и погляжу, ты и молишься-то когда на Троицу – как не со Святым Духом… громшэ всех, ну а о чём… будто с Пилатом-Иродом торгуешься, болярыня, да разве ж эдак-то по-христиански…»
– …болярыня, я и не знаю, то ли ботиночки – там, со шнуровкою, – то ли уж сапоги, сама решишь. Сапожки яловы, почти что не ношены. А уж платочек цветастый штапельный, подарок материн ещё, мне и завещать-то некому… своей невестке – не хочу… дак ты, болярыня, возьми себе его, а на меня уж тот, с кружевами да с кистями-то который… Вот, ну а с Фосей уж…
И снова: будто и не мать это говорит – ручей по весне журчит, силу набирает, там, на улице, ночью оттепельной. И ночь темна. И два зелёных огонька на него из палисадника уставились. И через всё небо чёрное медленно, медленно белая молния крадётся. И свет от молнии долго не меркнет. И видит он, что не глиняная это женщина, а Фиста, молодая и красивая… но нет, и не Фиста вовсе, а девушка в красной косынке, у которой тоже, оказывается, зелёные глаза, стоит перед ним, сказать ему что-то хочет, а говорит он: «Нина, Нина, Нина, Царица Небесная». А Сулиан – тот открывает Октоих и читает по нему канон. И по столу, и по запаху, и по выражению Сулианова лица видно: большой, большой праздник грядёт. И медленно, медленно угасает свет. И ярче вспыхивают зелёные огоньки. И плавно, плавно опускается на Ворожейку небо. И сходит с неба Слово… И уж умиротворённо на подушке лицо его. И лишь подрагивают, ползут по одеялу его худые пальцы: своя радость у пальцев, своя у них боль.
Резвится на фитиле пламя. Играют на стенах тени: тоскливые, однообразные у них игры. Рассеянно читает Фостирий «Скитское Покаяние». Глаза нет-нет да и сползут со строчки, и расплывётся перед ними бусенький пододеяльник, вернуть их снова на страницу не так-то просто. Да тут ещё и Фиста с толку сбивает, отвлекает внимание – гремит Фиста в тёмной прихожей посудой: кашу, на ночь-то глядя, варить изготовилась, а весь вечер по избе слонялась, не зная, чего же ей хочется. Гремел б только там, дак ещё ладно, а то с разговорами своими пристаёт. Иногда Фостирий может так: Фиста болтает, а он лишь некает или дакает, впопад, неважно, невпопад ли, и занимается своим делом, каким занимается, знает, что ей, Фисте, всё равно – слушают её или нет: саму себя тешит. «Всяку-то всячину, разну белиберду и собират», – так про неё говорит Фостирий. А сегодня будто нарочно извести его старуха собралась: бродит, бродит из угла в угол, что в руки свои худые ни возьмёт, то и уронит на пол, а вместо того чтобы нашарить да поднять, остановится вдруг, словно онемеет на минуту, окаменев, а потом и давай:
– Иду я, Фося, иду, грабельками на плече покручиваю – как тут вот всё, перед собой вроде, – к дому уж подходить, иду, а в небе коршун… чтобы сказать уж, не забыть… парит, но, а у самой свёкр пашто-то из головы не выходит, свёкр-то это уж так, пока не к разговору, иду я, Фося, а в глаза мне блеск такой сверк да сверк – уж хошь не хошь тут да прищуришься… В сторонке, у обочины, чё-то. Снимаю с плеча грабельки, травку раздвигаю, а там баночка консервная – уж кто её бросил? – лежит себе на бочёчке… Так грабельками-то и доголила её до ворот. Голову подняла, а у ворот – на тебе! – свёкр, отец-то твой, ладонями под ремешок, стоит. Ну. Фося, думаю, растопчет он в гневе баночку, каблуком расплющет, а он поднял её, повертел перед глазами, повертел и говорит: «Ладная штучка – под гвозди, под клёпы или ещё под чё, чё мелкое, сгодится, девка, а?.. так или нет?.. Кто потерял, ли чё ли, бросил ли?» В добром духе был, с суседом, видно, выпил. А той же осенью как раз, Фося, сестричка моя, Полюша-то, от тифа померла. Мама несёт её, а у неё головка лысенькая – поблёскиват… от ланпы-то бликует, – скажет так Фиста и пуще того замрёт в потёмках, как истукан, и будто смотрит вниз, себе под ноги, как на баночку в траве.
Плюнет Фостирий, повернувшись, в пол и носом в книгу. А текст не даётся. И ему, Фостирию, лезет в глаза эта баночка, другая ли. И он грабельками траву раздвигает… И баночку тихо обматюгал Фостирий, и себя, но крепче всех старухе досталось. А та уж плачет там, в другой комнате: крупу мимо горша высыпала. «Языком молоть поменьше надо! – так ей на это Фостирий крикнул и на потолок посмотрел, на потолок смотришь – успокаиваешься. А поостыл когда чуть-чуть, тогда добавил: «Тоже… приспичило… оголодала, марьин-корень… И чё ей в голову втемяшилось? Удумала! До завтра бы никак не дожила без каши! Пришла бы Василиса и сварила!» А Фиста посидела на кровати, поплакала, легко так, как не от горя, а от обиды будто детской, да и подалась в сени за новой долей крупы. И снова Фостирий уткнулся в книгу. И снова текст будто на чужом языке писан. Не доходит до ума Слово, ускользает смысл Его, а до души и вовсе ходу Ему нет будто. Отложил книгу, прикрыл глаза: лежит баночка, светом играет, как чадо погремушкой, будто и звук при этом баночка такой вот издаёт: и-и-ис. Грабельками Фостирий баночку, грабельками, вон из трав её, долой из виду. И уж догадывается Фостирий, куда дело клонится, но не отстранитсья от этого, не избавиться: с охотой баночка из травы, залежалась будто, да только с глаз долой никак вот – на стол к Митьке-оперу: и-и-ис-с. И сам он, Фостирий, сидит уж на пороге, чистит сапоги оперу, дёгтем их смазывает. А опер – тот сытый, разомлевший, плотно поужинал, только что из-за стола, лежит на кровати кулацкой, задрав босые, прелые ноги на спинку, пускает в потолок разнокалиберные колечки дыма, и говорить ему даже лень будто, так уж, через неохоту:
– Давай, Фося-Фрося, валяй, рассказывай. Кто да кто – ещё раз, да повнятней. Куда бежать, стручки, надумали? На чём? Когда? По порядочку, с расстановочкой. Ишь ты, попы эксплуататорские. Я им убягу, сучкам, – и дивно так, чудно, как это, думается Фостирию, во рту у Митьки ещё и мундштук умещается, когда там, кажется, и челюстям-то места не хватает, и не потому, что рот маленький, рот будто нормальный – человеческий, а вот челюсти Митьке не то лошадь, не то другая какая скотина одолжила. – Давай, Фрося, не томи, давай, приятно послушать, может, и усну, глядишь, – говорит Митька. – Раньше всё под мамкины блажные песни засыпал, сумасшедшая она у нас была… но добрая.
– Ага! А хрена с два, а, Митька-Титька, выкусить ты не желаешь! – говорит Фостирий. Но это он сейчас так, лёжа на кровати, железной и скрипучей, с пропитанным насквозь мочой матрасом и от неё же проржавевшей сеткой, а тогда, назад почти полвека, было вроде вот как:
– Лежу я, отец ты мой…
Нет, не так, не так, ох не обманывай-ка сам себя, Фостирий. «Отец ты мой» – это ты уже в лагере подцепил, у того мальчишки смуглого, сидевшего вместо родителя своего, в Китай с коровой убежавшего, а тогда-то ещё без «отца», без этой присказки, к языку навек прилипшей. Ну, а как же тогда? Как? Да так вот будто:
– Да чё тут, Митрей, будто всё уж и рассказал. Без утайки. А другое-то чё, новое если, дак мне не вспомнить, ничего вроде как не упустил, а повторить-то коли, то лежу я, под боком Фиста в жару пластается и бредит, руками наотмашь словно от бесов отбивается, с ней рядом, с другой стороны, Сенька, сынишка-то наш, вошкается, рёвом изводится – вши мальчонку заглодали, и вроде как боязно, что захвостнёт она его рукой-то ненароком, да нет, думаю, рукой она всё больше в мою сторону лупит… в мою-то пусь… Храпит, кричит, стонет барак, будто на весь барак одна голова, и снится этой голове страшный будто сон…
– Чё-то ты, Фося… не можешь без стихов-то? А то усну раньше времени – ведь убаюкашь.
– Дак нет, оно чё… ага… Ну вот, спустился я с нар, нащупал в темноте плаху и – в воду-то чтоб не оступиться – вышел из барака… по доскам-то – хлюпает… а на улице тепло, тихо, затаённо так, ведь Пасхи канун, Митрей, всё за семь вёрст слышно, – говорит Фостирий, смотрит на Митькины сапоги, а запах из открытой консервной банки, что на столе стоит, перебивает дух дёгтя, которым полна комната. Глотает Фостирий слюну, давят его спазмы в горле, режет желудок острая боль, рассказывает Фостирий дальше, до конца доводит свой рассказ.
– Ну а как, Фрося, они порешили? – спрашивает Митька и, сжимая губы в «куричью попку», колечки, маленькие, как пуговки перламутровые, пускает – одно за другим к потолку убегают колечки, под потолком расплываются. – Пяти лет ещё, наверное, не было… да нет, наверное… таскал у деда самосад, – кивая на колечки, говорит Митька, – дак наловчился… И дед быд мастер на колечки.
– У-у, – говорит Фостирий, оценив Митькино умение творить из дыма чудеса. И говорит: – Тут уж чего проще-то… И мне б если бежать – раз плюнуть… это я так, конечно… это – если б…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.