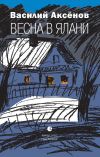Текст книги "Осень в Ворожейке"

Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
И если не отвлекаться, если опять же говорить про Сулиана, то: все углы он посетил, в каждый закуток заглянул, всю копоть и паутину по узгам на себя собрал, но то, что искал, не нашёл. Здесь, на том же, исходном, месте, фляга стоит, но пустая… и сполоснута даже. И дело ясного яснее: силы потусторонние тут ни при чём. Возник виновник в воображении. И чего только не вырвалось у Сулиана в адрес заподозренной им Василисы, чего только не пожелал худого ей Сулиан, но идти к женщине и спрашивать, куда, в какую дыру запихнула она добрый остаток медовухи, и не подумал, бесполезно потому что, всё равно что к этой порожней фляге обращаться, к столбу ли этому, к любому ли. И пыль даже не стряхнув, паутину с себя не сняв, настежь калитку распахнул, от калитки сразу свернув налево, скоро, опаздывал словно, побежал Сулиан к Адашевским, об одном только и заботясь в отчаянии: старуха-то, мол, ладно, Господь с ней, старика бы живым застать. «Жив, поди, – думает Сулиан, – коли печь как ни в чём не бывало пыхтит. И там уже повертелась жэншына, и там успела», – и об этом думает Сулиан, и не думает даже, так, в мыслях мелькает, о другом безумно печётся – об облегчении душевном. И вдруг испуганно: «Да там… помри один, другая-то и не заметит!» Миновал Сулиан два пустых дома – и не взглянул на них даже, – обошёл грязь и подступил к воротам, от которых в упоминание две вереи толстых лишь и осталось, а пространство между ними поленницей берёзовых дров заставлено, а там, где калитке быть бы надлежало, проход жердь осиновая перегораживает. Не лень если и не торопишься, то сдвинуть её, жердь-то эту, можно, а к спеху-то, дак и так – нагнулся – и в ограде. Отава в ограде по щиколотку. Сам же Сулиан в августе ещё скосил, а скошенную траву Василиса корове своей унесла, так как всех всё равно молоком потчует. Дальше, во двор, пожелаешь, да не попадёшь – обрушились слеги, ботвой, листами испрелого толя, досками гнилыми путь захламило, а свет солнечный в заломе этом, как дитя, царство себе устроил и рад будто радёшенек и выбираться из него, из царства этого, не хочет. Но Сулиану попадать во двор и надобности нет, к крыльцу прямками следует. А на крыльце, на верхней ступеньке его, старуха сидит, смотрит будто на Сулиана, а глаза её словно дымом застило, и кажется, что старуха будто бы и привыкла к дыму – не щурится, а глаза у неё не слезятся. Руки у старухи на батожке – это разглядеть-то хорошо если, а с первого взгляда, дак и не руки это будто вовсе, а так, набалдашник из корневища, посох такой чудной вроде, а прямо на нём – как будто – на набалдашнике – подбородок старуха пристроила.
– Сулиан, – говорит старуха, говорит и вроде как в глаза гостю заглядывает, и говорит вроде как не потому, что узнала, а потому, что имя ей это нравится.
– Я, Фиста, я, – торопится сказать, останавливаясь перед крыльцом, Сулиан.
– Да я слышу, что ты, голубчик, так только… сказать что-нибудь. Раньше, думала, объявишься, – не глядит теперь старуха на Сулиана, мимо рук своих на батожке, на отаву, а вернее-то, дак в пустоту как бы уставилась. И легче от того Сулиану.
– А чего ты, Фиста, это так, будто ждёшь-то от меня чего? – спрашивает Сулиан, так пока и не ступая на первую ступеньку, муравку под собой подминая да по сторонам озираясь, словно всё кругом ему незнакомое.
– Да нет, Сулиан, чего мне от тебя ждать… Послушать разве, да и то… много-то ты не скажешь, не речив, трезв-то покуда, а скажешь чё, дак я и так знаю.
– Выплеснула, небось? – спрашивает, побледнев, Сулиан, а в лицо старухи и не всматривается, потому что не поймёшь ничего по лицу: морщинка не дрогнет: уткнулась незрячими глазами ниже длинной зелёного сукна юбки – в свои валенки, которые как будто и не на ногах у неё, у старухи, а так, сами по себе под юбкой, как под лавкой, будто бы стоят.
– Выплеснула-то – это вряд ли… продукт, – говорит старуха. – Спрятала, отнесла куда, дак вернее.
– А куда? – спрашивает Сулиан и удивляется своей глупости, и переводит Сулиан на другое тут же: – А ты, Фиста, почему здесь-то, на крыльце?
– А не на скамейке? – и как бы спрашивает и как бы договаривает за Сулиана Фиста, а плотное зелёное сукно её юбки при этом и не колыхнётся.
– А не на скамейке, – говорит Сулиан и думает о том, что славные онучи получились бы из этого сукна. – Тут, на крыльце-то, и солнца уж нет, за избу оно заворотило, – говорит Сулиан.
– А так… присиделась. Как муха на меду – лапки оторвать не могу… прилипла. Да всё прикидываю умом-то, встану вот, дескать, пойду, а тут и ты явишься. А на ногах-то чё, толком с тобой мне и не побеседовать.
– Ну а в избе-то?
– А посиди-ка там, милый. Усидишь ли? То и не знашь будто. Там продыхнуть же нечем – ссытса идь не стихат. А Василиса никак нонче из-под него, из-под бугая, матрасину выволочь не могла – заартачился, упрямец, да и всё тут. Ему-то оно ладно – своё, будто и не пахнет, а мне-то дак… кому другому ли…
– А он, сам-то, дома? – спрашивает Сулиан и ставит на ступеньку ногу, а спрашивает он не от ума такое-то, конечно, а лишь бы не молчать – поэтому.
– Огорчился ты, видно, Сулиан, шибко, – говорит старуха, и губы над подбородком у неё длиннее будто стали. – Дома, дома, – говорит старуха, – в избе, то где же… Летать не выучился, а ползать не по-евоному вроде, гордый, сам знашь. Один-то останется, еслив враз не приберёт Господь, дак и ничё – до печки-то да когда в кладовку за крупой и сползат – не развалится.
– Ну… – и кашляет Сулиан. И спрашивает, прокашлявшись: – А к нему-то, Фиста, как, мне можно?
– Да пашто нельзя. Всё можно было, а теперь нет? Чудной ты, голубчик. Тупай. Тупай. И он, я как думаю, ждёт там тебя не дождётся, в конец извёлся уж, поди, меня на чём свет срамит, наверное, да проклинат. С потолком-то не опостылит разве разговаривать. Тупай, Сулиан, тупай, я ведь так только – послушать голос твой да языком своим позудить… об десну-то тыркаю им, тыркаю, дак вроде типун уже на ём – чешется.
Так прогнулись под Сулианом ступеньки, что и старуху приопустило будто сначала немного, а потом так же и приподняло, проскулила сенная дверь, а половицы в сенях ни звука не издали – ядрёные, плотно подогнаны – игла между ними не провалится, хотя и не так это всё, так только ей, старухе, чудится, так ей только думать хочется. И пусть чудится. И пусть думается. Господь с ней.
Вошёл, пригнувшись в дверном проёме, Сулиан в избу, смахнул шапку, вскинул для креста руку, взглянул на божничку привычно и осекся на «Осподи…»: божничка на месте, ничего с божничкой не случилось, а икон на ней и не было как будто никогда, разве только то и выдаёт их пребывание прошлое, что на стене, там, где они стояли, копоти меньше.
«Это как будто, – подумал Сулиан, – ты, Сулиан, не туда попал, но это как будто, а на самом-то деле их, наверное, Василиса помыть маленько унесла. И один ляд, всё нынче как-то сикось-накось – перед худым, должно быть, Сулиан, так бы тебе и мать сказала тут. И по очереди бы хошь, жэншына, а то разом всех Святых забрала. Одну бы хошь иконку на случай какой непредвиденный сдогадалась людям оставить, а эдак-то в экий просак человека поставила, хошь и меня вот…»
А в другой комнате, в горенке, уже заскрипела кровать, ожила. Так, быстренько, смутившись словно, да и по правде так оно – смутился, обмахнул себя Сулиан двумя пальцами, косясь при этом на пустой угол, как на покойника, и прошёл к занавеске, отстранил её.
– Эх, ёлки-палки, палки-моталки, жизь наша калачиком – куда-то всё, язви б яё, и катится! Фостирий, ты всё читашь, а я, делом грешным, иду да загадывая, ну, думаю, войду, Фостирий еслив спит, то ладно всё получится, а с книгой еслив лежит, то гибло дело, поздоровкаюсь, поболтаю о пустячном да и вон отсюдова восвояси.
Захлопнул Фостирий книгу тяжёлую, застегнул серебряные пряжки, книгу – на тумбочку, с тумбочки от книги – пыль – во все стороны прыснула. Приподнялся старик на кровати, спустил на пол ноги, руками им подсобив, и заулыбался Сулиану, как невесте. Долго всё это проделывал старик и улыбался долго, так, что Сулиан и комнату успел осмотреть, хоть и сотню раз её уже видел, и с запахом едким успел свыкнуться, и о своём ещё о чём-то умудрился подумать.
– Да я, отец ты мой, и спал, а когда тень твоя по стенке петухом метнулась, я и проснулся, а книгу в руки взял – это пото, што Фиста тебя перехватила, а от Фисты, отец ты мой, что скоро так отвяжешься, и в голову не пришло, она ведь, как видеть-то перестала, говорить без удержу принялась. Совсем меня уж, окаянная, заговорила. Про что только не толкует, до какой только околесицы не забалтывается, беспокоюсь прямо – не рехнулась бы. То чё нам потом с ней? Тронется да топором башку мне отсекёт, когда спать буду. А ты взял бы да присел, в ногах-то, отец ты мой, правды нет, да и разговор у тебя, видно, не про Василису ли, – и будто веки одни у Фостирия, а глаз у него нет – от листа книжного оторвался, на свет из окна так прищурился.
Сел Сулиан на сундук, руками в крышку его упёрся, к простенку между окон привалился – и так, что Фостирию, разглядеть его чтобы, приглядываться нужно, глаза напрягать, но не заботится об этом Сулиан, не до того нынче Сулиану.
– Я, Фостирий, зачем к тебе-то, – говорит он. – Тут будто бы и не про неё, про Василису, слово и так, чтобы не упомянуть её, тоже никак. Ты ведь слышал уже, парень, рассказывала небось, что учудила, волю каку себе позволила, самоуправница? Скажи кому, дак точно что не поверят, засмеют ещё, чего доброго.
Засмеялся и Фостирий, а зубов потому что нет, так свет – тот только этого будто и ждал – ворвался к нему в рот, расположился на блёклых дёснах, ненадолго, правда, – перехитрил будто старик: сомкнул резко губы и сглотнул его. И уже не смеётся, просто улыбается Фостирий, но не понятно вот – чему, то ли тому, что от Сулиана услышал, то ли тому, что шутку такую утворил со светом. Улыбаясь и говорит так Фостирий:
– Дак знаю я, потому и уснул, отец ты мой, чтобы дождаться-то тебя скорей. Только вот ошибусь, думаю, или нет, раз на раз ведь не приходится: а вдруг, не дай Бог, думаю, она плохо спрятала, а вдруг – ты искал старался и отыскал, а уснул, и сон мне в руку, будто ты вдоль заплота шастаешь и каждое бревёшко в ём ощупывашь, а заплот вёрст десять-двадцать длиной-то, не мене. Э-э, отец ты мой, и просыпаться даже не стал – так мне спокойно сделалось. И жду тебя и жду, знаю, что в болото ты Круглое подался, а мох – его не век же будешь драть, вот минуту за минутой – лежу – и отсчитываю, а с Фистой ты когда заговорил, дак я от нетерпения за книгу-то и взялся – не кричать же мне тебе туда отсюда.
– Ну, Фостирий, дак выручай. Прямо как будто скрозь землю провалилась, протекла ли. Всё облазил, парень, везде обшманал. Собаку бы толковую, к этому нарочно бы обученную, дак, может быть, ещё… а моим-то вдолби попробуй, что мне от них надо… пустое, зряшное, парень, дело. Они наверняка уж чуют, они, парень… дак а добейся-ка от них… собаки.
– Ну да уж ладно, чё уж там. Ты не подумай только, отец ты мой, что это я Василису нарочно подначил, Боже упаси! – как бы испугавшись вдруг, вскинулся Фостирий.
– Да уж, Фостирий, ну конечно!.. О чём ты?.. Ну, Господь с тобой. Мне ли её не знать. Сама по себе, своя моча ей в голову ударила. К святости – Господи, прости меня, болтливого, – последнее-то время рвётся, а всё будто… как тень от солнца, святость от неё… баба и баба… к старости всё хуже.
Болванчиком замотался Фостирий на кровати – запели пружины, и так запахом обдало густым и едучим, что трудно стало Сулиану виду не подавать, веком не дрогнуть и высидеть не шелохнувшись, не выдержал только – взглянул в боковое окно – на улицу с вожделением, да что там – всё одно Фостирий по-своему истолкует, а уж обидится, нет ли, это другое дело.
А Фостирий – тот всё раскачивается и раскачивается и так, будто заводу в нём ещё надолго. И подумал Сулиан: «Не упал бы, – и ещё подумал: – Эку Фостирий, словно шут гороховый, себе забаву отыскал. Все мы, да и он сам, отродясь на деревянных кроватях спали, – и перебил, одёрнул Сулиан себя: – Да и не прав я тут, не сам по себе Фостирий это напридумывал, а сынок его, Сенька, да и того грех будто бы обвинять: долго ли дерево, будь оно и лиственница, вынесет? – сгниёт, а железу этому, пружинам никакое ссаньё ни во что, разве ржавчиной покроется где, дак на век-то его, старика, поди, и хватит».
Успокоился Фостирий, нагнулся, уцепил рукой валенки, принялся их, постанывая да покряхтывая, на ноги налаживать, налаживает и говорит Сулиану так:
– Там, отец ты мой, в куте, за печью, телега моя стоит, гони-ка её сюда.
И не было словно никогда Сулиана на сундуке – за печью уже Сулиан, дрова ногами разгребает, расшвыривает. И позже чуть: выталкивает он, Сулиан, из закутка тележку о двух колёсах, к самой кровати, вплотную к ней, дыхание задержав, подруливает.
Усадил Сулиан старика в коляску, похлопотал возле него, в фуфайку его наряжая да нахлобучивая ему на голову шапку, и покатил его к выходу.
– С Богом, парень, – это Сулиан так, отвернувшись от пустой божнички и загородив её собой от хозяина; грудью всей хватил поспешно в сенях свежего воздуху.
– С Исусом со Христом, отец ты мой, пусть Он нам будет как брусонец и в помощь, – это Фостирий, заходясь от радости, так.
В сенях притормозили. Положил Фостирий руки на резиновые шины телеги своей и говорит Сулиану:
– Приотвори-ка улишную дверь поширше, видней чтоб было, и к ларю ступай, а там, где хомут со шлеёю висят, дак слева и увидишь, бери их с собой да не держи в руках-то своих долго, брось лучше сразу мне их на колени.
Приоткрыл Сулиан дверь, в просветлевших недрах сенцев отыскал два ивовых прутика, что на двух вбитых в стену деревянных костыльках были пристроены, положил бережно их старику на колени и вывез коляску на крыльцо. Тут и Фостирий вздохнул, и Сулиан вздохнул, и Фиста – та тоже вздохнула, так вздохнула, будто долго, век целый, ждала, когда мужики из избы выедут наконец-то и вздохнут. Руки у Фисты на батожке, а подбородок на руках, а голова словно задеревенела, с руками словно срослась, только волосок белый, как паутинка осенняя, выбился из-под платка, мелко трясётся.
– Не ждать тебя, поди, уж сёдня, – не спрашивает – сообщает Фиста. – Мне дак так кажется, старик, заночуешь ты нонче у Сулиана.
– Дак как жа! – заелозил старик в коляске. – Она опять вот за своё! Долго нам там! Как подмогну человеку с пропажей, так и назадь приедем. Чё, будто негде ночевать мне, чё ли!.. Поехали, поехали, Сулиан, поехали, отец ты мой, с ней тут как раз до следующего Пришествия лясы проточить можно. Поехали, а ну её… вечно рассядется, что… тьфу ты!
Развернул Сулиан старика лицом к двери и свёз его с крыльца, на котором, проплясав будто, осталась сидеть Фиста, сама с собой: без звуков – разве что гул земной через батожок, без мира – разве что ветерок по лицу, и без света – с картинками разве какими на тёмных, словно будущее, веках.
Весь Сулианов двор мужики объездили, на пригон несколько раз выруливали, а огород – тот просто-напросто утрамбовали, как гумно, но нигде не ожили в руках Фостирия ивовые прутики, только посередь ограды, у настила, едва-едва вздрогнули, на что старик лишь сухо обронил, будто на воду это они, на воду, мол, они так неохотно, но, струя тут, дескать, у тебя, отец ты мой, колодишко рыть можно. «Ага, – сказал Сулиан, – бросим всё и колодец копать начнём, мало мне одного, другим займусь счас… да и не за этим, Фостирий, я тебя сюда вроде припёр, еслив сам помнишь». – «Дак помню, помню, пашто нет-то, – ответил ему Фостирий. – Как не помню». Бороды у стариков растрёпаны, как мётлы изработанные. В глаза друг другу избегают старики смотреть. Постоял Сулиан, повытирал пот со лба и с шеи, а потом, как будто вспомнив что-то вдруг, и говорит:
– Везде мы с тобой, парень, были, а на чердак вот и не сдогадались забраться. Может, там где, в земле-то чердачной?.. там же её, земли-то, у меня почти что с локоть… тятенька, Царство Небёсное ему, постарался, – это уж от отчаяния так-то Сулиан.
А Фостирий метнул испуганно взгляд на охлупень крыши избы Сулиановой, зажмурился на бьющее в глаза прямо с него будто бы солнце и говорит тотчас же вот как:
– А мы, отец ты мой, и в палисаднике ещё не были, и потому что в палисадник-то сподручней вроде как-то, чем на чердак-то, то давай-ка, отец ты мой, наперёд в палисадник скатаемся, а на чердак-то мы всегда успем, никуда от нас не денется он.
А Сулиан – тот только так и пробурчал:
– Хм, а палисадник будто убежит куда-то.
И поехали они долой из ограды, а навстречу им собаки измученные. Вернулись из леса. Мокрые и голодные. Ластятся к Сулиану, Фостирию лицо языками слюнявят, а тот и отмахнуться от них не может – в руках инструмент поисковый. Цыкнул Сулиан на собак, но не ради Фостирия, а в собственном раздражении, открыл калитку в палисадник и закатил туда тележку с Фостирием. А ивовые прутики тут же, за калиткой прямо, и заходили в руках у старика.
– Стой! – кричит Фостирий. – Стой-ка, парень!.. Не то пальцы от напрягу дрожат, не то быстро уж больно катишь.
Остановился Сулиан, притулился спиной к стене дома, солнцем сентябрьским нагретой, а у самого круги перед глазами – устал.
– Здесь, отец ты мой, здесь, батюшка. Катни-ка, а, ещё чуток, тока не шибко, вон до того куста… чё там, смородина, ли чё ли?
Подтолкнул Сулиан тележку к смородине, отпугнул копошившихся там куриц и сел на скамеечку, а на Фостирия смотреть уже и сил нет никаких – сомкнул веки.
Зашевелились в руках старика прутики, завращались, сообщая ему что-то, а старик от радости и слова молвить не способен, не может слова сказать и понять не может, почему Сулиан – тот-то молчит, а молчит Сулиан потому, что не видит ничего, ни во что уже не верит Сулиан – отчаялся.
– Тащи-ка, а, отец ты мой, – шепчет наконец Фостирий.
– Кого тащи? – спрашивает вяло Сулиан, веки чуть только раздвинув.
– Неси лопату! Здесь она, туточки, родимая, под кустом вон эвонтем, – не руками, а, шею выгнув, головой или кадыком указывает на куст Фостирий.
– А лопата-то к чему? – ещё не веря, спрашивает Сулиан. И говорит: – Еслив и здесь, дак не на адской же, поди, глубине, хотя, хрен и знат, ведь с этой жэншыной-то будет…
И точно, что здесь. Земелькой лишь и припорошено. Врыто под корни, крышкой запечатано, а сверху того холстиной ещё да клеёнкой прикрыто.
– Так, жэншына, и куст могла ведь изуродовать, – бормочет Сулиан, относя ведро в дом.
Возвращается.
– Корни повредила бы, змея шипучая, а тем самым и смородину бы порешила, – говорит Сулиан, закатывая в дом счастливого старика. – А так всё ягодка который год… порой зайдёшь, сорвёшь да и попробуешь… оно вкуснятина.
И тот – Фостирий добродушно:
– Да, бабы – дело-то такое!
И Сулиан:
– Да ясно уж… Никакой тебе жалости к живому.
А потом вроде как день границы потерял, утратил, будто бы век назад начался, будто бы и до конца ему ещё век, вроде как весь сентябрь этот день. И по кружке перед мужиками, и вроде ещё много в ведре оранжевой, густой, окрепшей, играющей радостно на свету заходящего солнца медовухи. И Фостирий всё пытается сказать Сулиану, что у них там, на Берёзовой, и это не так было, и другое не так, и:
– Э-эй, отец ты мой…
А Сулиан обсасывает от перги усы, вертит на столе кружку и говорит:
– Эй… эй бы ещё – дак чё. А я иной раз молиться примусь, молюсь, молюсь, голову-то будто вскину, а глаз поднять не смею, а как насилюсь да взгляну, парень, то там, на иконах – прости, Господи, – Святых-то вместо – младенцы.
– Эй, отец ты мой, а у нас там, на Берёзовой…
– Да-ай, ты, парень, чё уж у вас там, на Берёзовой на вашей… Ты там всё, Фося, возле оперов толокся, комендатуру всю в задницу перецеловал. Не был я на Берёзовой твоей, ли чё ли? Вместе ведь зиму-то мантулили.
– Эй… эй, милый мой…
– Знаю, знаю, Фося, и ты в лишенцах походил, дак это как будто бы и пережить не за лихо, это что, парень, голосовать-то нельзя, дак будто бы нам здесь, в Ворожейке, или у вас там, на Берёзовой, и ни к чему оно, а товару-то в лавке не отпускали, то тут, Фося, и сам помнишь, у всякого свой запас кой-какой был – слава Богу, не нищенствовали, покуда всё-то уж совсем не поотымали.
– Дак я, Сулиан… – высохло когда-то крупное и крепкое тело Фостирия, ослаб как будто дух его.
– Дак ты, Фося, – помоложе Сулиан Фостирия лет на десять, поздоровее, задирист, когда пьян, выпьет лишнего – глух до других становится. – Дак ты, Фося, потом вроде как колхозник – умно поступил, прогнулся, но не осуждаю, а нас, дураков, ать – и под твердое. Триста пудов зерна за сутки, парень, сдай – сдай, а сдал еслив – пятьсот тебе, коли уж триста-то наскрёб… Да ладно бы ещё, сами сеяли, а то кто у нас тут, в Ворожейке, пашню-то имел? Из веку в век в Ялани да на рынке в Елисейске покупали. Не сдаёте, ребята, прячете – кулачить! Тряпку на сельсовет: жизнь вроде как колхозам, кулакам – смерть. А кто он такой, кулак-то этот? Никто его здесь и не видывал раньше. А человек с городу приехал, тычет пальцем: этот, этот… рожи не нравятся, а то и по науське, а то и просто – дом понравился… Э-э-эй, Фося-Фрося, жизнь прожили, а вспоминаем Бог знает чё. И за язык ведь тянет, парень, кто как будто, и умом-то вроде как там всё больше, в старине. Хошь и счас возьми, Фося, не кержак будто я вовсе, а спецпереселенец, и не тут, перед тобой, а в Игарке. На тебе, парень, и «Бельский» барак, и «Яланский» барак, и «Ново-Мангазейский», и – и каких только нет. Но поначалу-то земляночки, Фося, земляночки, в терема-то уж потом выбрались, а в теремах, как с крыш в конце марта, со стен течёт. А к весне-то как дело – бабы, те ещё ничё, те, парень, и под фундамент рыли, это под школу вроде как, – а мы, мужики, к весне-то уж и ходить не можем. Цинга, язви б яё. Лютая штука. Продудишь всю ноченьку на нарах, вроде как спать положено, а к утру, солнце-то как ко дню будто, Заполярье ведь, выползаем из барака в картишки поиграть, а как по бараку-то ползёшь, дак хошь и не радуйся, что Бог тебя зрением наделил: мальцы на нарах, как старички, грибы ли как осенние, как Божьи угодники, сидят, качаются, опухшие, парень, прозрачные, помалкивают, будто мудрецы, ну а глаза… ползи и вой, парень… не совпадают как-то ум и возраст в них… А может, вот для этого-то Он и дал нам зрение-то, а?… а так червём бы и остались… может, и лучше б.
– Эй, отец ты мой…
А потом будто во сне и не во сне, а всё в том же дне, что во весь сентябрь, слышат оба, верховые будто подъехали, слышат оба, удивляются про себя, но разговор не прерывают. И вроде долго они ещё после того, как поняли, что верховые подъехали, беседу между собой вели, так долго, что уж и забыть про них, про верховых, успели, но распахнулась дверь – и вошли в избу люди. Второй молча так, а первый и говорит: Здравствуйте, хозяева. – Добро пожаловать, – отвечают разом Сулиан и Фостирий, а так как всё это время к свету лицом они сидели, то, повернувшись, трудно им разглядеть сразу вошедших. А первый – тут же или погодя сколько-то – говорит снова: Я – Карабан, а это – Евгений, пастухи мы яланские, телят ищем. – Знаю, знаю, – Сулиан так, когда Фостирий ещё присматривается и в разговор не вступает, – знаю, который раз уж вижу, – продолжает Сулиан, – того-то нет, тебя-то видел… обличьем больно уж горазд, такого долго не забудешь… Да вы проходите, проходите, сделайте милось старикам… но, хошь и Бога, гляжу, не привечаете, перед образом Его голову не обнажаете, всё одно проходите… так это я, спьяну. – И поднялся Сулиан, и сходил на кухню, и вынес оттуда две мирские посудины – стаканы, – и налил в них для гостей. – Закусить вот только, прощения прошу, нечем, всё что имею – на столе. – И звякнули стаканы и кружки. И задвигались рывками кадыки у мужиков. И не стояло время – шло, и тут уж вовсе со днём что-то случилось: перестал он быть сентябрём – стал вечностью. Понимает Сулиан, что говорит тот, который Карабан, по губам его судя, а слова будто от того, который Евгений, доносятся. И из слов этих Сулиану будто уяснить нужно, что в Ялани, на почте, для него, для Сулиана, телеграмма-молния лежит, лежит давно, мол. – А что в ней, в этой телеграмме? – спрашивает Сулиан, глядя на губы первого, а слушая будто второго. – Да умер у него… нет, нет, не у Фостирия, а у него – у Сулиана, кто-то там где-то, в Барнауле вроде. Да, мол, в Барнауле. – И много минут протекло, а потом: ох-ма-тру-ля-ля, ох-ёлки-палки. И тут день снова сузился будто до размеров своих, а затем в точку сжался, а в точке этой и стол появился и – люди за столом. И где-то вне этой точки Сулиан собираться стал. Рюкзак с полатей извлёк, буханку хлеба чёрствого сунул в него, ещё и сала кусок, забрёл в горенку, из-за иконы Николы Угодника денег достал, спрятал их в карман нагрудный, застегнул карман булавкой и будто бы уходить вознамерился. А тот, который всё губами шевелит, и говорит так:
– Ты бы, батя, медку с собой прихватил, литрочку хотя бы, билет так запросто-то вряд ли сейчас купишь, пусть и по телеграмме, а мёд кассирше подаришь, тогда и льготный выдаст хоть до Иерусалима… и сама с тобою, может, полетит. В большой цене нынче медок-то, батя, многие хвори, говорят, им нынче лечат.
И мёду Сулиан взял, советом не пренебрёг. Пошёл было, но оглянулся в дверях и сказал:
– Фостирий, ты уж заночуй тут, с мужиками, не повезу уж я тебя – пути не будет, а утром Василиса прибежит да и отторкат… или вон мужиков попросишь, а так… прости уж, еслив что-то.
А потом перекрестился на образа и обратился ко всем сидящим в доме Сулиан:
– Всего вам хорошего, люди добрые, – сказал так и вышел.
А там, в ограде, собак на цепь садить не стал, топнул на них сердито, приказал им, не рыпаясь, ждать Василису, а сам к лесу подался, туда, где дорога, что к тракту ведёт, завязывается. «Дойду до тракту, – думает Сулиан, следя за мельканием ног своих, – а там, Бог даст, на машину попутную сяду, а машины не подвернётся, дак к ночи, ладно-то еслив всё получится, и пёхом дошлёпаю до Ялани, к ночи-то, может, и нет, но к утру-то, парень, точно». Идёт ли Сулиан, земля ли под ним бежит, а он ноги только по очереди приподнимает, к лесу уж подступает, но на Ворожейку не оглядывается. «Вот, – думает Сулиан, – не зря же я севодни с утра одно хорошее вспоминал, не зря, конечно. И образа у Фостирия – вроде как сам Бог от меня их убрал, а я всё – словно репа у меня, а не голова – не прозрею». Так думая вот, и идёт. А тут уж и лес, ёлка первая. Пнул Сулиан ёлку – отбил себе ногу, пнул другой ногой – и другую отбил, потом обнял смолистый ствол её и заплакал. Больно о кору шершавую щекой, чтобы слёзы не щекотали. Заломило шею. И осколок в предплечье куснул, за саму кость как будто цапнул, так, что рука дёрнулась, злобен осколок – одичал в неволе. «Посиди, милок, посиди… тут уж осталось-то… Я вроде как и привык уже к тебе, но, свыкнись и ты, ага, тискни гордыню – это как будто и не я тебе, а Василиса – той до всего всегда есть дело». Оглянулся Сулиан, и от резкого движения – вверх будто Ворожеёка подалась, к небу, да не подалась, а рванулась. Закрыл Сулиан глаза и больней ещё к стволу щекой притиснулся; испачкался в живице. Ну а слёзы за весь век впервые будто, точно.
– Эх, матушка, эх, Ворожеюшка родная, не тянись, не тянись к Нему. Плюнул Он на тебя, давно плюнул, давно оставил на сиротство, милая. И отвернулся от всего. От всего, жэншына, и от всех, так что и святость-то твоя в пустое вроде. Бросил, твержу, бросил, жэншына… в детях своих, отчаявшись, разуверился… да, но… Прости, однако, Господи, хмельного, и помилуй… А я вот, видишь, хошь и до самого, как говорит, Ерасулима… уж сам, уж сам… вот так, легонечко.
А в лесу уже и сумерки: уплотнился будто лес, стал непроглядным; замер.
В доме его, Сулиана, Фостирий псалмы, слышно, запел. Собаки с улицы помогать ему принялись.
Безразличен к Ворожейке омут, чёрным зрачком в темнеющее небо смотрит неотрывно – интерес его там только, что ли?
А тут: с ели шишка мягко так, от ветви до ветви, ни одной из них не покачнув, еле-еле лишь шурша при этом, в траву, как в вату, упала, не до земли – на стеблях шубницы пока и успокоилась.
Не видел этого Сулиан, внимания не обратил, не о том думал потому что. Наступил он на эту, отсеменившую уже, шишку, вдавил её в дёрн, выбрался на влажную от прежних ещё дождей глинистую дорогу и отдался ей.
До этого мать как-то не замечала его, вернее, он сам как будто чувствовал её присутствие и не показывался из-за образов, а тут, ну прямо как на грех, выскочил, помедлил, словно осматриваясь, – чутьё на этот раз ему, возможно, изменило, – и засеменил, понурившись, наискосок к столу. А мать тем временем, расположившись у стола, чтобы быть поближе к лампе, на длинном белом вафельном полотенце красными нитками вышивала петушка и курочку: курочка как бы высиживает цыплят, а петушок как бы её охраняет – и ещё: лежат возле курочки семь зёрнышек, а по виду петушка можно подумать, что нет у него большего желания, чем склевать их, эти зёрнышки. Мать, кажется, и мысли не допускает, что брат не женится во второй раз, и полотенце это она готовит в качестве свадебного подарка. А он свои сомнения по поводу новой женитьбы брата ей не высказывает, потому что это бесполезно. Так просто ли вскинула мать голову, заметила ли краем глаза, но тут же отбросила работу и подскочила к стене. И оробел таракан, даже усы его, не знающие покоя, будто паралич хватил; вжался, застыл таракан – словно к сладкому пятну брюхом прилип, а затем завертелся туда-сюда, сообразил, однако, что бежать некуда, и сорвался на пол, а там уже шустренько юркнул под самотканный коврик. И мать уже по коврику быстро так, как босиком по раскалённому бы полу, перебирает ногами и приговаривает:
– Вот пакось, вот пакось-то где ещё, а! Ух, расплодилось-то их сколь! И чем бы вывести… ничем! Это римлянин, поди, сюда таскает. У того-то их несчитано.
А потом всё же приподняла край коврика, взглянула под него и сказала:
– Быр-р-р, Фу-ю-у.
А он: он не смотрит на мать, он представляет это всё по тому шуму, который она, двигаясь, создаёт, мысленно видит он выражение её лица. А мать – та ещё что-то бормочет, нос изморщинив, но уже там, за своим прежним занятием. Она редко молчит, и не подозревая, наверное, об этом, ей, вероятно, кажется, что она просто думает. И вдруг он поймал себя на мысли, что так и не дал покойному таракану имя. А безымённые, говорил Сулиан, даже дети, не попадают в Рай, хоть и вина их в чём, сам Сулиан понять не может; разве что так: вину родительскую искупают – полагал он, Сулиан же. И говорил: но в голове такое не укладывается. Потом он подумал: душа или тело нарекается именем? Если тело, то имя умирает вместе с ним, а потому и смысл его невелик; если душа, то имя вечно, а коли так, то не видать таракану вечности… Но через минуту мысли его уже были заняты большой осенней мухой, тупо и нудно атакующей стекло лампы. Может быть, от отчаяния? Да нет, скорей – от глупости.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.