Текст книги "Жить с вами"
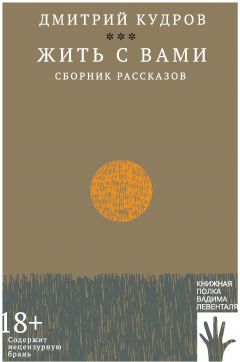
Автор книги: Дмитрий Кудров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
К майским праздникам Тамара разболелась совсем – она по-прежнему не отвечала на звонки Ильи Алферова, и если ему удавалось с ней поговорить по Аликову телефону, то больше молчала или шептала так, что ничего Илье Алферову разобрать не удавалось: Тамара вроде бы не вставала с кровати, бабка сломала ногу и тоже через силу передвигалась – близнецы лишились присмотра; так что, хочешь не хочешь, Алику нужно теперь вернуться – Илья Алферов дал, конечно, решительный отпор – даром он что ли третий месяц переминается с ноги на ногу в прихожих отдела опеки и попечительства, – но это так, на словах, на деле Илью Алферова пугала сама мысль об Аликовом отъезде – за отъездом виделась длительная, ноющая, словно боль в животе, тупая скука темных вечеров, в которые не пойми какая сила удерживает от самоубийства. Илья Алферов оплатил сиделку, но и сиделка помогла мало: в конце мая сам Алик порывался уехать, устроил скандал, кричал, что если Илья Алферов не оплатит ему самолет, поезд, автобус (мог бы, конечно, скопить, но не скопил, и не его, Ильи Алферова, дело, на что Алик карманные деньги расходует (удивительно, в Москве Алик друзей не завел, почти все вечера и выходные проводил дома, и хоть бы девушку нашел, предлагал Илья Алферов, но Алик утвердил, что все они, конечно, бляди – забыл, правда, добавить, усмехнулся Илья Алферов, что московские), тем более сам Илья Алферов говорил, что спрашивать не станет, это мать Алика, отчим Алика, бабка – те, да, спрашивали, а Илья Алферов не станет, потому что Илья Алферов, отец, Алику доверяет), Алик уедет попутками и, если доведется вдруг свидеться снова, руки не подаст. Илья Алферов окончательно разругался с партнерами, поднял наценку до максимальной (как тогда представлялось), снова принялся писать о еде и ресторанах в издательстве, с которым, думал, навсегда попрощался (громкий хлопок дверью не забыли, но и свято место может оказаться пустым, тем более если с критикой, как с философией), терпеть молчание жены, молча сносить угрозы развода, но перевозить и селить в бывшей Коленькиной комнате больную Тамару (Тамара совсем уже кожа да кости, серая, что пыль, и вряд ли надолго хватит), не спать ночами от Тамариных стонов и кашля (благо, ростовская сиделка приехала вместе – Илье Алферову даже в больницу не пришлось таскаться и самому вызывать скорую), только раз Тамара настойчивым криком звала его и потом в бреду нечто говорила так, что Илья Алферов опять не смог разобрать ни слова, но выходило – звала близнецов, и сиделка, привыкшая уже к ее сбивчивой речи, потом подтвердила, мол, сильно она за них переживает – им же в апреле двенадцать исполнилось, а бабка не очень-то смотрит, накормить накормит и в телевизор, они-то не Алик, он хоть и утроба ленивая, но самостоятельный, неглупый, эти же – в отца, дураки и бездари, но добрые, а что может хуже доброго идиота быть, так что, если Илья Алферов попробует им тоже какое-никакое место найти, Тамара и умрет легче. Пришлось близнецов селить в комнату к Алику (благо, дело (совершенно социально безответственное) стало приносить видимый доход), но Тамара и к осени страдать не прекратила: впала в тяжелое, но стабильное, по словам врача, состояние. На этом жена Ильи Алферова, может быть, доход от достойного бизнеса заметила и даже оценила, но сдерживать себя не смогла и съехала: сначала на дачу, а после, плюнув Илье Алферову в лицо (глаза маленькие, поросячьи, как была дурой, так дурой осталась, нет-нет, материальное ее, конечно, беспокоит мало, а как иначе: с университета сразу к Илье Алферову жить – только фикция это все, так, слова, разотри-забудь, потому что какая может быть социальная ответственность без материального, и кому ты к чертям, тварь, нужна, какие к черту кулинарные шоу, тупые псевдопсихологические высеры, когда три рта охуевших кормить нужно – тут Илья Алферов не сдержался, тут Илья Алферов сказал, что думал и что не думал (и думал, что не думал), и уебал неразжатым от начала скандала кулаком, потому что при всей этой ее как бы нежности, эмпатии (Коленька, Оленька, Илюшенька), этой ее социальной, блядь, ответственности (сироты, леса, больные – фонды, хосписы и проч., и проч.), при всем вот этом вот, она как была сучарой, никому за так ненужной, так сучарой и сдохнет, потому что никто кроме него, Ильи Алферова, пусть да, безвольного, ни одна душа человеческая с ней рядом существовать не сможет и не захочет, и не его это желание подмены-замены-перемены – как угодно называй (да и само это желание (сама же просила, сама же захотела услышать) потому только и появилось), – толкнуло твоего Коленьку (Колю, Кольку) с девятого этажа (вот сама погляди – насмешка есть насмешка, символ, синхронизация – как ты там это называешь (ты, сука, ведь Юнга на самом-то деле не читала)?: он не из спальни прыгнул, не из гостиной – из кухни, из твоей ебаной кухни – и только яблоки с подоконника вслед посыпались), и Оленька сбежала от тебя подальше, потому что никому ты не нужна, потому что херня это все, болтовня тупая твоя, сюсюканья эти (и еще два раза в живот), а не любовь – любить ты не можешь) после желчного его Fb поста, где он со звериным запалом громил ее кулинарное шоу (не ясно, конечно, только ли желчь Ильи Алферова стала поводом для плевка; по словам самого Ильи Алферова, его личное раздражение возникло от взлетевших после поста просмотров шоу почти-теперь-нежены-уже, так, во всяком случае, он заключил в комментариях под постом Юлика Сперанского, бывшего коллеги по небывшей теперь редакции, с которым они устраивали регулярные Fb-срачи несколько лет подряд, в котором Юлик Сперанский настаивал на том, что шоу Ильи Алферова уже-бывшей-почти-жены не про кулинарию вовсе и даже не про психологию, но про деконструкцию гендерных ролей, Илья Алферов ответил в том роде, что Юлику Сперанскому, конечно, виднее, потому что это он, Юлик, учился с ней на одном курсе и тогда еще трахал холодное, что труп, ее тело, и не только ее, а всей русской кинокритики, которая сама мертвее всякого мертвеца, потому что он, Юлик Сперанский, некрофил, но почти сразу же комментарий удалил) прямо в зале суда (и хорошо, что совместно нажитым теперь считалось почти все: не только квартира в Коломенском, но и Оленьки однушка в Митино, и квартира матери бывшей-почти-жены Ильи Алферова, которую они оформили куплей-продажей, чтобы не платить по долгам придурошной старухи (Илья Алферов до сих пор дергался, вспоминая костлявые ее пальцы, тянущиеся под тяжестью перстней к полу, и легкий, всей жизнью отточенный до совершенства, отталкивающий жест ладонью, и жуткую вонь немытой посуды с кухни – и прямая спина, убранная в палантин, и ты, сучара, так подыхать будешь: одна в пустой квартире на юго-западе – это у Ильи Алферова трое несовершеннолетних и жена-теперь-почти, между прочим, от онкологии умирающая, и это Илье Алферову причитается), отправилась жить в материну квартиру, которую терпеть не могла и с детства еще боялась, и каждый ее квадратный сантиметр отдавался головной болью, и каждый злоебучий сантиметр заставлял вспоминать и сомневаться, рыдать и вздрагивать, курить ночами на тесном балкончике (за балконные перекуры отец когда-то чуть все волосы ей не выдрал – и мать только руками разводила, мол, тебе не раз говорили, а теперь реви сколько влезет, может, полегчает, только реви тише, потому что отцу вставать рано, потому что отец во благо народа, а ты, тварь, позоришь, и как ему соседям в глаза после такого, свою дочь воспитать не смог, зато народным образованием занимается, потом отец хрясь об угол кухонного стола за ночные прогулки в черемуховых кустах, и сам же на этой кухоньке удавился – долго смотрела, пока нога дергаться не перестала, и позвонила в скорую), но месяца не прошло, уехала жить к Юлику Сперанскому.
Тамарина мать оказалась старухой не менее придурковатой, но более вонючей: сама источала отвратительный запах и оставляла склизкую свою челюсть на раковине, за что Илья Алферов даже кричал несколько раз, но крик не помог – помогла пощечина, и та ненадолго; и ладно бы челюсть, не в одной челюсти дело: балкон, вечно завешанный одеждой, следы обуви по всей квартире, сама обувь и носки, крысой смотрящие из каждого угла, фантики, пакеты, какие-то коробки, крики близнецов, чашки с недопитым чаем, бутылки, окурки, пачки из-под сигарет, трусы, игральные карты, мячи – старания клининговой службы исчезали за час. И Аликовы бессонные ночи, проводимые за компьютерными играми (теперь Илья Алферов делил комнату с Аликом, бабка с близнецами переселились в гостиную, уже бывшую (какое такое общее пространство, тут все пространства общие: пьяные близнецы залетали в его с Аликом спальню среди ночи и прямо с улицы, не разуваясь и не снимая курток, играть в злоебучую онлайн-игру, и подзатыльники, которые теперь Илья Алферов раздавал со странной легкостью и воодушевлением (какие сомнения? в минуты скорби мой народ сомнений не знал), помогали слабо, разве – по синяку на брата успокаивало до следующего утра; сиделка переехала в бывшую комнату Алика, мол, задыхается от запахов спирта и лекарств, которые не исчезали даже после длительного и для Тамары вредного проветривания, зато исчезали вещи (часы, кольца, что-то из одежды и мебели, даже телевизор) – Алик кивал на близнецов, близнецы на Алика, сиделка сказала, мол, старуха, потому что притворяется на счет ноги, старуха, после третьего удара все же рухнувшая на пол, сдала Тамару, которой совестливо, что до сих пор не померла и обуза, и со слезами схватилась за ногу, Алик пожал плечами (ни о какой практической философии речи больше не шло, Алик третью неделю не выходил из дома – близнецы только успевали ему за пивом бегать и про себя не забывать), усмехнулся и заключил, что бизнес Ильи Алферова нужно расширять и лучше всего в Ростов, да и дядька знакомый на этот счет у Алика имеется – дядька, некий дальний родственник Аликова отчима или самой Тамары, и правда, подъехал, едва Илья Алферов успел кивнуть в ответ; дядька дело как полагается сделал, даже процента большого, видимо по-родственному, не назначил; Илья Алферов и презентацию организовал (сил хватило), и приятели Ильи Алферова, которых он видел теперь все реже, сочувственно похлопывали по плечу, потом репостили, но слишком быстро репосты удаляли, что в очередной раз вызвало в Илье Алферове приток желчи, желчь разлилась большим постом с критикой всех социально ответственных проектов и дел, которые, по словам Ильи Алферова, нужны были исключительно в самооправдание, потому что сидят все подле стола барского и жрут крошки, что из господинова рта сыплются, а дальше носа своего видеть не хотят и не видят, потому что им позволено тут сидеть, потому что они и нужны только во искупление вины господской, назначены в должность совести – и за эту претенциозность Илью Алферова не только комментировать перестали, но вовсе подвергли остракизму и при встрече старались руки не подавать, один только Юлик Сперанский чуть что – сразу обниматься лез, но Илья Алферов полагал: это Юлик Сперанский за одну давнюю сплетню мстит, которая и не сплетня вовсе, а так – проболтался пьяный и даже кому не помнит (поднимается Илья Алферов среди ночи воды попить и видит, как на кухонном столе этот самый ростовский дядька, даже еды не убрав, трахает больную Тамару, и что Илья Алферов в ответ сказать может? она-то ему вроде и жена, но исключительно формально, чтобы детям после смерти ее не пришлось горько хлебнуть, потому развернулся-ушел, и сил уже никаких – забегался, истаскался; или у Юлика свои какие-то извращенные представления о морали – с кем поведешься (получается, взял себе Юлик Сперанский Илью Алферова в несчастные собратья, потому что и за Юликом была одна неприятная история, одна сплетня, но кто теперь разбирать будет (Илья Алферов тогда ресторанами заведовал в издании, Юлик – фильмами (это был сам по себе повод для иронической вражды, мол, один про материальное, второй про идеальное – вода и камень, или вода камень точит (Илья Алферов, конечно, полагал, что вода – это именно он и есть, потому что с Юликом на премьеру – там рюмка, еще одна, и в ресторан (позже смеялись, что такой вот генезис ответственного потребления в России (про Россию и потребление Юлик написал довольно, стоило только издание поменять (тут Илья Алферов не удержался и съехидничал, мол, правда за ним была, потому что на фильмы плевать все давно хотели, есть и есть, а вот насчет вкусного сэндвича до сих пор интерес имеют и иметь будут (кого растил, того и вырастил – где-то в пучине Fb-срача ответил Юлик да еще и четыре дурацких смайлика оставил (только и сам Юлик к этому процессу выращивания имел отношение более чем непосредственное (Юлик, конечно, отношение имел и поесть рад не менее Ильи Алферова, только чепухой всякой не занимается, и какой достойный-журналист-за-сорок про жратву писать будет (и никаким достойным бизнесом и семьей иногородней тут не прикроешься (а Илья Алферов ничем прикрываться не собирался (Илья Алферов жует яблоко у раскрытого окна и думает потолки на кухне белить – пожелтели от Аликовых с сиделкой сигарет – и штукатурка посыпалась
Последняя песня невинности
Или если в вагон вваливается компания полупьяных подростков: они кричат и друг друга не слышат, они закидывают ноги в грязных кроссовках на сиденья, матерятся через слово, толкаются и обнимаются, оскаливая ряды ровнобелых зубов, звенят бутылками в рюкзаках и, замечая вдруг наблюдающего, бросают на него недобрый взгляд. И наблюдающий, словно уличенный в неприемлемом, стыдливо отворачивается, поскольку наблюдающий не из тех, кто будет учить, отчитывать и наставлять, поскольку наблюдающий и сам теперь, да и прежде, ничего не знает, хоть он и вдвое почти старше. Он другое высматривает (и были бы наблюдаемые немногим прозорливее), он, можно сказать, наслаждается хором надломленных не далее как вчера голосов, замерев в ожидании одного – самого редкого, но самого весомого, перед которым вдруг расступится все – интерлюдия, соло на трубе. За окном как обычно: леса сменили поля, за полями река, мост, деревня, карьер, который за годы (от них до него – все может уместиться в метр) совсем почти срыли, и оплывающий шар солнца, схватившийся над зыбью деревьев, и конец внезапно знойного октябрьского дня, и они скрадывают кофтами свои широкие темневшие плечи, когда вываливаются из намеренно противоположного тамбура на одной с ним станции и бредут в темноту переулка, где раньше был бар, еще раньше – городская баня, и следом он, положив ногу на ногу на заднем сиденье такси, захлопывает дверь, чтобы еще сорок минут, от станции к дачному поселку, его не оставлял смутный, расходящийся рябью от центра, стыд – он в очередной раз оробел, не смог скрыть смущения и даже страха, трепета, чуть не ссыпал в их руки всю пачку сигарет, когда они, ехидно ухмыляясь, затребовали две (ну так, может, и три) вместо одной – тут-то и обнаружил молчащего в хоре, чуть более бледного, в бейсболке козырьком назад, с толстой и крепкой, вроде древесного ствола, шеей, которая словно насильно стянута воротником футболки, и кофта узлом на выступающей груди, – он-то ничего не спросит – самодовольная ухмылка, тишина, барабаны, труба.
Только мать останавливает, потому что в Москве не виделись, так вот хотя бы здесь, потому что здесь она еще с самого утра (отец приболел, ехала первым экспрессом), потому что все изменилось, все не то, все почти не узнать: сосны срубили, река заросла, иссохла, совсем узкая стала, дома перекрасили и перестроили, да и карьер по дороге срыли – тоже заметила.
После бабкиной смерти на дачу переехала ее сестра: одинокая, тихо одуревшая от полного безлюдья еще в московской однокомнатной квартирке и окончательно тут сошедшая с ума, тоже по-тихому. Потом звонила дачная соседка, заметившая нечто неладное, – мать приехала обнаружить труп. И кроме трупа хлам, бабкина сестра сохраняла все: коробки из-под конфет, тортов, обуви, бытовых приборов, газеты, журналы, бумажные и полиэтиленовые пакеты, бутылки. Стеллажи на террасе, используемые прежде для банок с вареньем и соленьем, были забиты книгами, комод – бабкиными письмами и дневниками ее сестры (писем писать ей было некому): двадцать семь толстых тетрадей убористым и совершенно неразборчивым почерком, даром всю жизнь работала учителем, даже бабкин почерк врача был гораздо понятнее. Тетради и письма сожгли. Книги оставили будущим хозяевам, слишком долго пришлось бы вывозить.
После чая и непродолжительного разговора не мог заснуть, как и тогда здесь: в мансарде, на узкой скрипучей кровати и твердой влажной подушке. Поднялся ветер, и всю ночь в окно стучала ветка (или не стучала, но должна была стучать), грызлись где-то собаки, скреблась мышь или крыса, а к утру забарабанил по металлической крыше дождь. И уже в рассветной полудреме послышался вдруг бубнеж Гордона с первого этажа (то ли про шаровую молнию, то ли про половую жизнь пчел, то ли про странные свойства памяти и времени), приоткрыл глаза и наблюдал красное свечение в лестничном проеме.
На даче вместе с бабкой провел два лета и один сентябрь, время особенно громких родительских склок: после первого лета обнаружил разбитый телевизор, порванные занавески, разрезанные отцовы рубашки, которыми полнился ящик для ветоши, и почти постоянное отсутствие самого отца, который, по словам матери, неделями пропадал на конференциях, мать же в редкие дни его присутствия обязательно читала лекции вечерникам и засыпала в гостиной, утомившись от проверки контрольных работ. Я, как и всё (почти) лето на даче, валялся на диване: читал (зимой я отрыл среди отцовых книг, которые то упаковывались в коробки, то снова возвращались на полку, Харитонова, и никак не мог остановиться в перечитывании) и задумчиво курил, что, кстати, напоминало: не все лето было проведено так. К августу, устав от бабкиных монологов (она, видимо, полагала, что некто в тринадцать может с интересом слушать историю интриг, развернувшуюся в городской поликлинике лет сорок или того больше назад и местами уворованную из сериала про скорую помощь, который вечерами иногда некто слышал, скучая над томами летнего чтения, привезенными матерью в прошедшие выходные), стал ходить на реку, где случайно был обнаружен не занятый веселящимися компаниями незнакомых мне сверстников и закрытый тенью двух крупных дубов и трех плакучих ив берег, и сидеть в этом укрытии днями: так же читал, бросал ветки или камни в воду, мастурбировал – мысль быть застигнутым не оставляла и несла особенное удовольствие; жаль, дебри никого не прельщали, лишь однажды девушка пристроилась поссать в укрытии ивовых листьев (мне достался блеск влажной ее спины), но, видимо, окрапивившись или испугавшись моего резкого выдоха, взвизгнула и убежала, или, раскорячившись животом в землю, обнаружил под дубом прикрытую листом подорожника и россыпью гальки пачку сигарет, сразу же выкурил две (на второй сильно раскашлялся) и стал думать об их владельце, представлять его (ее сразу стала отброшенной) и, чтобы сличать, решил дождаться и подглядеть, укрывшись в глубине дебрей, где роились жирные мухи, несло стоялой водой, и нога угодила в неопределенного происхождения густо-черную слизь. Купальщиков уже не было слышно, видимо, устав радоваться, разбрелись по домам, и глухой свет едва пробивался сквозь прибрежные заросли, проявляя наросты паутины на ветках, и в набухающем стрекоте кузнечиков слышалось сопение и шарканье, когда был ошарашен внезапной вспышкой возле воды, словно взрывом фейерверка, и хотел было бежать к этому всплеску, но удачно себя удержал на месте, чтобы сбросить зловонные кеды и босиком прокрасться туда, где на корточках лицом к воде с короткими темными волосами и в черном балахоне сидит он – приподняться и передернуться, резкий поворот, тяжелый или гневный взгляд, несколько секунд совершенной тишины (глохнет стрекот и шорох) и едва переносимые муки ожидания, и глаза, в темноте не разобрать, но, кажется, карие и подсвеченные сигаретой. Он тяжело вздохнул и снова отвернулся.
– Ну? – спросил он раздраженно и с щелчком пальцев бросил окурок в реку.
– Так, – и долгое молчание (окурок шипит, всплеск, смешок). – Это… Я тут сигареты нашел днем, и вот опять думал и захотел. Но это твои, наверное. Но я брал уже, но одну.
– Ладно, – он улыбнулся половиной рта. – Бери, если так. – И протянул пачку.
Старательно вынул сигарету себе, потом ему, он вроде как передумал уходить. Молча курили и смотрели на воду (точнее он молчал и смотрел, я же все время хотел что-нибудь сказать, только не знал что и косился на него).
– Давай, – сказал он, докурив.
– Пока, – ответил я и бросил, повторив за ним, окурок в воду.
Ночью бубнил Гордон, я не мог кончить уже полчаса, образы все время соскальзывали в мысль о забытых в дебрях кедах, которые, как наутро выяснилось, кто-то, разумеется, стащил, разумеется, кто-то из весельчаков-купальщиков, мне же осталось лишь плюнуть в пустое место.
– А ты что думал? – качала головой бабка, водя костлявым пальцем над коробкой шоколадных конфет, принесенной утром благодарным за быстро вылеченную припухлость дачником. – Люди сейчас такие… Да всегда такие: глупые и жадные. Не все, конечно, но ты поди отличи, когда так оно перемешалось. Вот была у меня медсестра в отделении – молодая такая девочка, исполнительная, семья опять же прекрасная. А как иначе? К нам тогда без семьи попасть никак, если по молодости. Оно, может, кстати, и хорошо, что так было. А про нее касательно и слова плохого не скажешь – добрая такая, всякому поможет, а кому не поможет, того утешит. И самой от того неловко становилось, вроде радуюсь, но думаю – что же ты такая, за что извиняешься? Год-другой, стали препараты пропадать, ну, сам понимаешь, не аспирин. Главврач на санитара, мол, пьяница был, теперь совсем совесть потерял. А мне так сразу ясно стало. Ну заикнулась, ну а дальше-то что? Я терапевт, он главврач, мало ли за самой грешков? Да и, надо полагать, было меж ними нечто. Вот тебе и красавица, и умница, а ты – кеды, кеды… Мать приедет – отругает.
Виделись с ним еще несколько раз – вечерами встречались в дебрях и курили, рассматривая воду и прибрежных водомерок, пока позволял свет стремительно укорачивающихся дней, пристально изучая наполовину высохший ельник и кусты дикого шиповника на противоположном берегу, – он ничего не говорит и задумчиво глядит в расходящиеся от его плевка круги на воде, мне и сказать нечего, радуюсь только, что сдерживаю очередную глупость в уме. Его дача через две от нас, вход увит виноградником так, что с улицы и дома не разглядеть, живет в пристанционном городе, на год старше и почти на голову выше, молча чему-то посмеивается водянистым ртом и снова сплевывает в реку.
– Летаевых сын, – говорила бабка, увидев нас возвращающихся с реки. – Клубнику у меня воровал, пока в детсад ходил. Подрос – теперь грабит. Это он Ивановых дачу обнес, что на въезде с елкой такой голубой, раскидистой. Они поехали в Германию на зимние, а не как обычно, он и ограбил, несильно, конечно, но спирт весь вынес и телевизор. Телевизор мать потом вернула. Это он же наверняка твои кеды и утащил. И какие у тебя с ним интересы?
Никаких интересов – по крайней мере, в том августе – не отыскалось, даже в самых темных тайниках речных зарослей, которые на следующее лето оказались ему бесполезны – я увидел его из окна мансарды через несколько дней после приезда: он шел по узкой дачной улице, задевая темной головой обступившие улицу ветви садовых деревьев, пиная ржавую железную банку – звон взметнувшейся над крышей гниющего сарайчика банки не исчезает и дребезжит эхом до позднего вечера, – шел, как всегда, вдумчиво и медленно, словно учился бережному отношению к собственной телесности, и, совершенно не таясь, курил. Я хотел окликнуть его, но стало неловко – вдруг или наверняка забыл, и только проследил до поворота его смуглые плечи и так же короткие темные волосы; и бежать бы на улицу, чтобы как будто случайно столкнуться (если через огороды) возле разлапистой, допустим, ели, но остановлен матерью у самой калитки и отправлен поливать огород. Теперь ситуация переменилась: мать приезжала каждые выходные, чтобы избежать лишних столкновений с отцом и контролировать меня и бабкино здоровье: я стал слишком многое, по материным словам, себе позволять, бабка же стала понемногу сходить с ума; оплачивать услуги сиделки они с отцом, конечно, не могли, и подобием сиделки должен был стать я. Мать даже купила мобильный телефон и звонила каждый вечер: узнавать про бабкино здоровье у меня, у нее про мое поведение, но мы, поругавшись в обед, к вечеру успевали помириться, и она не рассказывала матери, что учуяла от меня табачный запах, я же молчал про ее неудачную попытку убить себя: очевидно, серьезного делать она не собиралась, да и гвоздь в прихожей вряд ли бы выдержал бабкино грузное теперь тело.
А он в саду: лежит, закинув руку за голову, дымит дымом, и дым мгновенно сдуваем, и едва заметен запах паленой травы, лежит, разглядывая истошно синее и чреватое бурей небо в ряби яблоневых ветвей и листьев, слегка этому усмехаясь половиной рта и как бы проваливаясь, как бы утопая в бирюзовом свечении некошеной травы, в мерцании далекой грозы за увитым виноградником обветшалым плетнем. Я вглядываюсь в покрытый пятнами кариеса зуб и какой-то странный, отчего-то пришло на ум (или мимо ума), «сладостный» блеск в самих собой хохочущих глазах, словно потерявший источник себя солнечный блик в сумерках, вдруг охвативших узкую комнату внизу многоэтажного дома, где за мутными стеклами, дребезжащими в облупившейся раме, истлевает снег и апрельская наледь без удержу блестит к самому горизонту через пустошь, отороченную зыбкой полоской леса – не избежать столкновения.
– Тошно тут, – сказал он. – Я в город хочу.
– А в городе разве не тошно?
– В городе дело есть. – Приподнялся он и внимательно на меня посмотрел.
– И что не едешь? – Я отвернулся и закурил.
– Долго. Может, со мной?
– Вряд ли. Кто меня пустит?
– В субботу?
– Нет, ну я бы поехал. Но мать…
И когда, после так и не случившегося дождя, в навалившейся духоте – бабка уснула (теперь она принимала таблетки и ночного Гордона не дожидалась) – я не то чтобы тихо, наоборот, даже нарочно хлопнув дверью, вышел на улицу, где стоял он, плечом уперевшись в забор, с двумя банками пива и полулитровой бутылкой водки. И мы не понимали, куда идти: сначала сидели на досках, сложенных возле его дачи, потом на лавке у меня в саду, еще прогулялись до реки – он плавал, я не хотел, но все равно залез в воду и лежал у берега, вдавливая свое худое и сводимое судорогой тело в каменистое дно. И вот когда он, наплававшись, подошел ко мне, я увидел черный силуэт – темноту, объятую темнотой, – и приподнялся на локтях, чтобы нечто сказать ему, хотя даже пьяному казалось, что произношу исключительную глупость, меня вдруг стошнило – мутная кашица медленно проплыла мимо долгих его ног. И эти ноги, и руки, и туловище, на котором проглядывалась еще большая темнота сосков, и темнота подмышек, дебри – всё слишком, всё чересчур, словно Алиса, он рос и не мог остановиться – уже все окна и двери повылетали, доски треснули, фундамент лопнул – он ширился. Я блевал. И вода шелестела. И трава пахла бирюзой. И он смеялся. Так: тихо с постепенным нарастанием, сначала бас, после высокие, и отсутствие середины, и это отсутствие как-то особенно остро ощущается, хочется опереться и встать, но опереться не на что. И он протягивает руку – я карабкаюсь по ней, к самому его лицу, к самой голове, где блики ровных зубов, сладкий запах пота и холодный запах реки. И всё же: так далеко до этой его головы, и мокрые волосы переливаются в бледном свете, как крона после дождя.
– Крона, – сказал я, выбравшись на берег.
– Корона, блядь. Хватит уже, – останавливал он.
Но я не останавливался: меня пугало его молчание – и здесь на берегу, и когда мы долго ходили по темным улицам дачного поселка: в узком доме горел свет и за окном несколько голосов нескладно, но протяжно пели, мы перепрыгнули (он – одним махом, я же взбирался и медленно, нащупывая носками кед почву, спускался) через шаткий забор соседнего поросшего крапивой участка, и тут он внезапно приказал молчать.
– Да я и не особо, – ответил я шепотом, чему он в очередной раз усмехнулся, наматывая на кулак майку, и разбил окно: неожиданно глухо звякнуло стекло, назойливо и нудно простонала рама. Мы влезли в дом.
Пытаясь не коснуться стекла и не шуметь, я поцарапал ногу и, чтобы рассмотреть рану, сел на стул, но стул скрипнул и обрушился – лежать и глядеть на далекую его голову, которая заходится в смехе и не старается более быть тише. Я попытался смеяться вместе с ним – нелепость и глупость.
Успокоившись, он стал ходить по маленькой комнате, отворяя дверцы шкафов, выдвигая ящики, пока я продолжал сидеть на полу и тереть ногу. Он зажег свечу, сунул ее в пустую бутылку и поставил на пол возле меня, сам сел напротив, глянув слишком как будто серьезно, припухлым или вспученным взглядом (может, всего-то и была игра огня в темноте), словно сейчас расплачется (потом глядел так еще несколько раз, но всегда в темноте: под столбом фонаря, в свете фар, из-за горящей спички, когда учил меня прикуривать на ветру; каждый раз мне хотелось его успокоить, унять чудовищное несоответствие, и стоило сделать одно движение навстречу, взгляд снова становился прежним, хохочущим, словно ничего не происходило).
– Завтра в город поедешь? – спросил он.
– В какой? – отчего-то поинтересовался я. – В город.
– Ну да. – Он кивнул, прикрывая ладонью глаза (длинные, но вместе с тем непропорционально крупные пальцы, до невозможного коротко обрезанные ногти, но тем не менее отороченные черной дужкой грязи – еловый лапник, по которому возвращаешься из школы в звенящий избытком света январский полдень и который обнаруживает вдруг смердящую, хлюпающую, кишащую белесыми личинками бурую слизь под тонким слоем хрустящего под ногами снега). – Дело есть.
– Поедем, – я потерял всякое сомнение, испугавшись вдруг, что он уедет без меня и мне придется провести весь вечер одному, затем еще и еще до конца лета – на дачу он не вернется, его пребывание здесь теперь не обязательно, теперь излишне. – А что ты вообще в городе на все лето не остался?
– Не знаю… На самом деле типа наказание. Меня на второй год оставили – мать орать, я послал, вроде того. Ну и батя въебал, смотри… – Он указал на тонкий шрам над губой, не замеченный мной ранее. – И на дачу отправил. Сам-то не приезжает почти, а я бы машину взял, и покатались бы.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































