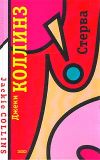Текст книги "Бедлам в огне"

Автор книги: Джефф Николсон
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
– По пьяни?
Макс разочарованно посмотрел на меня:
– Вот я иногда думаю, ты действительно такой тупой или только придуриваешься?
– Наверняка такой, – сказал я.
– Я здесь потому, что это место ничем не хуже других, – сообщил Макс, словно эти слова все объясняли.
– Мне кажется, есть места получше, – возразил я.
– Ладно, согласен, наверное, есть. “Бар Гарри”, еще “Две обезьянки”. Ну, может, “Луна под водой”. Но в клинике, пока они не откроют бар или пивнушку, это место ничем не хуже других.
– Если это место не хуже других, то почему бы нам не пойти в другое место?
– Тебе еще многому надо научиться, Грегори.
– Мне все это говорят.
Макс снова протянул бутылку. В ней оставалось совсем на донышке. Я выпил половину остатка и вернул бутылку Максу. Он осушил ее, сунул руку в карман и достал непочатую.
– Если я говорю, что это место ничем не хуже других, то я говорю, что мы все в аду, каждый в своем персональном аду, и он всегда с нами, куда бы мы ни пошли. Выпивка не вызволяет тебя из ада, но, если постараться, можно решить, что ты не в аду, а в чистилище.
– Вы сами в это не верите, – сказал я.
– А зачем бы я тогда говорил?
– Думаю, что это просто пьяная болтовня, – ответил я.
– Хочешь кое-что увидеть? – спросил Макс.
Если сидишь на крыше сумасшедшего дома с пьяным психом и тот спрашивает, не хочешь ли ты кое-что увидеть, волей-неволей засомневаешься. Он может показать слишком много вещей, которых ты вовсе не хочешь видеть, – особенно после случая с пенисом. Поэтому я ответил: “Возможно”, и Макс, поставив бутылку, вприпляску двинулся по парапету к другому углу здания. Затем принялся пятиться назад. В руках он что-то держал.
– Что это? – спросил я.
Макс развернулся, и я увидел птичье гнездо. Он нес его осторожно, насколько, разумеется, позволяло почти полное отсутствие координации. Макс протянул мне гнездо, и я снова замешкался. С какой стати мне нужно гнездо? Но тут я увидел, что внутри. В гнезде сидели четыре крошечных птенца. Совсем голые; распахнутые клювы казались гигантскими по сравнению с телами. Птенцы походили на жутковатых эмбрионов, и эти эмбрионы кричали, обращаясь ко мне, обращаясь ко всему свету, и то был крик бессилия. Я все еще не понимал, зачем мне птенцы, поэтому отверг дар Макса, и он отступил от меня на пару шагов.
– Не стоит ли положить их туда, где вы их взяли? – сказал я.
– Зачем?
– Чтобы не уронить.
– Я не собираюсь их ронять.
Макс сунул руку в гнездо и выдернул одно из вопящих созданий, словно это был кусок теста. Он подержал птенца на ладони, а затем, размахнувшись, швырнул вниз. Донесся жутковатый тихий шлепок, но собравшиеся внизу никак не отреагировали.
– Зачем вы это сделали? – спросил я.
– Просто так, – сказал Макс и достал второго птенца.
– Если нет причин, то зачем делать?
Он задумался.
– Хорошо, тогда, наверное, есть причина.
– Ладно, Макс, хватит.
– Что хватит?
Он швырнул на землю второго птенца. Послышался еще один далекий шлепок.
– Приятно, наверное, – сказал Макс, – оказаться на месте одного из этих птенцов? Сидишь у себя в гнезде, и вдруг тебя хватают богоподобные пальцы, поднимают ввысь, уносят прочь, а затем ты летишь в пространстве, сплошной восторг, и скорость, и ветер. Затем удар. Затем ничего. Небытие. По-моему, неплохо. Во всяком случае, лучше моей жизни.
– Но вас же никто не убивает, разве не так, Макс?
– А разве так? Разве так? Думаю, я все это время ошибался. Я думал, что пью, чтобы перестроить сознание. Но теперь я думаю, что я пил, потому что у меня была депрессия, как и говорил Линсейд. Выпивка иногда помогает, но не всегда. Иногда становится только хуже. Но теперь я нашел новый метод лечения. Убивать живые существа. Вот это занятие всегда поднимает мне настроение.
Я разозлился, и не только потому, что не одобрял (нерешительно и либерально) жестокое обращение с животными, но еще и потому, что меня воротило от того наслаждения, с каким Макс вершил эту жестокость. Отвращение мое усиливалось еще и тем, что Макс оправдывал гнусность происходящего своим собственным состоянием, собственным страданием.
– Не понимаю, чего ты так расстроился, – сказал Макс. – Это всего лишь птички. У них нет души или чего-то в этом роде.
– Дело не в душе, – ответил я.
– А в чем?
Я поймал себя на том, что произношу слова, которые, как я прекрасно понимал, должны звучать нелепо:
– Если бы птицы захотели убить вас, я бы попытался им помешать точно также, как я пытаюсь помешать вам убивать их.
Я представлял себе картинку в духе Хичкока: в чистом небе появляется стая стервятников и пикирует вниз, целясь в череп Макса.
– Ты спас бы меня? – удивился Макс. – И как бы ты это сделал? Вразумил бы птичек? Или ты имеешь в виду физическое вмешательство?
Честно говоря, я ничего вообще не имел в виду, но когда Макс сделал движение, чтобы швырнуть с крыши третью птицу, я обнаружил, что не только встал в полный рост, но и сделал пару нетвердых шагов по парапету в его сторону, собираясь хоть как-то помешать. Я даже сумел наполовину перехватить руку, когда Макс размахнулся. Этого оказалось недостаточно. Несмотря на мои старания, птенец полетел вниз, как и предыдущие, но, поскольку я перехватил руку Макса, бросок вышел не таким сильным. Птенец падал медленно, шлепок вышел не такой смачный, а смерть, наверное, – не такой мгновенной. Вообще-то я рассчитывал совсем на другой исход.
Пациенты внизу забеспокоились. Даже если они не могли разобрать, что точно происходит на крыше, они наверняка поняли, что там идет какая-то борьба. И это очень их взволновало.
– Осторожней, Грегори, – крикнула Алисия, и я растрогался.
– Остался один, – сообщил Макс. – Будешь за него драться?
Я понял, что не буду. Выпрямившись во весь рост, я и так превысил свой предел риска. Я совершенно не собирался ввязываться в драку, и уж тем более на условиях, когда проигравшего или даже победителя может постичь та же участь, что и птенцов.
– Драться не обязательно, – сказал я. – Лучше поставь гнездо на место и перестань вести себя как последняя сволочь.
Макса эти слова удивили – они и меня удивили. Я поднялся на крышу, чтобы вразумлять, а не оскорблять, но ситуация заставила меня стать Андерсом.
– Тебя что, действительно волнует птичка?
– Наверное, да.
– Тебя эта птичка волнует больше, чем я?
Жалобы Макса мне наконец надоели.
– Да пошел ты, Макс. Хватит ныть.
– Ты прав. Ныть больше не буду.
Макс повернулся ко мне, и я подумал, что он решил на сегодня угомониться и двигать к окошку, но у него на уме было совсем другое. Он сунул мне гнездо и шагнул с крыши. Выглядело это поразительно буднично. Он просто шагнул в пустоту. Я так растерялся и удивился, что сам чуть не упал. Но все-таки не упал. Я немного пошатался, потом опустился на парапет, держась за камень одной рукой и сжимая гнездо другой. Единственный оставшийся птенец клекотал на меня и, судя по его виду, не испытывал никакой благодарности.
Внизу поднялась суматоха. Я не видел, как Макс падал. Я был слишком напуган, слишком занят собой, чтобы смотреть. Только через несколько мгновений я осторожно глянул вниз и понял, что Макс не долетел до земли. Удар оказался не смертельным – да и ударом случившееся вряд ли можно было назвать. Андерс не просто прервал падение Макса, но умудрился поймать на лету этого несчастного пьяницу. И теперь держал Макса на руках, словно изображал “Оплакивание Христа”. Всем потребовалось бесконечное мгновение полной неподвижности, прежде чем мы осознали, что произошло. Даже сам Андерс, казалось, не вполне понимал, что он сделал и каким образом; но затем он встрепенулся и, осознав, что держит Макса на руках, заорал:
– Если еще раз выкинешь что-нибудь такое, я башку твою говенную на хер раздолбаю!
После чего уронил Макса на землю. Тот тяжело упал и остался лежать с удивительно довольным видом – как пьяница, который нашел уютное местечко, где можно вздремнуть. Андерс с презрительным видом удалился.
Линсейд опустился на корточки рядом с Максом и ощупал его, проверяя пульс и сломанные кости. Пульс он нашел, сломанных костей – нет, встал и безразлично отвернулся. Здесь его больше ничто не интересовало.
– С ним все в порядке? – крикнул я вниз.
– Жить будет, – разочарованно отозвался Линсейд.
Кто-то из пациентов поднял Макса и потащил в здание клиники. Остальные побрели прочь, словно подзадержавшиеся гуляки. Я чувствовал себя брошенным и опустошенным, а еще – виноватым болваном. Я хотел знать, где Алисия.
– Спиртное расслабило мышцы, и это смягчило падение, – крикнул мне Линсейд. – Знаете, у пьяных есть такое свойство.
У пьяных, может, и есть такое свойство – только не в моем случае. Я был не расслаблен, а парализован. Я даже сомневался, смогу ли спуститься с крыши. И я не знал, что делать с птичьим гнездом.
– Вероятно, вам стоит какое-то время там посидеть, – крикнул Линсейд. – Вам нужно о многом подумать.
Он был прав. Интересно, почему пациенты теперь ведут себя так странно? Конечно, можно утверждать, что процесс сочинительства оказал на них невероятно благотворное действие и, как только прекратился, пациенты опять помешались. Но меня это объяснение не устраивало. Я считал, что дело скорее – во внимании. Когда пациенты писали свои работы, им его уделяли очень много – сначала я, потом Грегори. Теперь же, когда они бросили сочинительство, им нужно как-то иначе привлекать к себе внимание. Но публикация книги – это еще один способ оказаться у всех на виду, и я надеялся, что после выхода антологии они вновь утихомирятся.
* * *
Наверное, было сделано множество корректур и выверено немало гранок, но я их не видел. Я ничего не видел до появления книги – и, думается, видеть не хотел. Накануне выпуска тиража нам доставили ящик с двенадцатью экземплярами. Линсейд принял ящик так, словно в нем лежала бомба, которую надо обезвредить. Только убедившись, что это действительно книги, он раздал их, оделив каждого экземпляром, словно Санта-Клаус в белом халате. Больные устроили давку, они радовались и поздравляли друг друга, но я к ним не присоединился. Я взял свой экземпляр и ушел к себе в хижину.
Оставшись один, я поймал себя на том, что взвешиваю томик на руке, разглядываю, принюхиваюсь к бумаге и переплету, кладу его на стол, поворачиваю в разные стороны и под разными углами, смотрю на него, отступив назад. В конце концов я решил, что книга красивая, настоящая, подлинная, но все же меня не покидало свербящее и постыдное чувство разочарования. Тогда я не нашел ему объяснения, но позже пришел к выводу, что хотя книга была подлинной и достойной, хотя мы так ждали ее, то была всего лишь книга – всего лишь объект в океане других объектов. А я так надеялся, что она окажется особенной. Что она станет единственной в своем роде, станет излучать своего рода небесное сияние.
Это смутное недовольство усилилось, когда я приступил к чтению. Несмотря на гору писем, присланных Грегори, я имел весьма смутное представление о содержании. Все составные части были, разумеется, мне знакомы, поскольку я читал их, так сказать, в первоисточнике, но я плохо представлял, что именно Грегори включил в книгу, и совсем ничего не знал о том, как он расположил материал. Надо ли говорить, сколь сильным было мое разочарование.
Несмотря на все прекраснодушные слова Грегори и великий, по его утверждению, труд, мне показалось, что поработал он весьма небрежно. И дело не только и не столько в том, что он отобрал сочинения случайным образом, – в этом я еще видел определенный смысл, – но скорее в том, что Грегори сознательно взял худшие работы пациентов. Книга выглядела чередой несвязных, если не сказать бессвязных, отрывков нескладной прозы. Большинство были совсем короткими, а концовки просто повисали в воздухе. Рассказы обрывались посредине, иногда буквально на полуслове, в них не просматривалось ни ритма, ни смысла. Хуже того: логика отсутствовала и в последовательности отрывков, не чувствовалось ни единого замысла, ни формы, не было интересных противопоставлений. Да, конечно, в каком-то смысле эта книга давала представление о творчестве пациентов сумасшедшего дома. Секс и насилие, анаграммы и футбольные матчи, интересные факты и духовные размышления – но отобранные примеры были далеко не лучшими. Это была просто мешанина. О чем, черт побери, думал Грегори, составляя книгу?
Теперь, когда передо мной лежал этот низкопробный конечный продукт, я не сомневался, что справился бы с работой гораздо лучше – хуже просто невозможно было сделать. О чем я думал, считая, будто Грегори профессиональнее меня? Я сердился на себя не меньше, чем на него. Почему я не вел себя чуть увереннее, чуть нахальнее?
И все-таки я понимал, что досаду и разочарование надо отбросить или хотя бы держать их при себе. Если я начну ворчать, то лишь выставлю себя завистником, а кроме того, я не хотел портить удовольствие другим. Линсейд, Алисия, пациенты, даже санитары и медсестра не ведали моей раздвоенности. Они были целиком и без остатка влюблены в книгу. Они считали ее замечательной, просто замечательной. Отличная обложка, отличная бумага, шрифт, форзац, клей – все было высшим достижением британского книгоиздания. Сам факт существования книги кружил им голову. И оттого мне почему-то было проще отбросить свои сомнения, свои литературные возражения. Я всем улыбался и говорил себе, что достаточно просто лелеять идею книги – безотносительно к ее воплощению или содержанию.
* * *
Оглядываясь назад, я что-то не припоминаю, чтобы я думал, как все сложится после выхода “Расстройств”. Полагаю, большинство людей, чья книга должна выйти из печати, предаются фантазиям или даже, помоги им Бог, надеждам, что их творение тотчас завоюет популярность, возглавит списки бестселлеров, сами они станут звездами и будут раздавать интервью влиятельным газетам и журналам, их начнут зазывать на радио, а может, и на телевидение. В те дни попасть в телевизор считалось гораздо более почетным, чем сейчас.
Мои надежды были совсем иными. Первое мое предположение заключалось в том, что антология скорее всего свалится в бездонную яму забвения, которая поглощает так много книг. Я полагал, что дело ограничится парой коротеньких рецензий – одна в местной газете, другая – в солидном, но малотиражном литературном журнале, – и на этом вся шумиха заглохнет. В том, что эти рецензии будут положительными, я не сомневался. Даже если рецензенты найдут книгу тошнотворной – по моему мнению, на то имелись все основания, – они все равно отнесутся к ней доброжелательно, разве нет? Надо быть уж совсем бессердечным циником, чтобы поливать грязью пациентов психиатрической клиники. К чему пинать автора, если он и так уже сидит в дурдоме?
Я был бы рад столь сдержанному приему, поскольку прекрасно сознавал: чем больше станут говорить о книге, тем выше вероятность моего разоблачения. Я знал, что рано или поздно правда выйдет наружу, но по-прежнему твердил себе: не сейчас, позже.
Похоже, Линсейд тоже был заинтересован, чтобы книга осталась в пристойной безвестности. Никто не удивился, когда он объявил, что пациентов следует оградить от общения с прессой. Им не позволят участвовать в рекламных акциях, приуроченных к выходу книги, даже если они получат приглашения. Пациенты не будут давать интервью, не будут выступать в книжных магазинах, не будут читать отрывки, не будут посещать местные радиостанции. Он не разрешит им выходить во внешний мир, где их поджидают убийственные образы. Возведена перегородка в их головах или нет – они еще не готовы к встрече с внешним миром.
Первое печатное упоминание о книге появилось в рекламном журнале, где указывалось, что Грегори Коллинз, автор “Воскового человека”, многообещающего, но не лишенного изъянов дебютного романа, теперь выступил редактором сборника произведений душевнобольных. Интонация заметки указывала на то, что книга получилась интересной и достойной, но она не из тех, что озарит литературный мир.
Вырезка из журнала пришла по почте с вложенной визиткой Николы, и, к моему удивлению, за этим отзывом последовали другие. За дело взялись настоящие рецензенты, и начало твориться что-то несусветное. Рецензии буквально повалили – и не в заштатных газетках, а в престижных изданиях, куда более престижных, чем я мог вообразить. Я не хочу сказать, что мы могли конкурировать с Энтони Бёрджессом и Айрис Мёрдок, но, казалось, литературная публика отнеслась к книге всерьез, сочла ее достойной внимания. Более того, рецензентам книга нравилась – нравилась настолько, что это нельзя было объяснить просто снисходительностью к душевнобольным.
Мнения, конечно, разнились, не было всеобщего и единодушного восхваления. По меньшей мере два рецензента выразили сомнение в этичности подобной публикации. Они сомневались, что стоит выставлять напоказ излияния сумасшедших, но даже такие критики заключали, что достоинства представленных произведений не позволяют антологии выглядеть просто паноптикумом. Никто из рецензентов не усомнился, что книга является занимательной и любопытной; но пара человек высказали предположение, что она представляет собой нечто большее, что это настоящее литературное событие, коллективный постмодернистский шедевр.
Одна критикесса в начале статьи, казалось, соглашалась со мной, утверждая, что само по себе сумасшествие еще не делает тебя интересным человеком и уж точно не делает интересной твою писанину, но дальше она утверждала, что “Расстройства” вышли удачными именно потому, что их писали интересные больные, и такими же интересными оказались их произведения, а Грегори Коллинз проделал огромную работу, вдохновляя, редактируя и даже “исцеляя” пациентов. Я решил, что рецензенты сошли с ума. Разве они не видят, что Грегори только все испортил?
Когда приходила почта с очередными рецензиями, я собирал пациентов и зачитывал вслух новые отзывы. Я чувствовал себя деревенским сказителем или городским глашатаем. Пациенты обступали меня и ловили каждое слово, бурно реагируя на любую похвалу или едва приметную оговорку или резкость. Когда я заканчивал читать, следовала продолжительная дискуссия, углубленный анализ рецензии, неоднократные попытки прочесть между строк, выявить скрытый, завуалированный или подсознательный смысл. Полагаю, они вели себя так, как полагается настоящим авторам.
Иногда на этих семинарах присутствовал Линсейд, и он проявлял ту же доверчивость, что и больные. Каждое одобрительное слово он воспринимал как оправдание своих методов. Он вел себя так, словно я не имел никакого отношения к созданию книги, и меня это бесило, но я, конечно, понимал, что выставлю себя в самом жалком виде, если попробую самоутвердиться. Когда однажды я в самых туманных выражениях намекнул Алисии, она даже не поняла, о чем я говорю.
– Но ведь твое имя стоит на обложке книги, разве нет? – сказала она.
Мы лежали в постели. От меня все еще требовалось много говорить. Издание книги и ее очевидный успех сделали меня еще более желанным. В постели я по-прежнему должен был играть роль сумасшедшего, но характер игры сменился: теперь я был литературным сумасшедшим. Алисия уверяла, что безумие и художественный дар очень близки. Она изображала мою ревностную поклонницу, которая надеется с помощью секса вытянуть меня из трясины безумия. “Расскажи мне о каждой из сотен своих поклонниц, в которых ты засовывал свой грязный, вонючий хуй”. Тяжкое это дело – держаться на том уровне изобретательности, которого требовала Алисия, но я честно старался, а поскольку она не жаловалась, то полагал, что у меня кое-что получается. Считал ли я такое поведение нормальным и здоровым? Нет, конечно не считал, но если не давать женщине предаваться болезненным фантазиям в хижине писателя, то где же еще ей предаваться им? На бумаге?
Об антологии продолжали говорить – и не только в печати. Стало ясно, что в нашем распоряжении находится книга, которую некоторые могли бы назвать золотоносной жилой, но, учитывая строгие правила Линсейда, было непонятно, как можно разрабатывать эту жилу. Именно тогда в дело вмешалась Никола. Она сообщила, что ряд газет горит желанием прислать журналистов и фотографов, чтобы взять интервью у авторского коллектива “Расстройств”. Требовалось лишь назначить дату и время. Линсейд не согласился. Он говорил, что, возможно, и пустил бы какого-нибудь проверенного журналиста, который взял бы короткое интервью под его пристальным наблюдением, но о фотографе не может быть и речи.
Никола нехотя передала эти слова журналистам, которые восприняли отказ как желание сохранить анонимность пациентов, и в этом смысле они были готовы пойти навстречу, предложив поместить либо силуэтные снимки больных, либо фото, сделанные под таким углом, чтобы пациентов нельзя было опознать. Но Линсейд ответил, что дело вовсе не в этом. А как только перед журнальным или газетным редактором маячила перспектива поместить статью без иллюстраций, его рвение тут же сходило на нет. Мне поведение Линсейда казалось не очень логичным. Его лечение заключалось в том, чтобы ограждать пациентов от образов, а не от фотоаппаратов, но, наверное, разумно предположить, что пациенты – после того как их сфотографируют – захотят увидеть результат, и это желание может привести к разнообразным неприятностям.
Затем от газетчиков пришел ответ: ладно, уговорили, фотографировать пациентов не будем, сфотографируем редактора и врача, мистера Коллинза и мистера Линсейда. Я почувствовал, что Линсейд вот-вот поддастся искушению. Ему хотелось внимания и признания, но он устоял. Если больным нельзя сниматься, то нельзя и нам. Это решение выглядело еще менее логичным, но я ему только порадовался. Появление моей фотографии в общенациональной газете – самый надежный способ вывести меня на чистую воду. Я мысленно возблагодарил Линсейда за стойкость.
Ходили разговоры о том, чтобы прислать в клинику группу с радио для подготовки документальной передачи, и такой вариант выглядел вполне безобидным, но Линсейд не пошел и на это. Как и в случае визитов родственников, приезд такой группы был сопряжен со многими непредвиденными факторами; все те же проблемы с цветастыми рубашками и узорчатыми галстуками, а у кого-то ведь может и татуировка оказаться на видном месте.
В конце концов Никола двинула напролом. Она позвонила в клинику и резко поговорила с Линсейдом, потребовав ответить, что за игру он ведет, почему вечно вставляет палки в колеса и вообще воспринимает он книгу всерьез или нет. Хочет ли он, чтобы книга продавалась, чтобы ее читали, чтобы имела успех у широкой публики? По-моему, Никола даже в дилетантстве его обвинила.
Меня восхитила та невозмутимость, с какой Линсейд выдержал ее напор. И все-таки – несмотря на то, что мне вовсе не хотелось принимать участие в этом балагане под названием “рекламная кампания”, несмотря на то, что в отличие от остальных я считал книгу далеко не столь выдающейся, – и все-таки мне казалось, что Линсейд напрасно вставляет палки в колеса. Даже Алисия присоединилась к моему мнению. Вот, сказала она, прекрасная возможность доказать всем этим пигмеям (именно так она выразилась) их неправоту, – всем этим пигмеям, которые утверждают, будто он занимается пустяками, которые называют его работы конъюнктурными и поверхностными. Я заинтересовался, кто, где и когда такое говорил.
Трудно сказать, что послужило последней каплей, но в конце концов Линсейд не выдержал и согласился, что кое-какие шаги следует предпринять.
– Очень хорошо, – провозгласил он. – Я знаю, что мы сделаем. Мы устроим литературный вечер.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.