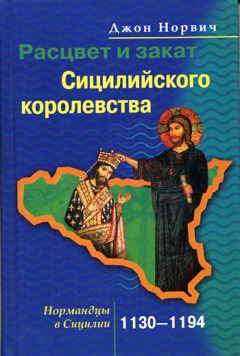
Автор книги: Джон Норвич
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Роскошный и величественный – безусловно; однако с самого начала надо сказать, что Монреале в целом скорее эффектен, нежели красив. Ему не хватает совершенства Палатинской капеллы, византийской загадочности Мартораны, чар, исходящих от Великого Вседержителя в Чефалу. Он производит впечатление главным образом благодаря своим размерам и великолепию. Но это впечатление, как и сам собор, колоссально.
Как это часто бывает с церквями нормандской Сицилии, внешний его облик не обещает многого. За исключением восточной апсиды и северо-западной панорамы, открывающейся из аркады (см. илл.), он радикально изменился со времен Вильгельма. Длинная северная колоннада была пристроена семьей Гаджини в XVI в., западный портик – еще кем-то в XVIII. Это последнее дополнение не должно сильно нас огорчать, поскольку портик скрывает от наших глаз первоначальный декор в виде ложных арок из рыжей лавы (готических и богато украшенных, лишенных плавности и чистоты Чефалу), абсолютное уродство которых ощущает любой, кто идет вдоль восточной стены. Эти бессмысленные каракули, особенно по контрасту со строгой простотой юго-западной башни, доказывают лучше любых слов, сколь многое потеряла европейская архитектура, отказавшись от романского стиля.
Прежде чем входить в здание, стоит рассмотреть внимательнее бронзовые двери. Те, что у северного портика, – работа Баризана из Трани – датируются 1179 г., в то время как главные западные двери сделаны Бонанном из Пизы в 1186 г. Кроме своей замечательной красоты, двери интересны по двум причинам. Во-первых, они итальянские. В течение XI и начала XII в. ремесло изготовления дверей было явной монополией Византии. Достаточно вспомнить церкви, которые упоминались в нашем рассказе, – в соборах в Амальфи и Салерно и пещере на Монте-Сан-Анджело[133]133
Двери Монте-Сан-Анджело стали причиной гневных демонстраций в марте 1964 г., когда местные жители не позволили увезти их в Афины, где должна была состояться византийская выставка («Таймс», 4 и 6 марта 1964 г.).
[Закрыть] – и мы видим прекрасные византийские двери; при работе над ними греческие мастера применяли свою обычную технику, гравируя изображения на металле и затем дополнительно прорисовывая их серебряной нитью, иногда эмалью. Во второй половине XII в., однако, итальянцы не только освоили византийскую технику, но и улучшили ее и пробовали свои силы в создании настоящих барельефов. Во-вторых, на примере дверей Монреале мы можем проследить, как два мастера шли разными путями к тому итальянскому стилю, который достиг своего расцвета в творениях Джильберти двумя веками позже. Как и следовало ожидать, Баризан, живший в южной Италии, где греческое влияние было особенно сильно, уже изготовлявший двери для соборов в Равелло и в своем родном городе Трани, более традиционен, он мог использовать западную технику, но его рисунки – святые, восточные лучники, схождение в ад и снятие с креста – все еще византийские. Бонанн, напротив, может быть, менее умелый художник, но насквозь западный; его библейские сцены земны и натуралистичны, насколько это возможно в религиозном искусстве XII в.
В отличие от внешнего убранства, интерьер собора сохранился в первозданном виде, не считая кровли над нефом, замененной после пожара 1811 г. Многие детали напоминают о Палатинской капелле – инкрустации разноцветным мрамором на полу и внизу стен, колонны из зеленого римского мрамора, мозаичные орнаменты в виде стилизованных пальмовых ветвей, амвон, алтарная ограда, троны. И все же атмосфера совершенно иная. Дело здесь не просто в различиях между часовней и собором, скорее причина в том, что архитектура Монреале не слишком выразительна. К западу от апсиды громадное пространство стены плоско и безлико, напрасно глаз ищет опору или нишу, что-нибудь, что нарушило бы это тоскливое однообразие. Палатинская капелла одухотворена, в Монреале всегда ощущается что-то сухое и безжизненное.
Но все недостатки искупаются мозаиками, поскольку здание прежде всего – картинная галерея, и его архитектура рассчитана именно на это. Они покрывают практически все пространство стен, площадью около двух акров. Возможно, из-за их количества в последние годы стало модным хулить эти мозаики, заявляя, что они несколько аляповаты по сравнению с мозаиками других нормандских церквей Сицилии. Ничего подобного.
Огромное изображение Христа Вседержителя в центральной апсиде – его руки простерты словно бы для того, чтобы обнять всех прихожан, каждая рука длиной более шести футов – не сравнится с подобным же изображением из Чефалу, но то же можно сказать практически о любом произведении искусства. В остальном, хотя трудно ожидать, что все части такого огромного панно будут выполнены с одинаковым совершенством, общий уровень рисунка и исполнения удивительно высок.
Данный факт кажется еще более замечательным, если вспомнить, что вся мозаика была собрана за пять или шесть лет, между 1113 г. и концом десятилетия. Ведущий специалист по мозаикам нормандской Сицилии профессор Демус считает, что над ней трудились греки, поскольку только в Византии Вильгельм мог найти артель мастеров, способную сделать огромную работу в столь краткий срок; и действительно, верхняя половина апсиды с греческими надписями и условными канонизированными изображениями – византийская по сути. Но в отношении сюжетных мозаик вывод Демуса представляется сомнительным, поскольку для них характерны живая выразительность и изобретательность, не вписывающиеся в рамки жесткого канона, все еще соблюдавшегося в греческом религиозном искусстве XII в. Взгляните, например, на южную стену трансепта и особенно на три картины, образующие нижний ряд, – «Омовение ног», «Страдания в саду», «Предательство». Иконография безупречно византийская, но свободные позы, мягко ниспадающие драпировки, внутреннее движение и ритм рисунка являются таким же шагом вперед по сравнению со стилистикой изображений Палатинской капеллы или Мартораны, как двери Бонанна по сравнению с дверями Баризана. И это, безусловно, заслуга итальянских мастеров. Христианское искусство, как мы знаем, родилось на берегах Босфора, и около тысячи лет Константинополь шел в его авангарде, вырабатывая тот единственный язык, который годился для выражения христианских духовных ценностей в зрительных образах. Затем, к концу XII в., на первое место выходит Италия. Минет еще сто пятьдесят лет, прежде чем в церкви Хоры (ныне Карийе Ками) в Константинополе появился чисто греческая мозаика, сравнимая по живости и яркости с мозаиками Монреале.
Посетителю, медленно обходящему собор, может показаться, что в этих бесконечных мозаиках запечатлены все библейские истории от Книги Бытия до Деяний апостолов. Это почти так, и гость, вдоволь наглядевшись на Вседержителя и скользнув взглядом по изображениям святых внизу, обычно сразу переходит к сюжетным картинам, а жаль, поскольку при этом он пропускает один из поистине удивительных иконографических сюрпризов Монреале – вторую фигуру справа от центрального нефа. Опознать ее нетрудно, поскольку, в соответствии с канонами того времени, имя написано по сторонам от нимба, дабы все могли прочесть: «Св. Томас Кентр». Передана ли здесь, хотя бы отчасти, внешность погибшего архиепископа, мы обсуждать не будем[134]134
Определенно не передана самая заметная особенность во внешности Томаса – необычно высокий рост. О том, что Бекет был очень высок, упоминает его капеллан Уильям Фитц-Стефан, а в рукописи XV в. из Ламбетского дворца (306 f. 20) под общим заголовком «Рост людей» указано, что рост Томаса составлял «7 футов без дюйма» (то есть более 2 м). Самым красноречивым свидетельством, однако, являются одеяния Беккета, все еще хранящиеся в сокровищнице кафедрального собора. «Вплоть до недавнего времени в день памяти святого Томаса их надевали на несущего службу священника. Всегда выбирали самого высокого – и все равно приходилось их подкалывать» (Д. Стэнли. «Памятники Кентербери», 1855).
[Закрыть]: мозаичные изображения святых редко оцениваются с точки зрения портретного сходства. Это, однако, самое раннее известное нам изображение Томаса Бекета, созданное на памяти одного поколения после его смерти[135]135
Любопытная маленькая рака с мощами Бекета, выполненная в форме золотой подвески, хранящаяся в нью-йоркском музее Метрополитен. На ней изображены королева Маргарита и прелат, дающий благословение. Надпись вокруг изображения гласит: «Эту вещь королева Маргарита Сицилийская дарует Рено из Бата». Маргарита умерла в 1183 г., то есть это изображение несколько более раннее, чем мозаика. Но изображен ли на рисунке Беккет или Рено, чье имя упомянуто в надписи, выяснить нет возможности (Бюллетень музея Метрополитен. Т. XXIII. С. 78–79).
[Закрыть].
На первый взгляд, подобная попытка почтить святого, предпринятая затем его злейшим врагом, кажется удивительной и вызывает определенные сомнения. Мы, однако, знаем из других источников, что королева Иоанна всегда благоговела перед Томасом, и очень может быть, что именно она подвигла мужа на то, чтобы увековечить память Беккета таким образом. Каким еще способом, в конце концов, могла она загладить вину отца? Посмотрев внимательней на святых, изображенных вместе с Томасом в апсиде, убеждаешься в правильности этой догадки. Первая пара слева и справа от окна – два древних папы Климент I и Сильвестр, оба долгое время прожившие в изгнании и оба – поборники мирского и духовного главенства Рима[136]136
Климент, по преданию, претерпел мученичество при Траяне. Сильвестр, согласно легенде, крестил Константина Великого и получил легендарный Константинов Дар.
[Закрыть]. Напротив Томаса – святой Петр Александрийский, другой прелат, отстаивавший церковь от посягательств мирской власти и вернувшийся из изгнания, чтобы принять мученичество. Затем великомученики Стефан и Лаврентий, погибшие за те же идеи, что и Петр. Наконец, повернувшись к нефу, мы обнаруживаем еще двух канонизированных архиепископов – Мартина, всегда любимого бенедиктинцами, и Николая из Бари, одного из главных покровителей нормандского королевства. Вывод напрашивается сам собою: в выборе изображений для апсиды не только отразились принципы, которые Монреале воплощал с момента его основания; это была также добровольная дань уважения одному из изображенных: самому современному и уже самому любимому святому и мученику Англии.
Над тронами по обе стороны главной восточной арки помещены портреты самого Вильгельма: слева он принимает корону из рук Христа (см. илл.), а справа – передает свой монастырь в руки Пресвятой Девы. С художественной точки зрения эти мозаики не очень хороши и не идут ни в какое сравнение с парой подобных изображений из Мартораны. Но на сей раз несомненно, что портреты настолько близки к оригиналу, насколько художник мог это сделать. После всего, что мы слышали о красоте Вильгельма, круглое лицо, чахлая русая борода и слегка отсутствующий взгляд несколько разочаровывают; красавец, которому только перевалило за тридцать, мог бы выглядеть более впечатляюще. Но возможно, портретист был к нему несправедлив.
Еще больше Вильгельму не повезло с гробницей. Следуя своему плану превратить Монреале в сицилийский Сен-Дени, Вильгельм похоронил там королеву Маргариту после ее смерти в 1183 г., после чего перенес туда же останки своего отца из Палатинской капеллы и своих братьев – Рожера и Генриха – из Палермского собора и церкви Святой Марии Магдалины. Но когда сам Вильгельм умер в 1189 г., Уолтер из Милля немедленно приказал поместить саркофаг в новом палермском соборе, уже почти готовом. После долгой и жестокой борьбы между двумя архиепископами тело короля упокоилось наконец в Монреале, как он хотел, но саркофаг остался в Палермо и был утрачен. Гробница из белого мрамора, дарованная монастырю четыреста лет спустя, в 1575 г., архиепископом Людовико де Торресом, совершенно не подходит для нормандского короля и являет собой печальный контраст с большим порфировым саркофагом Вильгельма Злого, величественно возвышающимся рядом на своем мраморном пьедестале[137]137
Гробницы Маргариты и двух ее сыновей у северной стены святилища были декорированы заново в XX веке и заслуживают разве что беглого взгляда. Наибольший интерес представляет алтарь Людовика Святого Французского. Людовик умер от чумы во время Крестового похода в Тунис в 1270 г., и его сердце и внутренности хранятся здесь.
[Закрыть].
При всем великолепии Монреале в его величии есть что– то мрачное. Может быть, виной здесь тусклое золото, которое не дает ему ни жаркого сияния Мартораны, ни радостного блеска Палатинской капеллы. Собор слишком огромен и безлик. Проведя в нем полчаса, приятно вновь выйти на солнечный свет.
А потом, наконец, вступить в крытый дворик. Здесь великолепие не затенено мрачностью. Здесь же мы находим единственное в Монреале свидетельство сарацинского влияния – сто четыре тонкие арки, поддерживаемые парами изящных колонн, иногда покрытых резьбой, иногда инкрустированных мрамором или украшенных мозаикой. В юго– западном углу расположен фонтан, опять же арабский, но особой формы, характерной для нормандской Сицилии (см. илл.). Подобный фонтан имеется в Чефалу. От всей колоннады веет покоем и сияющей красотой: обстановка здесь более официальная, чем в изящной маленькой галерее в монастыре Святого Иоанна в Эремити, но, тем не менее, жизнь здесь кажется прекрасной и монахи Монреале, должно быть, находили в этом месте не только тень, но и свет. И это не все, поскольку капители колонн – каждая сама по себе шедевр – вместе представляют собой уникальную коллекцию романской резьбы по дереву, не имеющую равных на Сицилии. Сюжеты самые разные – библейские предания (в том числе чудесное Благовещение в северо-восточном конце), сцены из повседневной жизни, сбор урожая, сражения и охота, истории современные и древние, христианские и языческие; у южной стены рядом с фонтаном две пары колонн украшают сцены жертвоприношения Митре. Наконец, на восьмой капители у западной стены (если считать с южного конца) изображен в камне сюжет, который мы уже видели на мозаике: Вильгельм Добрый, на сей раз безбородый, дарует новый монастырь Матери Божьей. Последняя и самая крупная церковная постройка нормандской Сицилии была дарована и принята.
Глава 18
ПРОТИВ АНДРОНИКА
Дворцы короля протянулись чередой вдоль холмов, окружающих город, как жемчуг вокруг дамской шеи. В их садах и двориках он отдыхает. Сколько у него дворцов и сторожевых башен и бельведеров – да отнимутся они у него, – сколько монастырей он одарил землями, скольким церквям даровал кресты из золота и серебра!..
Теперь, как мы узнали, король намерен послать свой флот в Константинополь.
Но Аллах, славный и всемогущий, отбросит его в смятении, показав ему неправедность его пути и послав бурю, чтобы сокрушить его. Ибо, как Аллах возжелает, так и будет.
Ибн Ажубаир
Солнечное королевство, процветающее и мирное; молодость, красота и немереное богатство; любовь подданных и юной прекрасной королевы; имея все это, Вильгельм II, наверное, казался своим современникам – даже собратьям-государям – баловнем судьбы. Так до определенного момента и было. Трех вещей, однако, она ему не дала: во-первых, долгой жизни; во-вторых, сына и наследника; в-третьих, хотя бы толики политической дальновидности. Вручи ему судьба по крайней мере один из этих трех даров, и Сицилийское королевство избежало бы многих бедствий, которые его ждали. Но поскольку у Вильгельма не было ни того, ни другого, ни третьего, Сицилии предстояло погибнуть. И именно Вильгельм Добрый, не понимавший, что он делает, и исполненный самых благих намерений, ответствен за ее разрушение.
Фридрих Барбаросса не раз возвращался к мысли о брачном союзе с сицилийской династией. Еще в 1173 г., когда Вильгельм искал подходящую невесту, император предложил ему одну из своих дочерей; но в существовавшей тогда ситуации едва ли он очень удивился, когда его предложение было отвергнуто. Спустя десять лет ситуация стала иной. После заключения Венецианского договора политика империи радикально изменилась. Фридрих, поняв, наконец, что не сможет одолеть своих североитальянских врагов силой, взял на вооружение новую тактику дружбы, переговоров и компромиссов. После смерти Александра III между ломбардскими городами и папством снова возникли трения, и императору не составило труда заключить договор с лигой. Согласно этому договору, подписанному в 1183 г. в Констанце, горожанам предоставлялась полная свобода в выборе своих предводителей и принятии собственных законов в обмен на признание верховной власти императора. В результате этой уступки единство лиги распалось, а позиции Фридриха в северной Италии заметно усилились. При относительно слабом папстве можно было предполагать, что новая попытка сближения с Сицилией встретит лучший прием. Зимой 1183/84 г. имперский посол прибыл в Палермо с предложением – ни более ни менее как брачного союза Генриха, сына и наследника Фридриха, с принцессой Констанцией Сицилийской.
Нам, оценивающим события задним числом, кажется невероятным, что Вильгельм и его советники хотя бы мгновение рассматривали подобную идею. Констанция, дочь Рожера II, родившаяся после его смерти, была на год моложе своего племянника-короля и являлась наследницей трона. Если бы она вышла замуж за Генриха, а Вильгельм умер бездетным, Сицилия попала бы в руки императора и ее независимому существованию пришел бы конец. Конечно, у Иоанны имелось достаточно времени, чтобы родить детей. В 1184 г. ей исполнилось восемнадцать, ее мужу – тридцать. Но жизнь в XII столетии была еще более непредсказуемой, чем сейчас, дети часто умирали, и соглашаться на такой рискованный для королевства брак до того, как вопрос о наследовании будет полностью решен, казалось по всем меркам преступной глупостью[138]138
Хронист Робер из Ториньи пишет, что слыхал от кого-то, будто Иоанна в 1182 г. родила сына Боэмунда и отец провозгласил его немедленно после крещения герцогом Апулии. Если это так и ребенок в то время еще был жив, становится до определенной степени понятно, почему Вильгельм согласился на имперский брак. Но в таком случае почему Робер – который, как настоятель аббатства Мон Сен Мишель, вряд ли хорошо знал сицилийские дела – единственный, кто об этом упоминает? Ришар из монастыря Сан Джермано, подданный Вильгельма и наш главный поставщик сведений об этом последнем периоде истории королевства, жалуется на бесплодие Иоанны в первых же строках своего сочинения.
[Закрыть].
В Палермо нашлось много людей, способных это высказать. Маттео из Аджелло, в частности, как и многие уроженцы южной Италии того времени, воспитывался на жутких рассказах о разрушительных имперских нашествиях и видел во всех немцах потенциальных врагов его родины. Он резко отверг предложение; и мало кого из сицилийцев прельщала перспектива утратить независимость, отдавшись в руки далекой и, на их взгляд, варварской империи, традиционно враждовавшей с их страной. Уолтер из Милля, однако, придерживался противоположного мнения. Мотивы его не вполне ясны. Один из авторитетных свидетелей – Ришар из Сан Джермано утверждает, что он поступал так просто назло Маттео – это выглядит глупо, но, зная, как эти двое ненавидели друг друга, мы не можем полностью отвергать такое объяснение. Шаландон, более расположенный к Уолтеру, склонен предполагать, что он, как англичанин, оценивал ситуацию более беспристрастно, чем его собратья, и полагал имперское владычество меньшим злом, чем гражданская война, которая, с его точки зрения, была бы неизбежна при любом другом варианте развития событий.
Но так ли это? Не могла ли Констанция выйти замуж за кого-то другого, царствовать согласно своему праву, а затем с течением времени передать корону законному сыну? Могла. Но каковы бы ни были мотивы архиепископа, у самого Вильгельма имелось одно главное соображение, определившее его решение, – ему требовалась дружба Западной империи. Вот почему летом 1184 г., к страшному смятению большинства своих подданных, он дал согласие на помолвку.
Подобно Роберту Гвискару сто лет назад, Вильгельм собрался в поход на Византию.
24 сентября 1180 г. Мануил Комнин после долгой болезни умер в Константинополе. Его похоронили в церкви Вседержителя, рядом с его могилой поместили плиту из красного камня, на которой некогда бальзамировали тело Христа и которую император принес на своих плечах из гавани, когда ее несколькими годами раньше привезли из Эфеса. Он был плохим императором. Слишком амбициозный во внешней политике, слишком расточительный дома, он за тридцать восемь лет своего пребывания на троне сумел истощить почти все ресурсы империи и оставил ее в состоянии, близком к экономическому краху, из которого она так по-настоящему и не вышла. При жизни Мануила очарование его личности, роскошь его двора и его щедрое гостеприимство вводили всех в заблуждение, и мир думал, что Византия сильна, как всегда. Но после его смерти наступило быстрое и жестокое разочарование.
Наследником престола являлся единственный законный сын Мануила – Алексей одиннадцати лет. Этот мальчик не отличался ни талантами, ни способностью вызывать к себе симпатию. По свидетельству Никиты Хониата, который при Мануиле занимал дожность императорского секретаря и оставил нам наиболее надежные и – вместе с Пселлом – наиболее занимательные описания будней средневековой Византии, этот юный принц «так раздувался от тщеславия и гордости и был до такой степени лишен внутреннего огня и одаренности, что не мог выполнить простейшие вещи… Он проводил все время в играх и охоте и усвоил некоторые порочные привычки». До совершеннолетия Алексея его мать Мария Антиохийская управляла страной в качестве регентши. Как первая латинянка, правящая в Константинополе, она с самого начала столкнулась с серьезными трудностями. Любовь ее мужа к Западу и его попытки привнести западные реалии в византийскую жизнь и раньше раздражали его подданных; в частности, им очень не нравилось, что торговые связи и дела империи по большей части перешли в руки итальянских и франкских купцов, которые задавали тон в деловом квартале города. Теперь все боялись – и не без причин – дальнейшего расширения прав и привилегий этих купцов. Византийцы еще более обеспокоились, когда Мария приблизила к себе в качестве главного советника человека с откровенно прозападными симпатиями – племянника Мануила, протосебаста Алексея, дядю королевы Иерусалимской. Вскоре все решили, что он не только ее советник, но и любовник, хотя из описания Никиты нелегко понять, с какой стати императрица, чья красота славилась во всем христианском мире, могла проникнуться к нему нежными чувствами.
«У него была привычка проводить большую часть дня в постели, задернув занавеси, так что он едва мог видеть солнечный свет… Когда солнце появлялось, он искал темноты, как дикий зверь; он также находил много удовольствия в расшатывании своих разрушающихся зубов, вставляя новые на место тех, что выпали у него от старости».
По мере того как неудовольствие росло, стали строиться заговоры с целью свержения Марии. Один из них возглавила ее падчерица, тоже Мария – та самая принцесса, руку которой дважды предлагали Вильгельму Сицилийскому. Заговор был открыт, Мария со своим мужем Райнером из Монферрата и другими сторонниками едва успела спрятаться в церкви Святой Софии и закрыться там. Но императрицу-регентшу это не остановило. Не испытывая традиционного почтения к святыне, она послала императорскую гвардию схватить заговорщиков, и прославленная церковь избежала осквернения только благодаря вмешательству патриарха. Этот инцидент неприятно изумил византийцев, а последующее изгнание патриарха в монастырь сделало Марию еще более непопулярной. Общее возмущение против нее было так велико, что она не смогла наказать свою падчерицу. Позднее она и пальцем не пошевелила, когда жители Константинополя направились толпой в монастырь, где томился патриарх, и привели его с триумфом в столицу. В целом Мария едва ли могла действовать глупее.
Первая попытка переворота, тем не менее, провалилась, но следом за ней возникла угроза со стороны другого родственника императора – на сей раз мужчины и человека совершенно иного калибра. Андроник Комнин был уникальной личностью. Нигде больше на страницах византийской истории мы не найдем столь неординарного персонажа; его кузен Мануил, пожалуй, приближается к нему, но на фоне Андроника даже Мануил теряется. И определенно нигде больше мы не найдем такой судьбы. Рассказ об Андронике Комнине читается не как история, он читается как исторический роман, внезапно воплотившийся в жизнь.
В 1182 г., когда Андроник впервые появляется в нашем рассказе, ему уже исполнилось шестьдесят четыре года, но выглядел он на сорок. Более шести футов ростом, в прекрасной физической форме, он сохранил красоту, ум, обаяние и хитрость, изящество и умение себя подать, что вместе со слухами о его легендарных подвигах в постели и на поле битвы создало ему репутацию донжуана. Перечень его побед поражал своей внушительностью, перечень скандалов, в которых он участвовал, был ненамного короче. Три из них особенно разгневали императора. Первый – когда Андроник вступил в непристойную связь со своей кузиной и племянницей императора принцессой Евдоксией Комнин, а на порицания в свой адрес ответил, что «подданные должны следовать всегда примеру своего господина и что две вещи из одной мастерской обычно одинаково ценятся» – ясный намек на отношения императора с другой его племянницей, сестрой Евдоксии Феодорой, к которой, как было всем известно, он испытывал привязанность отнюдь не дядюшкину. Несколькими годами позже Андроник покинул свое войско в Киликии с явным намерением соблазнить очаровательную Филиппу Антиохийскую. Он наверняка понимал, что рискует навлечь на себя крупные неприятности; Филиппа была сестрой нынешнего антиохийского князя Боэмунда III, а также жены Мануила, императрицы Марии. Но это, в случае Андроника, только придавало дополнительную остроту игре. Хотя ему к тому времени было сорок восемь, а его жертве – всего двадцать, серенады, которые он пел под ее окнами, оставляли неизгладимое впечатление. Не прошло и нескольких дней, как девушка сдалась.
Но Андроник недолго наслаждался плодами своей победы. Разгневанный Мануил немедленно отозвал его; князь Боэмунд также ясно дал понять, что не намерен терпеть эту скандальную связь. Возможно также, что чары юной принцессы оказались не столь сильны. Так или иначе, Андроник поспешно отправился в Палестину и поступил на службу к королю Амальрику; там, в Акре, он встретил еще одну свою родственницу, Феодору, вдову предшественника Амальрика на троне короля Иерусалима Балдуина III, которой в то время был двадцать один год. Она стала любовью всей его жизни. Вскоре, когда Андроник перебрался в Бейрут – свой новый фьеф, который Амальрик дал ему в награду за службу, Феодора к нему присоединилась. Будучи близкими родичами, они не могли вступить в брак, но жили вместе во грехе, пока в Бейруте, в свою очередь, не вспыхнул скандал.
После длительных скитаний по мусульманскому Востоку они обосновались в Колонее, у восточной границы империи, и жили счастливо на деньги, которые успели прихватить с собой, и доходы от мелких грабежей. Их идиллия пришла к концу, когда Феодора и два их с Андроником маленьких сына были захвачены герцогом Трапезундским и отосланы в Константинополь. Андроник, не в силах перенести этой потери, поспешил в столицу и немедленно сдался, театрально бросившись к ногам императора и обещая исполнить что угодно, если только ему вернут его любовницу и детей. Мануил проявил обычное великодушие. Ясно, что столь заметной и столь же противозаконной паре не следовало оставаться в Константинополе; но Андронику и Феодоре предоставили приятный замок на берегу Черного моря, где они могли бы жить в почетном изгнании – и, как все надеялись, в счастливой праздности.
Но этого не произошло. Андроник всегда заглядывался на императорскую корону, и, когда после смерти Мануила до него начали доходить сведения о растущем недовольстве императрицей-регентшей, ему не потребовалось других указаний на то, что его время пришло. В отличие от Марии Антиохийской – «иностранки», как ее презрительно называли подданные, – он был истинный Комнин. У него хватало решимости, твердости и способностей; более важным, однако, в такой момент являлось то, что его романтическое прошлое принесло ему невиданную популярность. В августе 1182 г. он двинулся на столицу. Магия имени сработала. За его появлением последовала сцена, напоминающая возвращение Наполеона с Эльбы; войска, посланные, чтобы остановить продвижение Андроника, отказались сражаться; их командующий Андроник Ангел сдался и присоединился к нему[139]139
У Андроника Комнина, как водится, была наготове шутка по поводу того, что Ангел перешел на его сторону. «Смотрите, – заявил он, – совсем как сказано в Евангелии, – я пошлю моего ангела, который приготовит тебе путь». В Евангелии на самом деле таких слов нет; но Андроник не вдавался в такие подробности.
[Закрыть], и его примеру вскоре последовал адмирал, возглавлявший императорский флот на Босфоре. Люди покидали свои дома, чтобы приветствовать Андроника по пути; вдоль дороги выстраивались его сторонники. Прежде чем он пересек пролив, в Константинополе вспыхнуло восстание; одновременно вырвалась наружу вся подавленная ненависть к латинянам, накапливавшаяся последние два года. Началась резня – мятежники убивали подряд всех оказавшихся в городе латинян – женщин, детей, старых и немощых, даже больных из госпиталей, и весь квартал, где они жили, был сожжен и разграблен. Протосебаста нашли во дворце – насмерть перепуганный, он даже не попытался бежать; его бросили в темницу и позже, по приказу Андроника, ослепили[140]140
Но только после того, как он достаточно успокоился, чтобы начать жаловаться, что английские охранники не дают ему спать.
[Закрыть]; юного императора и его мать доставили на императорскую виллу в Филопатионе и отдали на милость их родственника.
Их судьба оказалась хуже, чем они ожидали. Оказавшись победителем, Андроник проявил в полной мере другие стороны своей натуры – жестокость и грубость, о которых мало кто догадывался, не смягченные ни каплей сострадания, сомнений нравственного характера или простого человеческого чувства. Хотя и всемогущий, он еще не был императором; поэтому он начал методически и хладнокровно уничтожать всех, кто стоял между ним и троном. Принцесса Мария и ее муж были первыми; они умерли внезапной и загадочной смертью, но, несомненно, от яда. Затем пришла очередь самой императрицы. Ее тринадцатилетнего сына заставили собственноручно подписать ей смертный приговор, после чего ее удушили в ее покоях. В сентябре 1182 г. Андроник был коронован как соимператор; два месяца спустя юный Алексей встретил собственную смерть от стрелы, а его тело выбросили в Босфор.
«Итак, – пишет Никита, – все деревья в императорском саду были повалены». Оставалась еще одна формальность. В последние три года своей короткой жизни Алексей был помолвлен с Агнессой Французской, дочерью Людовика VII от его третьей жены Алисы Шампаньской. Учитывая их юный возраст – к моменту помолвки Алексею было одиннадцать, Агнессе десять, – брак не был заключен; но маленькая принцесса уже приехала в Константинополь, где ее перекрестили, дав ей более привычное для византийского слуха имя – Анна. С ней обходились с уважением, как с будущей императрицей. Она таковой действительно стала. В конце 1182 г. новый император, которому к тому времени исполнилось шестьдесят четыре года, женился на двенадцатилетней принцессе и – если хоть одному свидетельству его современников можно верить, успешно провел ночь[141]141
Так пишет Дель в книге «Византийские портреты», т. II, где содержатся ученые, но удобочитаемые биографии Андроника и Агнессы. Что стало с Феодорой – неизвестно. Возможно, она умерла, но, поскольку она была относительно молода, более вероятно, что ее заточили до конца ее дней в каком-нибудь монастыре.
[Закрыть].
Ни одно царствование не начиналось с таких злодейств; однако во многих отношениях Андроник сделал больше хорошего для империи, чем Мануил. Он искоренял административные злоупотребления, где бы и в какой бы форме он их ни находил. Трагедия состояла в том, что по мере того, как он постепенно устранял испорченные звенья из государственной машины, он сам все более и более погрязал во зле, упиваясь своей властью. Насилие стало его единственным оружием; вполне оправданная кампания против военной аристократии быстро выродилась в непрекращающуюся череду массовых и жестоких убийств. По словам одного из свидетелей, «он оставил виноградники Брусы увешанными не гроздьями, но телами повешенных; и запретил кому-либо снимать их для погребения, ибо желал, чтобы они высохли на солнце и качались на ветру, как пугала, которые вешают для птиц».
Но боялся и сам Андроник – и за свою шкуру, и за империю. Его былая популярность растаяла как дым; спаситель страны оказался чудовищем. В атмосфере общего недовольства и подстрекательских слухов заговоры возникали один за другим и в столице, и в провинции. Предатели обнаруживались повсюду. Те, кто попадал в руки императору, бывали замучены до смерти – часто в его присутствии и им собственноручно, – но многие бежали на запад, где их ожидал доброжелательный прием, поскольку – и Андроник это хорошо знал – Запад не забыл резни 1182 г. Он также понимал очень ясно скрытый смысл Венецианского договора. Долгое время Византия имела двух главных врагов в Европе: Западную империю и Сицилийское королевство. Гогенштауфены и Отвили в равной мере препятствовали грекам реализовать их законные притязания в южной Италии. Пока они оставались в ссоре, у Константинополя не было оснований для тревоги, но теперь они стали друзьями, а вскоре могли сделаться союзниками. У Андроника имелось неприятное подозрение на счет того, в каком направлении они в таком случае выступят, и, когда осенью 1184 г. в Аугсбурге было объявлено о помолвке Констанции Сицилийской с Генрихом Гогенштауфеном, его опасения укрепились.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































