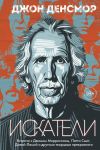Текст книги "Встречи с замечательными людьми"

Автор книги: Джон Рёскин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Там Богачевский случайно встретился и подружился с одним продавцом четок, торговавшим около храма Господня.
Этот торговец был монахом братства Ессеев, и он подготовил постепенно Богачевского, ввел его в свое братство, где его за примерную жизнь назначили экономом, а спустя несколько лет – игуменом в одно из отделений этого братства в Египте, а после, по смерти одного из помощников игумена главного монастыря, Богачевский был взят на это место.
Об его необыкновенной жизни в этот период я многое узнал в Бруссе, из рассказов одного моего приятеля, турецкого дервиша, который часто встречался с ним. За это время я от Богачевского имел одно письмо, опять через моего дядю. В этом письме, кроме написанных нескольких слов благословения, была вложена его небольшая фотографическая карточка, снятая в одежде греческого монаха, и несколько видов святых мест в окрестностях Иерусалима.
Богачевский, когда еще был в Карсе кандидатом в священники, высказывал очень оригинальный и своеобразный взгляд на мораль.
Он тогда говорил и учил меня, что на земле существуют две морали: одна объективная, тысячелетиями установленная жизнью, а другая – субъективная, не только в смысле отдельной личности, но и в смысле целой нации, государства, семьи, отдельной корпорации и т. д.
– Объективная мораль, – говорил он, – устанавливается жизнью или заповедями, даваемыми нам самим Господом Богом через своих пророков, и постепенно становится базой для образования в человеке того, что называется совестью, и, в свою очередь, этой совестью впоследствии поддерживается сама объективная мораль. Объективная мораль никогда не изменяется, может только с течением времени расшириться. Что касается субъективной морали, то она, выдуманная людьми, является понятием относительным и неодинакова для разных людей и разных мест, и строится на том понимании хорошего и плохого, которое в данное время считается за таковое.
Например, здесь в Закавказье, – сказал Богачевский, – если женщина не закроет лица и заговорит с гостем, ее все будут считать безнравственной, испорченной, невоспитанной. А в России, наоборот, если женщина, как в Закавказье, закроет лицо и не покажется гостю и не займет его своими разговорами, то ее будут все считать невоспитанной, грубой, нелюбезной и т. д.
Еще пример: здесь в Карсе, если какой-нибудь человек в неделю или, в крайнем случае, в две недели раз не пойдет в баню, то все окружающие его возненавидят и будут чувствовать к нему брезгливое чувство, даже могут ощущать исходящий от него плохой запах, которого может быть и нет. А в Петербурге сейчас – наоборот: если человек ходит в баню, то его считают невоспитанным, неинтеллигентным, деревенщиной и т. д., и если случайно кто-нибудь и пойдет в баню, то он будет это скрывать от других, чтобы ему не приписывали таких невыгодных для него свойств.
Очень хорошо, – продолжал Богачевский, – могут объяснить относительность понятий о так называемых нравственных поступках, или поступках чести, два громких события, случившихся на прошлой неделе у нас в Карсе среди офицерства.
Первое – суд над поручиком Х., а второе – самоубийство поручика Макарова.
Поручика Х. судили за то, что он ударил по лицу сапожника Иванова так, что у того вытек левый глаз. Суд его оправдал ввиду выяснения следствием того, что сапожник Иванов очень приставал к поручику Х. и везде распространял про него оскорбительные слухи.
Очень заинтересовавшись этой историей, я, не обращая внимания на данные следственного материала, решил пойти к семье этого несчастного и расспросить и его знакомых, чтобы выяснить себе, что в действительности послужило причиной такого поступка со стороны поручика Х.
Как я узнал, этот поручик заказал сапожнику Иванову сначала одну, потом еще две пары сапог, а деньги обещал занести двадцатого числа, когда получит жалованье. Когда двадцатого поручик денег не занес, Иванов пошел к нему на дом спросить свои, причитавшиеся ему деньги, и офицер обещал уплатить завтра, а завтра отложил опять на завтра, словом, он долгое время кормил Иванова, как говорится, «завтраками», а Иванов – ходил и ходил, потому что эти, следовавшие ему деньги были для него очень большими; в них было почти все его состояние и долголетняя экономия его жены, прачки, которая по копейке собирала их, эти деньги, и потом отдала своему мужу на покупку материала для сапог поручика.
Сапожник Иванов ходил за долгом еще потому, что он имел шесть малолетних детей, которые все хотели есть.
Хождение Иванова офицеру в конце концов надоело, и он сначала приказывал своему денщику говорить Иванову, что его нет дома, а потом стал просто прогонять его, угрожая даже упечь его в тюрьму.
В последний раз поручик приказал своему денщику избить Иванова как следует, если он опять придет.
Денщик, как человек жалостливый, когда Иванов пришел, не избил его, как приказал его начальник, а хотел добром уговорить не надоедать его Высокородию своими частыми приходами, и для разговора пригласил его в кухню, где Иванов сел на табуретку.
В это время денщик ощипывал гуся для жарения.
Видя это, Иванов заметил: «Вот господа едят каждый день жареных гусей и не платят своих долгов, а мои дети каждый день сидят впроголодь!»
В это время поручик Х. случайно зашел в кухню и услышал слова Иванова. Это его так взбесило, что он взял со стола большую свеклу и ударил Иванова по лицу настолько сильно, что у него вытек глаз.
Второе событие, в противоположность первому, заключалось в том, что некий поручик Макаров, вследствие того, что не мог заплатить долга одному капитану Машвелову, сам покончил с собою.
Надо сказать, что этот Машвелов, страстный картежник, был, как говорят, большим пройдохой. Не было дня, чтобы он кого-нибудь не обыграл; всем было очевидно, что он шулер и играет в карты нечисто.
И вот, недавно поручик Макаров играл в офицерском собрании в карты в компании, в которой был и Машвелов, и проиграл, кроме всех имеющихся у него денег, еще взятые взаймы у этого Машвелова, которому он обещал возвратить их в течение трех дней.
Так как сумма была большая, поручик Макаров в течение трех дней не смог достать их для отдачи Машвелову и, не будучи в состоянии выполнить данного слова офицера, решил, что лучше застрелиться, чем не поддержать чести офицера.
Оба эти события произошли из-за денежного долга. Один выбивает глаз тому, кому он должен, а другой, по той же причине, лишает себя жизни. Почему это так? Просто потому, что Макарова все окружающие за неотдачу долга шулеру Машвелову будут всячески осуждать, а что касается сапожника Иванова, то если даже все его дети умрут, это в порядке веще. Ведь в понятия об офицерской чести не входит отдача долга сапожнику.
Вообще же, повторяю, подобного рода поступки у взрослых людей происходят исключительно вследствие того, что люди своих детей до известного возраста, когда еще оформливается будущий человек, начиняют разными условностями и не дают возможности самой природе постепенно развивать в них совесть, которая тысячелетиями образовывалась, благодаря борьбе наших предков с этими условностями.
Богачевский часто уговаривал меня не учиться никаким условностям – ни того круга людей, среди которых я живу, ни других людей.
Он говорил:
– От начинения себя условностями и образуется субъективная мораль. А для настоящей жизни требуется мораль объективная, исходящая только от совести.
Совесть везде одинакова: какова она здесь, такова и в Петербурге, в Америке, в Камчатке и на Соломоновых островах. Ты сегодня находишься здесь, а завтра, может быть, в Америке; если у тебя будет настоящая совесть и ты будешь жить по ней, то где бы ни жил, везде будет хорошо.
Ты сейчас еще совсем молодой, ты еще не в жизни. Пусть в настоящее время здесь каждый называет тебя невоспитанным; пусть ты не умеешь расшаркиваться, как полагается, или говорить о вещах, как принято здесь говорить, лишь бы, когда ты будешь взрослый и войдешь в настоящую жизнь, ты имел настоящую совесть, т. е. фундамент объективной морали.
Субъективная мораль – понятие относительное; если же ты будешь заполнен понятиями относительными, то везде и всюду, когда вырастешь, будешь поступать и судить о других по приобретенным тобою условным взглядам и понятиям.
Учиться надо не тому, что окружающими людьми считается плохим или хорошим, а тому, чтобы приучить себя поступать в жизни так, как подсказывает тебе твоя совесть.
Свободно выросшая совесть всегда будет знать больше, чем все книги и учителя вместе взятые. Пока же у тебя еще не оформилась твоя собственная совесть, живи по заповеди нашего учителя Иисуса Христа: «не-делай-никому-ничего-такого-чего-сам-не-желаешь-чтобы-тебе-делали-другие».
Отец Евлисий, в настоящее время уже преклонного возраста, случайно стал одним из первых на земле людей, сумевших жить так, как того хотел для всех наш Божественный Учитель, Иисус Христос.
Да будут его молитвы на помощь всем желающим мочь существовать по Истине!
Мистер Х., или капитан Погосьян
Саркис Погосьян, или, как его теперь называют, Мистер Х., в настоящее время является владельцем нескольких океанских пароходов, одним из которых, курсирующим по его любимым местам между Зондскими и Соломоновыми островами, он управляет сам.
Саркис Погосьян, родом армянин, родился в Турции, а детство провел в Закавказье, в городе Карсе.
Мое знакомство и сближение с ним произошли, когда он еще совсем молодым кончал курс духовной академии в Эчмиадзине и собирался стать священником.
Я еще до встречи с ним знал о его существовании от его родителей, которые жили в Карсе по соседству с моим отцом и бывали часто у него.
Я знал, что у них есть единственный сын, который раньше учился в ереванском «Темаган-Дпрец» (духовной семинарии), а теперь учится в Эчмиадзинской духовной академии.
Родители Погосьяна были родом из Эрзерума и переселились в Карс вскоре после взятия его русскими.
Отец его имел профессию «паяджи»[4]4
Паяджи – это красильщик; человека такой профессии всегда можно узнать по синим до локтей рукам, никогда не отмывающимся от краски.
[Закрыть], мать была золотошвейкой по вышивке нагрудников и поясов для «джуппэ»[5]5
Джуппэ – специальный женский костюм у эрзерумских армян.
[Закрыть].
Живя сами очень скромно, они все тратили на сына, чтобы дать ему хорошее образование.
Саркис Погосьян редко приезжал к своим родителям, и мне ни разу не случилось видеть его в Карсе. Моя первая встреча с ним состоялась, когда я впервые был в Эчмиадзине.
Когда я, перед отъездом туда, заехал ненадолго в Карс повидаться с отцом, то родители Погосьяна, узнав, что я скоро еду в Эчмиадзин, попросили меня отвезти сыну небольшой сверток с каким-то бельем.
Я тогда отправлялся в Эчмиадзин в целях все того же искания ответа на вопросы о сверхъестественных явлениях, интерес к которым за это время у меня не только не уменьшился, но еще больше возрос.
Надо сказать, что я, сильно заинтересовавшись, как я об этом упоминал в предшествовавшей главе, сверхъестественными явлениями, набросился на книги, ища в них объяснения этим явлениям, а также обращался за разъяснениями их к людям науки, и после того, как ни в книгах, ни у людей, с которыми мне приходилось встречаться, я не нашел удовлетворяющих меня ответов, я стал искать их в религии и начал ездить по разным монастырям и к людям, про религиозность которых я слышал; я читал Священное Писание, Жития Святых, был даже в этот период три месяца послушником у знаменитого отца Евлампия в Санаинском монастыре и посетил за это время почти все имеющиеся в большом количестве в Закавказье «Святые-Места» разных вер.
За это время мне пришлось быть свидетелем целого ряда еще новых фактов, вполне очевидных, но не поддававшихся никакому объяснению, которые сбивали меня еще больше, как говорится, «с-панталыку».
Например, раз, когда я отправился с одной компанией из Александрополя на престольный праздник в место, известное среди армян под наименованием «Амена-Пркец», что у горы Джаджур, я был очевидцем следующего случая:
Туда из местечка Палдерван везли на телеге больного – паралитика.
Я встретил его в дороге и, идя вместе, заговорил с сопровождавшими его родственниками.
Этот паралитик, которому было тридцать лет, болел уже шестой год. До этого он был совершенно здоров и даже служил на военной службе.
Болеть он стал после возвращения со службы домой, перед самой женитьбой: у него совершенно отнялась вся левая половина тела, и до сих пор, несмотря на всякие лечения у докторов и знахарей, ничто не помогало; его даже специально возили на лечение на Кавказские Минеральные Воды, и теперь родственники на всякий случай собрались отвезти его сюда, в «Амена-Пркец», в надежде, что может быть святой поможет и облегчит его страдания.
По дороге к этому святому месту мы, как это делают обычно все богомольцы, завернули в деревню Дыскянт, помолиться находившейся в одной армянской семье чудотворной иконе Спасителя.
Так как больной тоже захотел помолиться, то его внесли в дом, и мне самому пришлось помочь нести этого несчастного.
Вскоре после этого мы пришли к подошве горы Джаджур, на склоне которой и находилась церковка с чудотворной гробницей святого.
Мы остановились на том месте, где паломники обыкновенно оставляют свои телеги, арбы и фургоны, так как колесная дорога тут кончается, и откуда они поднимаются с четверть километра пешком, причем многие, как это там в обычае, идут босиком, а многие проходят это расстояние даже на коленях или еще каким-нибудь особенным образом.
Когда паралитика сняли с арбы, чтобы понести его наверх, он вдруг воспротивился этому, пожелав попытаться ползти, как сможет, сам.
Его опустили на землю, и он пополз на своей здоровой половине.
Он это делал с таким трудом, что на него жалко было смотреть; тем не менее он отказывался от всякой помощи.
Часто отдыхая по дороге, он наконец, часа через три, приполз наверх, дополз до гробницы святого, находившейся в середине церковки, и, поцеловав надгробный камень, тут же потерял сознание.
Родные его, с помощью священника и моей, стали приводить его в чувство, влили ему в рот воды, намочили голову.
И вот, когда он пришел в себя, тут-то и произошло чудо. У него не стало паралича.
В первый момент сам больной был ошеломлен; но когда наконец осознал, что все его члены действуют, он вскочил и чуть не бросился танцевать, но тут же спохватился и с криком бросился ниц и начал молиться.
За ним сейчас же весь народ, во главе со священником, пал на колени и тоже стал молиться.
Потом священник встал и среди коленопреклоненных молящихся стал служить благодарственный молебен святому.
Другой случай, не менее озадачивший меня, имел место в Карсе.
В том году в Карской области стояла необычайная жара и засуха; почти все посевы выгорели; угрожал голод, и среди народа было большое волнение.
Как раз в это лето в Россию приезжал от Антиохийского Патриархата один архимандрит с чудотворной иконой – не помню, Николая Чудотворца или Божьей Матери, – для сбора денег в помощь, кажется, грекам, пострадавшим от критской войны.
Он ездил с этой иконой преимущественно по тем городам России, где было греческое население, и приехал также в Карс.
Не знаю, была ли подкладка тому политическая или религиозная, но русские власти тут, как и везде, принимали участие в устройстве торжественной встречи и оказании всякого рода почестей.
Когда архимандрит приезжал в какой-нибудь город, икону возили по всем церквам, откуда причт выходил с хоругвями и устраивал ей очень торжественную встречу.
На другой день после приезда этого архимандрита в Карс распространился слух, что за городом всем духовенством перед этой привезенной иконой будет совершен особый молебен о ниспослании дождя; и действительно, в назначенный день после двенадцати часов со всех церквей города пошли с хоругвями и иконами в назначенное за городом место.
В этом шествии приняли участие старая греческая церковь, только что вновь отстроенный греческий собор, крепостной военный собор и полковая церковь кубанского полка, и к ним же присоединилось духовенство армянской церкви.
В этот день стояла особенно сильная жара.
В присутствии почти всего города духовенство, во главе с приезжим архимандритом, отслужило торжественный молебен, после чего вся процессия двинулась обратно в город.
И тут произошло нечто такое, к чему неприменимы абсолютно никакие объяснения современных людей: внезапно небо стало понемногу заволакиваться тучами, и не успели еще горожане подойти к городу, как полил такой дождь, что все промокли, как говорится, «до-нитки».
В объяснение этого факта, как и других ему подобных, можно было бы, конечно, употребить излюбленное нашими, так называемыми «мыслящими-людьми», стереотипное слово «совпадение», но нельзя не признать, что оно было уже чересчур разительным.
Третий случай был в Александрополе, куда моя семья снова перебралась и где жила опять в своем доме.
Рядом с нашим домом был дом моей тетки.
Одну из квартир в ее доме снимал татарин, служивший в местном уездном управлении не то письмоводителем, не то делопроизводителем.
Он жил со старухой-матерью и с сестрой – маленькой девочкой.
Вскоре он женился на красивой девушке, татарке из соседнего местечка Карадах.
Все шло хорошо, но когда молодая через сорок дней после свадьбы, по татарскому обычаю поехала на побывку к родным, она там простудилась, или что-то такое другое с ней случилось, но вернувшись домой, почувствовала себя плохо, слегла в постель и постепенно сильно расхворалась.
Ее начали лечить, но несмотря на то, что ее лечило много докторов, между которыми были, как я помню, городской врач по фамилии Резник и бывший военный врач Кильчевский, состояние больной все ухудшалось.
Между прочим, по предписанию врача Резника к ней каждое утро приходил мой знакомый фельдшер делать вспрыскивание.
Этот фельдшер – не помню его фамилии, помню только, что он был невероятно высокого роста, – по дороге часто захаживал к нам, когда я был дома.
Однажды утром он зашел, когда мать и я пили чай; его тоже усадили за стол, и я в разговоре между прочим спросил его о состоянии здоровья нашей соседки, на что он ответил, что ее дело совсем плохо, так как у ней «скоротечная-чахотка», и скоро она наверно, как он выразился, «тогось».
Пока он сидел у нас, к нам зашла старуха, свекровь больной, и попросила мою мать разрешить ей нарвать в нашем садике немного тычинок от роз, и со слезами рассказала, что сегодня ночью больной во сне явилась «Марьям-Ана» – так татары называют Матерь Божью – и велела ей нарвать тычинок от роз, сварить их на молоке и выпить.
И вот она, старуха, хочет сделать это, чтобы успокоить больную. Услышав это, фельдшер рассмеялся.
Мать, конечно, разрешила и даже пошла ей помогать.
Проводив фельдшера, я также пошел им помочь.
Каково же было мое удивление, когда на следующее утро, идя на базар, я встретил старуху вместе с больной, идущими из армянской церкви Сев-Жам, где находится чудотворная икона Божьей Матери. А через неделю я ее увидел уже моющей окна их квартиры.
Кстати замечу, что доктор Резник объяснил это казавшееся чудом выздоровление делом случая.
Наличие таких несомненных, виденных мною воочию, а также и наличие многих других, в этом же духе, фактов, о которых я слышал за это время моих исканий, наводящих мысль на существование чего-то сверхъестественного, никак не могло мириться с тем, что мне говорил мой здравый смысл и что с ясностью доказывали мне имевшиеся у меня уже широкие познания в точных науках – т. е. не могло мириться с недопустимостью существования сверхъестественных явлений.
Это противоречие в моем сознании не давало мне успокоиться и было тем более непримиримо, что факты и доводы в пользу того и другого были равносильны, и я продолжал свои искания в надежде, что когда-нибудь, где-нибудь я наконец найду нужный ответ на постоянно преследовавшие меня, неразрешимые пока что вопросы.
Вот эта цель и привела меня, между прочим, также в Эчмиадзин, как в место, являющееся центром одной из больших религий, где я надеялся найти хоть какую-нибудь нить к разрешению мучивших меня вопросов.
Эчмиадзин, или как его еще называют, «Вагаршапат», является для армян тем же, чем Мекка для мусульман и Иерусалим для христиан.
Здесь – резиденция Католикоса всех армян, здесь же центр армянской культуры.
В Эчмиадзине ежегодно осенью происходят большие религиозные торжества, на которые съезжается масса богомольцев не только со всех концов Армении, но также со всего света.
Еще за неделю до начала торжеств все окрестные дороги полны богомольцев, двигающихся одни – пешком, другие – на арбах или в фургонах, третьи – верхом на лошадях и на ослах.
Я, в компании с другими богомольцами из Александрополя, пошел пешком, положив свои вещи на молоканский фургон.
По прибытии в Эчмиадзин, я, как это было в обычае, прямо отправился, как там говорят, «на-поклон» по всем святым местам.
После этого пошел в город искать себе пристанища. Но найти его оказалось невозможно, так как все постоялые дворы (тогда гостиниц еще не существовало) были заняты и переполнены, и я решил сделать так, как поступают многие, а именно, просто пристроиться за городом под арбами или фургонами.
Так как было еще рано, то я решил прежде всего выполнить поручение – разыскать Погосьяна и передать ему сверток.
Он жил недалеко от главного подворья, в доме одного своего дальнего родственника – архимандрита Суреньяна.
Я застал его дома и увидел, что он по возрасту был почти такой же, как и я; был среднего роста, брюнет, с небольшими еще усиками, с глазами обычно очень печальными, по временам разгоравшимися огнем, а иногда с небольшой косинкой в правом глазу.
Выглядел он тогда очень хилым и застенчивым.
Он стал меня расспрашивать про своих и, узнав в разговоре, что мне не удалось найти помещения, куда-то побежал и, вернувшись, предложил мне остановиться у него в комнате.
Я, конечно, согласился и сейчас же пошел и принес из фургона свой, как говорится, «хабур-чубур», и когда с его помощью приспособил себе постель, нас позвали к отцу Суреньяну поужинать. Отец Суреньян ласково встретил меня и стал расспрашивать о семье Погосьяна и кое-что об Александрополе.
После ужина я с Погосьяном отправились осматривать город и святыни.
Надо сказать, что в Эчмиадзине на улицах в это время царит всю ночь большое оживление, все кофейни и «ашханы» открыты.
Весь этот вечер и все последующие дни мы бывали вместе; он меня всюду водил, как знающий все ходы и выходы.
Мы заходили в такие места, куда обычных богомольцев не пускают, и даже были в «Химнадаране» – месте, где хранятся драгоценности Эчмиадзина, куда уже совсем редко кого пускают.
Мы с Погосьяном скоро очень сблизились, и постепенно нас связали тесные узы, так как из разговоров выяснилось, что те вопросы, которые волновали меня, интересовали также и его, и у него и у меня по этим вопросам было много материала, которым мы делились, и понемногу беседы наши становились все задушевнее и интимнее.
Он был в предпоследнем классе духовной академии и готовился через два года стать священником, но душевное состояние его не соответствовало этому.
Насколько он был религиозен, настолько же он критически относился к окружавшей обстановке, и ему сильно претило попасть в среду священников, жизнь которых не могла не казаться ему совершенно противоречащей его идеалам.
После, когда мы с ним подружились, он мне рассказывал многое о закулисной стороне жизни тамошнего духовенства, и мысль, что, став священником, он попадет в эту среду, заставляла его внутренне страдать и чувствовать вообще какую-то неудовлетворенность.
В Эчмиадзине я пробыл после праздников еще три недели и, живя вместе с Погосьяном в доме архимандрита Суреньяна, имел случай не раз беседовать на волновавшие меня темы как с самим архимандритом, так и с другими монахами, с которым он меня знакомил.
В результате, за время моего пребывания в Эчмиадзине я не нашел того, чего искал, и этого времени было для меня достаточно, чтобы ясно отдать себе отчет в том, что и здесь я этого не найду, и я уехал обратно с чувством, как можно было бы сказать, «подвнутреннего-разочарования».
С Погосьяном мы расстались большими друзьями и обещали друг с другом переписываться и делиться наблюдениями в той области, которая интересовала нас обоих.
Через два года после этого, в один прекрасный день Погосьян приезжает в Тифлис и останавливается у меня.
За это время он уже окончил академию, съездил в Карс, пожил немного с родными, и ему оставалось только жениться, чтобы получить приход. Его близкие даже уже подыскали ему невесту, но сам он находился в полной нерешительности и не знал, что ему предпринять.
Я в это время служил при Тифлисском железнодорожном депо в качестве кочегара, уходил из дому рано утром, а приходил только вечером.
Погосьян целыми днями лежал и все время читал всякие имевшиеся у меня в то время книги, а по вечерам мы вместе ходили в Муштаид и, гуляя по глухим аллеям, все разговаривали и разговаривали.
Раз, гуляя по Муштаиду, я ему шутя предложил пойти со мной работать в железнодорожном депо и был очень удивлен, когда на другой день он пристал ко мне, чтобы я помог ему устроиться в депо.
Я не стал отговаривать его и направил его с запиской к моему хорошему знакомому, инженеру Ярослеву, который сейчас же дал ему рекомендательное письмо к начальнику депо, и его приняли на должность помощника слесаря.
Так продолжалось до октября. Мы продолжали увлекаться отвлеченными вопросами, и Погосьян не думал возвращаться домой.
Раз, в доме инженера Ярослева я познакомился с вновь приехавшим на Кавказ для разбивки пути предположенной железной дороги между Тифлисом и Карсом инженером Васильевым.
После нескольких моих встреч с ним он однажды предложил мне поехать вместе на разбивку в качестве десятника, с тем чтобы быть одновременно и переводчиком. Предложенное им мне жалованье было очень соблазнительным, превышая почти в четыре раза то, что я до этого зарабатывал, и так как моя должность мне уже надоела и начинала меня стеснять в моих основных работах, и к тому же выяснилось, что я буду иметь много свободного времени, – то я согласился.
Погосьян же, на мое предложение поехать вместе со мной в качестве кого-нибудь, отказался, так как заинтересовался слесарной работой и желал продолжать начатое дело.
С этим инженером я пропутешествовал три месяца по ущельям между Тифлисом и Караклисом и заработал очень хорошо – кроме официального жалованья я тогда имел несколько неофициальных, довольно предосудительного свойства побочных доходов.
Заранее зная, мимо каких деревень и городков будет проложен железнодорожный путь, я подсылал кого-нибудь к власть имущим этих деревень и городков с предложением, что я могу устроить так, чтобы путь был проложен именно по этим местам. В большинстве случаев предложение мое принималось, и я «за-хлопоты» получал негласную мзду, выражавшуюся иногда довольно крупной суммой.
Когда я вернулся в Тифлис, то вместе с тем, что осталось от прежнего заработка, у меня образовалась крупная сумма денег, и поэтому я не захотел опять пристраиваться на службу, а посвятил себя всецело изучению разных заинтересовавших меня явлений.
Погосьян в это время имел уже должность слесаря и в то же время успел прочесть массу книг.
Он читал и интересовался в последнее время, главным образом, древней армянской литературой, которую он доставал в большом количестве у тех же букинистов, где и я.
За это время я и Погосьян пришли к определенному выводу, что действительно есть «что-то-такое», о чем прежде людям было известно, но что теперь это знание совершенно забыто.
Найти какую-либо руководящую нить к этим знаниям в современной точной науке и вообще в современных книгах и у людей мы потеряли всякую надежду и все свое внимание направили на древнюю литературу.
Раз мы с Погосьяном случайно достали много книг древнеармянской литературы и, сосредоточив наш интерес на них, решили поехать в Александрополь и там искать уединенное место, где бы мы могли отдаться всецело их изучению.
Приехав в Александрополь, мы таким местом избрали уединенные развалины древней столицы Армении – Ани, находящейся в пятидесяти километрах от города Александрополя, и, устроив на самых развалинах шалаш, стали там жить, доставая провизию из соседних деревень или у пастухов.
Ани стал столицей армянских царей Багратидов в 962 году. Он был взят византийским императором в 1046 году, и в то время уже назывался «Город-Тысячи-Церквей».
Потом он был взят турками-сельджуками. С 1125 года по 1209 он пять раз брался грузинами. В 1236 году был взят монголами, а в 1319 году был окончательно разрушен землетрясениями.
Среди развалин есть, между прочим, остатки Патриаршей церкви, законченной в 1010 году, двух церквей одиннадцатого века и еще одной церкви, законченной только в 1215 году.
В этом месте моих писаний я не могу обойти молчанием один факт, который, по моему мнению, может оказаться небезынтересным для некоторых читателей, а именно, что за все время моей писательской деятельности единственно только эти, сейчас мною приведенные касательно древней столицы Армении – Ани, исторические данные, являются первыми и, как я надеюсь, последними справками, которые я заимствую из уже известных на земле сведений, т. е. это первый случай, когда я прибег к помощи энциклопедического словаря.
Об этом городе Ани еще посейчас существует одна очень интересная легенда, объясняющая, почему он раньше назывался «Городом-Тысячи-Церквей», а потом стал называться «Городом-Тысячи-и-Одной-Церкви».
Содержание этой легенды следующее:
Раз жена одного пастуха стала жаловаться своему мужу о безобразиях, творящихся в церквах. Она говорила:
– Нет места для спокойной молитвы; куда ни придешь, везде в церквах полно и шумно, как в пчелином улье.
И пастух, вняв справедливому возмущению своей жены, приступил к постройке церкви специально для нее.
В прежние времена слово «пастух» имело не такое значение, какое оно имеет теперь.
Прежний пастух являлся сам владельцем тех стад, которые он пас, и прежних времен пастухи считались самыми богатыми людьми; некоторые имели даже несколько стад.
Этот пастух, окончив постройку церкви, назвал ее «церковью-богобоязненной-жены-пастуха», и с тех пор город Ани стал называться «Городом-Тысячи-и-Одной-Церкви», хотя другие исторические данные утверждают, что еще до постройки пастухом церкви в нем насчитывалось много больше, чем тысяча церквей.
Говорят, недавно был найден при раскопках камень, подтверждающий эту легенду о пастухе и его богобоязненной жене.
Живя на развалинах этого города и проводя дни в чтении и изучении, мы иногда для отдыха занимались раскопками, в надежде что-нибудь найти.
В развалинах Ани существует много подземных ходов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!