Текст книги "Карты смысла. Архитектура верования"
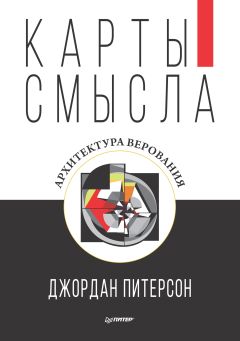
Автор книги: Джордан Питерсон
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Истории встроены друг в друга (одно ведет к другому) и иерархически упорядочены (преследование цели «А» важнее преследования цели «Б», любовь дороже денег). Внутри такой многоуровневой иерархии наше сознание – наше самосознание – по-видимому, имеет естественное разрешение, или распределение по категориям. Это «разрешение по умолчанию» отражено в понятии базового уровня объекта. Мы видим некоторые вещи естественно, то есть (по определению Роджера Брауна) на уровне, который дает нам «максимальное количество информации при минимальном приложении познавательных усилий»[197]197
Brown R. Social psychology. New York, Free Press, 1965, p. 476.
[Закрыть]. Я не знаю, что движет механизмом, который определяет соответствующий уровень анализа. Определенную роль здесь должны играть элементы вероятности и предсказуемости. В конце концов, становится все бесполезнее размышление о все бо́льших пространственно-временных областях, поскольку число переменных, которые необходимо учитывать, слишком быстро растет (и вероятность точного предсказания, следовательно, снижается). Возможно, ответ заключается в том, что «побеждает самое простое решение, которое не порождает дополнительных очевидных проблем», – что, как я полагаю, является вариантом бритвы Оккама. Таким образом, мы, скорее всего, выберем простейший познавательный/исследовательский прием, который делает непредсказуемое событие условно предсказуемым или знакомым. Это еще один пример доказательства от полезности – если решение работает (служит дальнейшему продвижению к заданной цели), то оно правильное. Возможно, именно лобная кора определяет максимально узкий контекст, в котором может быть оценено нечто неожиданное и необычное. Получается, что новое событие инициирует процедуру исследования, часть которой посвящена определению уровня анализа, наиболее подходящего для проведения оценки. Это повлечет за собой изменение истории. Кроме того, данный стимул, очевидно, не оценивается одновременно на всех возможных уровнях анализа, иначе бремя познания стало бы слишком тяжелым. Кажется, кора головного мозга должна временно «остановиться» на выбранном уровне, а затем действовать, «как будто бы» это единственный подходящий уровень. В этом случае значимость чего-то также может показаться постоянной. Только такое произвольное ограничение «данных» делает возможными понимание и действие.
С точки зрения биологии мы приспособлены истолковывать окружающую среду как область с установленными границами времени и пространства, то есть как место определенного размера, существующее определенное количество лет. В такой среде мы случайно сталкиваемся с некоторыми явлениями, взывающими к тому, чтобы им дали имя[198]198
Там же, p. 478.
[Закрыть]. Всякий раз, когда эти «естественные категории» толкования и связанные с ними схемы действий нас подводят, следует пробежаться вверх и вниз по шкале пространственно-временного разрешения. Мы делаем это, глядя на общую картину, если необходимо, или фокусируясь на деталях, которые ранее могли ускользнуть от нашего внимания. И детали, и общая картина могут умаляться или исчезать сначала в бессознательном (где они существуют как «потенциальные объекты познания»), а затем в неизвестном (где они представляют собой скрытую информацию или неоткрытые факты). Таким образом, бессознательное может выступать посредником между постоянно окружающим нас неизвестным и областью, настолько знакомой, что ее содержание стало однозначно ясным. Рискну предположить, что этот посредник есть «нечто иное, как» метафорические, образные процессы, зависящие от лимбической активности правого полушария, которые помогают нам изначально формулировать истории. Рисунок 16 помогает объяснить идею этого бессознательного. Самые широкие по охвату истории, которые определяются сложными социальными взаимодействиями, по природе своей являются событийными (образными) или даже регламентированными (проявляющимися только в изменяющемся поведении общества). Существует очень и очень немного систем взглядов (сознательных историй), которые можно выразить словами. Попросите маленького ребенка или неискушенного взрослого дать разумное объяснение их поведения, и вы поймете, что это действительно так.
Каждый уровень анализа, то есть каждая определенная система категоризации и схема действия (каждая определенная история), выстроен в ходе межличностного взаимодействия (исследовательского поведения и передачи стратегий и их результатов). Наши «естественные уровни восприятия» – истории, которые по умолчанию или легче всего привлекают внимание, – имеют содержание, относительно доступное сознанию. Его можно выразить словами и передать в процессе общения. Истории высшего порядка, занимающие более обширную пространственно-временную территорию, все больше усложняются, и сформулировать их очень непросто. Чтобы заполнить эту брешь, появляется миф.

Рис. 16. Встроенные друг в друга истории, процессы создания и многообразие систем памяти
Мифологическое представление: составные части опыта
Миф представляет мир как арену действий. Он состоит из трех неизменно существующих компонентов опыта и четвертого элемента, который упреждает их. Неизвестное, познающий и известное составляют мир как место драматического действия; неопределимый «докосмогонический хаос», сопровождающий их возникновение, служит конечным источником всех вещей (включая три составных элемента опыта).
Предвечный хаос может принимать метафорическую форму Уробороса – змеи, кусающей себя за хвост, – который символизирует союз материи и духа и возможность перерождения. Уроборос служит первоисточником мифологических прародителей мира (Великой Матери – природы, божественного неизвестного, созидательного и разрушительного; Великого Отца – культуры, божественного известного, тиранического и покровительственного) и их Божественного Сына (Познающего, созидающего Слова, процесса исследования).
В древнем месопотамском мифе о сотворении мира «Энума элиш» приводится конкретный пример взаимодействия этих образов. В нем фигурируют четыре главных героя, или группы действующих лиц: Тиамат, женский дракон хаоса, изначальная богиня творения (Уроборос и Великая Мать объединены, как это часто бывает); Апсу, супруг Тиамат (мужское начало); старшие боги, дети Тиамат и Апсу; Мардук, бог солнца и мифический герой. Тиамат символизирует великое неизвестное, утробу мира; Апсу – известное, порядок, который делает возможным управляемое существование. Старшие боги олицетворяют общие психологические особенности человечества (фрагменты или компоненты сознания) и дают более полное представление о составных элементах «патриархального» известного; Мардук – величайшее из вторичных божеств – представляет собой процесс, который служит вечным посредником между утробой мира и управляемым существованием.
Изначальный союз Тиамат и Апсу порождает старших богов. Они беспечно убивают Апсу, от которого бессознательно зависят. Тиамат появляется снова, полная решимости уничтожить все свои творения. Ее дети посылают одного воина за другим, чтобы одолеть жаждущую мести мать. Все они терпят поражение. Наконец, вступить в битву добровольно вызывается Мардук, избранный величайшим царем богов, определителем судеб. Он разрубает Тиамат на куски и создает из них Космос. Правитель Месопотамии, который ритуально воплощал Мардука, разыгрывал эту битву во время празднования нового года, когда, по преданию, обновлялся старый мир.
«Энума элиш» выражает в образе и повествовании мысль о том, что психологическая функция, упорядочивающая хаос, (1) создает космос и (2) должна главенствовать в областях душевной организации и общественного устройства. Мысли, заложенные в этом мифе, находят более развернутое выражение в более поздних египетских трудах по метафизике, которые непосредственно обращаются к героическому обновлению культуры.
Три «составных элемента опыта» и четвертый, который приводит их в действие, могут рассматриваться на более высоком уровне анализа как семь универсальных «персонажей» (которые могут принимать различные облики, определяемые особенностями культуры). Взаимодействие этих сил описывает миф. Великий дракон хаоса – Уроборос, пожирающая себя змея – может быть осмыслен как чистая (скрытая) информация, прежде чем она будет отнесена к областям известного, неизвестного и познающего. Уроборос – это материал, из которого состоит безусловное знание, прежде чем стать этим знанием. Это первичный элемент мира, который разлагается на космос, окружающий его хаос и исследовательский процесс, который их разделяет.
Двухвалентная Великая Мать (второй и третий персонажи) одновременно олицетворяет созидание и разрушение, источник всего нового, твердую опору и возлюбленную героя, а также разрушительные силы неизвестного и извечный страх, постоянно стремящиеся уничтожить жизнь. Двухвалентный Божественный Сын (четвертый и пятый персонажи) – это бог солнца, герой, который отправляется в подземный мир, чтобы спасти беспомощных предков, мессия, рожденный от девы, спаситель мира и одновременно его заклятый враг, высокомерный и лживый. Двухвалентный Великий Отец (шестой и седьмой персонажи) представляет собой мудрого царя и тирана. Это покров культуры, защищающий от грозных сил природы, безопасность для слабых и мудрость для глупых. В то же время он сила, пожирающая собственное потомство, суровый и несправедливый правитель, жестоко подавляющий любые признаки несогласия или различия.
За фасадом нормального мира скрываются страшные хаотические силы, которые сдерживает общественный порядок. Однако царства порядка недостаточно, потому что он становится смертоносным бременем, если допустить его неконтролируемое или постоянное проявление. Действия героя составляют противоядие от разрушительных сил хаоса и тирании порядка. Герой создает порядок из хаоса и при необходимости воссоздает его, одновременно обеспечивая терпимость новизны и гибкость безопасности.
ВведениеМефистофель:
Хвалю тебя, пока нам не пришлось
Расстаться: чёрта знаешь ты насквозь.
Вот ключ, ты видишь?
Фауст:
Жалкая вещица.
Мефистофель:
Возьми. Не брезгуй малым. Пригодится.
Фауст:
Он у меня растет в руках, горит!
Мефистофель:
Не так он прост, как кажется на вид.
Волшебный ключ твой верный направитель
При нисхожденье к Матерям в обитель[199]199
Гёте И. В. Фауст. М.: Эксмо, 2008.
[Закрыть].
Разумные и осведомленные исследователи, по крайней мере со времен Фрейзера[200]200
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: КоЛибри, 2018.
[Закрыть], отмечали широкий пространственно-временной диапазон космогонических историй, рассказов о героизме и предательстве, обрядов посвящения и типичных метафорических представлений (таких, как Дева и дитя). Детали и последовательность событий рассказов, сказок, ритуалов и образов зачастую различаются, и все же порой они совершенно одинаковы. Возможно, подобное сходство является следствием их распространения из одного источника сотни веков назад. Однако эта гипотеза не объясняет, почему классические легенды запоминаются и передаются из поколения в поколение с очень незначительными структурными изменениями. Разумно предположить, что в долгосрочной перспективе человечество забывает все, что бесполезно. Но мы бережно храним в памяти мифы – бо́льшая часть привычной культурной деятельности на самом деле лишь обеспечивает непрерывное воспроизведение и передачу наших преданий.
Карл Юнг попытался объяснить кажущуюся универсальность толкования мира гипотезой «коллективного бессознательного». Он считал, что религиозные или мифологические символы происходят из единого источника, берущего начало в наших биологических особенностях (и наследовании). Его коллективное бессознательное состояло из совокупности наследуемых склонностей к поведению или классификации явлений. Такая позиция вызвала шквал насмешек – почти никто не воспринял ее с должным вниманием. Юнг не был посвящен в наши знания о механизмах наследования (как и все прочие представители его поколения). С современной точки зрения идея «коллективной памяти» считается ламаркистской и совершенно невозможной. Юнг, однако, не верил в то, что отдельные воспоминания могут передаваться сами по себе, хотя эта мысль не всегда ясно выражается в его непростых для восприятия трудах. Рассуждая о коллективном бессознательном, он старается подчеркнуть, что наследуется не содержание самой памяти, а возможность разделения информации по категориям. Тем не менее он часто пишет так, «как будто» содержание также может быть унаследовано.
Общее неприятие гипотезы Юнга о «наследуемой памяти» ослепило психологов – и не только психологов. Они не заметили одной важной детали: повествования в разных культурах действительно выглядят упорядоченными. Одно то, что все культуры используют форму передачи знания, которая ясно и быстро определяется как повествование (или, по крайней мере, как обряд, представляющий собой драматическое действо), ясно указывает на лежащую в ее основе общность структуры и цели. Конечно, здесь можно возразить: приписать повествованиям понятные образцы действия позволяет лишь теория интерпретации, а она может оказаться простым считыванием шаблонов там, где их на самом деле не существует. То же самое возражение обоснованно применяется к литературному толкованию, изучению истории, анализу сновидений и антропологии. Культурные явления могут быть поняты только с культурной точки зрения. Эта исконная проблема (среди прочих) затрудняет подтверждение теорий в «области ценности».
Тем не менее, чтобы жить, надо действовать. Действие предполагает наличие догматических убеждение (то есть верований) и толкований (если не явных, то хотя бы скрытых). Догматические убеждения должны быть основаны на вере, на окончательном анализе (и выборе критериев нравственного учения). Однако нет причин, по которым такая вера не может быть осмыслена и критически оценена. Межкультурный анализ систем верований и их сравнение с литературным наследием гуманитарных наук вполне могли бы стать средством получения нужной информации. В этом и заключался подход Юнга. «Причинный механизм», который он выстроил, чтобы объяснить свои открытия (то есть коллективное бессознательное), кажется принципиально несостоятельным с современной эмпирической точки зрения (хотя эта мысль гораздо сложнее и, вопреки общему мнению, опровергнуть ее не так-то просто). Но это вовсе не означает, что мы должны отвергать его методологию или высмеивать ценные в других отношениях мысли. Великие умы современности, исследующие области, которые лежат за пределами психологии, также пришли к выводу о том, что повествование имеет универсальную структуру.
Как можно примирить очевидную шаблонность (архетипичность) историй с невозможностью унаследовать содержание памяти? Чтобы найти ответ, стоит обратить внимание на феномен языка и процессы его хранения и передачи. Человеческая речь, по-видимому, имеет вполне определенную биологическую основу. У других животных от природы нет способности к развитию языка, и их совершенно невозможно научить осознанно говорить. Напротив, наши дети – даже с серьезными умственными отклонениями – легко усваивают язык и свободно, естественно и творчески используют его. Это неотъемлемая характеристика Homo sapiens, поэтому сама структура языка кажется биологически обоснованной. Тем не менее наши языки различаются. Японец не понимает француза, хотя для обоих вполне очевидно, что они говорят на незнакомых языках. Два явления различаются на одном уровне анализа и обретают сходство на другом.
Возникает вопрос: из какого банка данных черпает информацию ребенок, когда осваивает речь (чтение и письмо)? Малыш слушает окружающих. Его специально не учат говорить (хотя какое-то обучение все же происходит). Биологическая склонность ребенка сталкивается с культурной реальностью – с существованием языка. Первичными посредниками культуры служат родители: они воплощают язык в своем поведении и передают его, занимаясь повседневными делами. Тем не менее их нельзя назвать создателями языка, хотя они могут использовать его довольно своеобразно, даже творчески. Таким создателем является именно способность человека к языковой деятельности, каковой бы она ни была. Ее совокупные последствия, проявляющиеся на протяжении веков, изменили поведение всех представителей различных языковых культур. «Агентами воплощенной памяти» для таких культур в любом данном месте и в любое время служат узнаваемые люди. Тем не менее их потеря не представляет угрозы для общего знания. Это происходит потому, что речь воплощается в поведении каждого, кто пользуется ею. Дети усваивают язык, взаимодействуя с его носителями-взрослыми. Так они учатся говорить и узнают, что у них есть язык, и даже начинают замечать и исследовать этот факт.
То же самое относится к нравственному поведению и к убеждению, которое лежит в его основе. Взрослые воплощают поведенческую мудрость и служат «эмиссарами культуры» для своих детей. Очевидно, что каждый отдельный человек может быть лучшим или худшим представителем взрослых – точно так же как родители могут быть образованными или безграмотными. Однако плохой пример бывает столь же показателен, как и хороший, к тому же на детей редко оказывает влияние лишь один «герой». Даже если вокруг ребенка нет других взрослых, они незримо присутствуют в развлечениях: в ритуалах, драматических представлениях, литературе и мифах. Таким образом, модели поведения, из которых состоят наши истории, хранятся в (социальном) поведении и в любое время могут быть выделены из него и абстрагированы. С этой точки зрения коллективное бессознательное есть исконная поведенческая мудрость, воплощенная в совокупных передаваемых последствиях влияния исследования и культуры на действие.
Способность к абстракции позволяет нам вывести составные элементы самого успешного приспособления к окружающему миру из наблюдения за моделями поведения, которые постоянно разыгрываются в фактически существующем мире. Взаимодействие взрослых очень непросто устроено и до последнего жеста обусловлено веками культурной работы. Его образы столь же сложны, как и само поведение, которое они представляют. Это строительные блоки наших историй и самопознания. (Достойная восхищения взрослая женщина – личность, которую легко узнать, – содержит дом в чистоте и порядке, примиряет ссорящихся братьев и при необходимости усваивает горькие уроки судьбы. Архетипический герой создает порядок из хаоса, приносит мир и перестраивает общество, когда оно становится жестоким и анахроничным.) Коллективное бессознательное, составляющее основу общей религиозной мифологии, на самом деле является поведением (алгоритмом действия), которое было выработано, передано, скопировано и изменено всеми, кто когда-либо где-либо жил. Образы этого поведения и загадочного «места», в котором оно совершалось (вселенной хаоса и порядка), являются символами – метафорами – и служат связующим звеном между упорядоченной мудростью и ясно выраженным знанием. Они представляют собой некую образную точку перехода от действия к слову.
Мы потратили сотни тысяч лет, наблюдая за своими поступками и затем рассказывая истории о том, как мы действуем. Хорошая история универсальна – она говорит с каждым на понятном языке, имеет общие ссылки и отражает опыт, который мы все разделяем. Что же объединяет людей, независимо от места и времени рождения? Разумно ли искать нечто постоянное на протяжении веков, лежащих между нами и жителями каменного века? Что могло преодолеть идеологические и религиозные барьеры, которые разделяют представителей современных наций? Древние предки были гораздо ближе к природе и решали задачи, весьма далекие от повседневных проблем современного человека. Колоссальные различия между нашими мирами на расстоянии кажутся аналогичными, если не совершенно идентичными противостоянию культур – огромной пропасти, которая все еще отделяет индийского йога, например, от банкира с Манхэттена. Неудивительно, что в мире, объединяющем столь разных людей, ни на минуту не угасают межгрупповые конфликты. Также неудивительно, что мы, похоже, переросли традиционную мудрость. Но есть ли исконные предпосылки, с которыми все могли бы согласиться и которые могли бы разделить, невзирая на различия?
Большинство объектов опыта имеют как общие, так и отличительные свойства (и все они весьма значительны). Так же обстоит дело с отдельными личностями и культурами. При этом мы, кажется, лучше замечаем различия, а не сходства. Группы людей, у которых много общего, по крайней мере с точки зрения более далеких от них чужаков (например, ирландские католики и протестанты), достаточно ясно видят свою социальную уникальность. Гораздо неохотнее мы замечаем то, что нас объединяет. Думаю, отчасти это происходит потому, что мы не привыкли фокусироваться на предсказуемом и знакомом. Внимание человека само собой притягивается к природным и социальным явлениям окружающего мира, которые содержат информацию. Сербов и хорватов разделяет стена привычки. Они не видят собственного сходства, но при этом замечают малейшие различия.
Вопрос «что общего есть у двух разных существ, предметов или ситуаций» на самом деле значит следующее: «на каких уровнях анализа две или более вещи можно считать одинаковыми, а на каких – разными». Именно индивидуальность – определенное время и место в жизни – отличает людей друг от друга. При этом нас объединяет сам факт того, что каждому человеку отведено особое время и место существования, а также то, как этот факт влияет на природу бытия. Жизнь открывает перед нами множество дорог, но на любом пути встречаются болезни, смерть и необходимость следовать законам общества. Люди – изменчивые, ограниченные, социальные существа, вовлеченные в групповую, совместную и конкурентную деятельность. В конечном счете мы не понимаем правил, которые управляют нашими стремлениями, и не можем ясно объяснить, почему мы делаем то, что делаем. Демократические конституции, например, содержат самые непреложные своды правил, которым мы подчиняемся (и которые управляют нашим поведением). Они прочно встроены в концепцию естественных прав: люди твердо верят в самоочевидность этих истин. В результате мы все разыгрываем историю, которую не понимаем. Она охватывает максимальный объем времени и пространства (по крайней мере, тот отрезок, который имеет к нам отношение) и все еще неявно «хранится» в нашем поведении, хотя и бывает представлена в эпизодических образах и словесном описании. Это отчасти скрытое ограничение составляет мифологию и обряды людей, обеспечивая «верхний уровень», бессознательные границы системы взглядов, в которых условные, поддающиеся выражению личные истории сохраняют свою значимость.
Невозможно правильно оценить природу категорий мифологического воображения, не развив некоторого понимания процесса категоризации. Он позволяет нам спокойнее относиться к таинственному и сложному окружающему миру и считать его более понятным. Мы упрощаем его, воспринимая предметы и ситуации, имеющие некоторое общее устройство, назначение или значение, как нечто схожее. Люди настолько преуспели в умении классифицировать, что оно воспринимается как должное и кажется легким. Однако все не так просто. Оказалось, что описать правила, которые следует разложить по категориям, или сам акт категоризации, совсем не легко. Выдающийся психолингвист Роджер Браун отмечал:
Примерно до 1973 года люди задумывали психологические эксперименты по формированию категорий, следуя модели «правильного множества». Треугольники – это правильное множество, то есть принадлежащие к нему фигуры точно определяются сочетанием атрибутов, неизменных для всех членов множества и не присущих не членам. Треугольник – это замкнутая трехсторонняя фигура. Из этого четкого определения следует, что членство во множестве не является вопросом степени; один треугольник не более треуголен, чем любой другой. Объект просто является или не является треугольником.
Оглядываясь назад, удивительно, что психология так долго могла думать о категориях реальной жизни как о правильных множествах. Мы должны были бы больше беспокоиться о том, насколько трудно человеку определить нечто «естественное». Используемое здесь понятие «естественного» включает не только собаку и морковь, но и такие предметы, как стул, автомобиль или карандаш. Я знаю, что вы можете сказать, описывая кого-то, но вот попробуйте перечислить атрибуты, которые верны для всех собак, а не для кошек, волков или гиен, или для всей моркови, а не для редиски или репы, или для всех стульев, а не для маленьких столиков, пуфиков, скамеек[201]201
Brown R. Social psychology: The second edition. New York, Macmillan, 1986.
[Закрыть].
В естественном состоянии люди думают не так, как логики или даже эмпирики. Для этого нужна подготовка. В ее отсутствие мы мыслим более субъективно – как «неразумные», удивительно эмоциональные существа, которые населяют тела определенного размера с индивидуальными и ограниченными свойствами. Наши естественные категории – это спонтанно определяемые группы признаков. Но они состоят не только из общепринятых свойств, характерных для встреченных нами вещей или явлений. Естественные категории имеют довольно размытые границы, которые перекрывают друг друга. Построение правильных множеств вполне возможно (и очевидно, поскольку они существуют). Способность создавать и использовать такие множества оказалась во многом полезной. Тем не менее, с филогенетической точки зрения, это относительно новое умение. Оно зависит, по крайней мере частично, от способности мыслить эмпирически и рассматривать вещи объективно. При отсутствии этого навыка, который требует специальной подготовки (или хотя бы погружения в культуру, подобную нашей, где такое мышление стало обычным делом), люди естественно склоняются к развитию так называемых моделей познания. Они характеризуются рядом интересных и отличительных свойств (если переформулировать, в частности, Джорджа Лакоффа[202]202
Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. М.: Гнозис, 2011.
[Закрыть]):
1. Их содержание воплощается в жизнь, то есть их не обязательно определять, чтобы использовать. Их действие неявно, при этом они не всегда четко описаны. Две вещи, классифицируемые в рамках одной и той же модели познания, провоцируют одинаковое поведение и поэтому могут рассматриваться как одна вещь по крайней мере с точки зрения действия. Если человек использует модель познания и кто-то просит описать ее содержание («что делает собаку собакой?»), он может ответить: «Не могу сказать, но я узна́ю собаку, когда вижу ее». Для многих собака – это дружелюбное существо, его приятно гладить, с ним можно поиграть. Хотя такое знание и не охватывает всего, что составляет признаки собаки. Большинство используемых понятий облечены в конкретную форму на самом исходном уровне – они привычные, упорядоченные, двигательные, поведенческие. Мы используем их не думая. Понятия, не попадающие в эту категорию, применяются с трудом и требуют полного внимания и усилия сознания.
2. Модели познания характеризуются категоризацией и первичностью исходного уровня. Это означает, что наиболее естественные для человеческого ума явления – воспринимаемые в целом или, как гештальт, поддающиеся наименованию, передаче, управлению и запоминанию – служат материалом для первоначальной разбивки по категориям и основой для формирования более абстрактных понятий (даже в целях сравнения, для определения того, что мы считаем «абстрактным»). Воспринимаемый естественно – значит выученный и названный первым (обычно коротким именем), осмысленный на уровне «отличительного отчетливого действия» в ассоциации с характерным поведением (например, поглаживание для категории «кошка» или вдыхание аромата для категории «цветок»). Категории исходного уровня отражают наше внутреннее устройство так же, как и структуру внешнего мира: мы наиболее точно представляем себе то, что наиболее просто представляется нам. По словам Роджера Брауна[203]203
Brown R. Social psychology. New York, Free Press, 1965, p. 321.
[Закрыть], «высшие» и «низшие» категории, которые окружают естественно воспринимаемые явления исходного уровня, можно рассматривать, напротив, как «достижения воображения». Мы видим кошку и определяем особенности ее биологического вида или подтипа, которые делают ее сиамской. Категории исходного уровня обычно занимают середину иерархии осмысления: мы обобщаем, когда движемся «вверх», и уточняем, когда движемся «вниз».
3. Модели познания могут использоваться в метонимических, или ссылочных, рассуждениях. Такие рассуждения символичны в психоаналитическом или буквальном смысле. Метонимические средства взаимозаменяемы; более того, их применение в модели познания означает, что любой или все объекты могут служить для обозначения каждого конкретного из них или всех остальных. Предметы и явления определенной категории изначально рассматриваются как эквивалентные в некотором незаурядном смысле (чаще всего с точки зрения предпосылки к действию). Наша склонность к иносказаниям, метафорам и эстетическому восприятию, по-видимому, неразрывно связана со способностью к метонимическому мышлению и использованию содержательных моделей познания.
4. Модели познания характеризуются плавно меняющейся степенью принадлежностии первостепенности. Страус, к примеру, – это птица, но менее типичная, чем малиновка, ведь у последней больше свойств, которые являются главными для категории «птица». Вещь может быть лучшим или худшим образцом своей категории, но даже худший образец все равно поддается определению.
5. Модели познания содержат явления, связанные посредством семейного сходства (термин впервые использовал в этом контексте Людвиг Витгенштейн)[204]204
Витгенштейн Л. Философские исследования. М.: АСТ, 2019.
[Закрыть], то есть они потенциально похожи на некий условный объект. Братья Смит[205]205
См. Armstrong S. L., Gleitman L. R., Gleitman H. What some concepts might not be. Cognition, 1983, 13, pp. 263–308.
[Закрыть], к примеру, могут иметь темные усы, глаза-бусинки, лысеющую макушку, темную бороду, тощую шею, большие уши, мягкий подбородок и носить очки в толстой роговой оправе. Предположим, что существует шесть братьев, ни один из которых не обладает всеми чертами условного мистера Смита. У Адама мягкий подбородок, большие уши, лысеющая макушка и тощая шея, но нет ни очков, ни усов, ни бороды. У Джозефа есть очки, усы и борода, и при этом у него густая шевелюра, маленькие уши и нормальная шея. У Финеаса редеющие волосы, глаза-бусинки, темная борода и усы. У Джорджа, Эверетта и Сэма также имеются одни отличительные черты и отсутствуют другие. Ни один из братьев в точности не похож на другого, но если бы вы увидели их вместе, то поняли бы, что эти люди – братья.
6. Модели познания порождают явления полисемии – определяющей характеристики мифа. Любой рассказ многозначен и может быть прочитан на нескольких «уровнях». Полисемия (мы подробнее поговорим о ней далее) возникает, когда связь объектов в пределах одной модели познания в некотором смысле аналогична связям, возникающим между несколькими моделями познания. Таким образом, великие литературные произведения всегда многозначны: персонажи повести так же относятся друг к другу, как и обобщенные явления на более обширной территории. Борьба Моисея против египетского фараона, например, также может считаться аллегорией борьбы угнетенных против поработителя или даже восстанием Спасителя мира против человечества.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































