Текст книги "Красная королева"
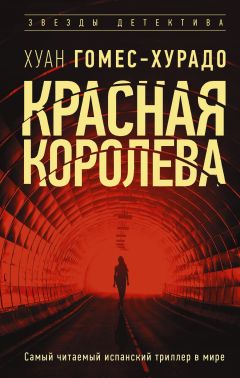
Автор книги: Джордж Мартин
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Ее будит голос Сандры.
Она зовет ее.
– Я здесь, – говорит Карла. – Все в порядке?
– Я очень хочу спать.
– Он что-то сделал с тобой?
На этот раз Сандра не плачет. А сразу отвечает.
– Я не хочу об этом говорить.
– Я все слышала.
– Ты ничего не слышала.
Карла молчит. Она и сама несколько месяцев или, может, часов назад пережила приступ отрицания.
– Ты ничего не слышала, потому что ничего не было. А если ты что-то слышала, то почему не вмешалась? Почему не закричала?
Потому что я боялась.
Потому что не хотела разделить твою участь.
Потому что я просто заткнула уши и принялась перечислять лошадиные масти, как я всегда делала, когда сестра выключала в моей комнате свет и я оставалась одна в темноте.
– Ты права, – соглашается Карла. – Ничего не было.
Сандра надолго погружается в молчание. Карла хочет спросить что-нибудь про отверстие, то самое, через которое Сандра следит за Эсекиэлем и через которое ей, возможно, каким-то образом удастся подать сигнал о помощи или узнать какую-нибудь важную информацию. Но сейчас она не решается начать этот разговор.
– Там раньше был мальчик, – говорит Сандра после долгой паузы.
Карла слегка приподнимается.
– Какой мальчик?
– Мальчик. Там, где ты сейчас.
Карла чувствует внезапную пустоту в желудке и груди, словно ее тело разделилось надвое. Ноги и голова сохраняют свою физическую консистенцию, хоть и заметно тяжелеют. А вот промежуток между нижней – совершенно ненужной – частью ее туловища и неспособной мыслить головой словно проваливается куда-то в иное пространство, в пространство кошмара. И именно этой половиной тела Карла осознает то, что говорит ей Сандра.
Так или иначе, она не может не спросить:
– Что с ним стало?
– Он постоянно кричал. Ему было страшно. А потом он перестал кричать.
Эта камера, это крошечное замкнутое пространство стало для Карлы чем-то если не привычным, то хотя бы понятным. Она здесь. Ее похитили. Она не может сбежать, не может ни с кем поговорить. Она может только ждать, ждать и еще раз ждать. И поэтому стены камеры стали новыми границами ее вселенной. Ее тело научилось за проведенные здесь часы (или, возможно, месяцы) уживаться в этом новом крохотном мирке. Ее глаза привыкли ничего не видеть, и воображение больше не рисует в темноте жуткие картины. Пальцы научились различать малейшие шероховатости пола, по которым она всегда может определить, где находится. Уши теперь улавливают каждое трение кожи, одежды, словно каждый звук, исходящий от ее тела, многократно усиливается. Камера стала ее крепостью, последним оплотом ее жизни и достоинства. Если и есть хоть какая-то надежда, то она обитает здесь, в пределах этой камеры. Пока Эсекиэль не приближается к ней, пока он не переходит этих границ, она готова и подождать. Лишь бы ее потом спасли и освободили.
Слова Сандры разрушили эту иллюзию с той же равнодушной беспощадностью, с которой слон осушает лужу, просто в нее наступив.
– Что стало с тем мальчиком, Сандра? Кто он? Его спасли?
– Замолчи. Он возвращается. И он не хочет, чтобы мы говорили.
Молчание. За дверью как будто кто-то проходит. Но Карла в этом не уверена, поскольку единственное, что она сейчас слышит, – это бешеный галоп своего сердца.
– Ну скажи мне, – в отчаянии говорит она. – Я должна знать.
В ответ Сандра еле слышно повторяет:
– Он постоянно кричал.
И тишина.
18
Кабинет
Странная штука власть, думает Джон.
У нее свои символы. Огромный кабинет на последнем этаже здания с видом, от которого дух захватывает. Несколько приемных, в каждой свои секретарши, чтобы ты сразу осознал, что здесь необходимо преодолевать барьеры. На полу ковролин. Электронный ключ для доступа в лифт. У двери телохранитель.
Но все эти внешние атрибуты только начало. Закуска. И ты уже ждешь, что главное блюдо явно должно быть на высоте.
А Лаура Труэба не то что на высоте. Она словно парит над всем и всеми, взирая вниз с небесной вершины.
Она высокая, гораздо выше, чем кажется по фотографиям. Сухощавая, со смуглой кожей, черными волосами и стальным взглядом. На ней красный юбочный костюм, прямо как на фотографиях из газет.
Конечно, работа есть работа… Но все-таки как-то странно одеваться в красное сразу после смерти сына, удивляется Джон.
Вокруг шеи обернут платок. Весьма элегантный способ скрыть морщины на шее, выдающие возраст. Единственный маленький изъян в этой безупречной, до миллиметра выверенной внешности.
– Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста, – говорит она, выходя из-за своего рабочего стола и провожая их к гостевой зоне, состоящей из диванов и журнального столика, над которым висит фотография супружеской пары Труэба. Здесь такие расстояния, что еще не вдруг доберешься.
– Не желаете ли кофе, чая? – дежурно спрашивает секретарша.
– Сеньоры тут ненадолго, – отвечает ей начальница, оборвав Джона, который уже открыл рот, чтобы попросить двойной эспрессо.
Из-за этого Бруно Лехарреты он даже не смог выпить свой утренний кофе. Какой же мерзкий тип. Антония пока не в курсе их разговора. Джон не знает, как ей обо всем рассказать, и решает пока просто подождать.
Может, все обойдется.
Знаменитые последние слова.
Секретарша прекрасно поняла по тону своей начальницы, что ей следует удалиться.
Только вот что-то не верится. Весь этот цирковой номер в кафе отеля наверняка только начало, думает Джон. Но что ему надо?
– Скажу вам откровенно, – говорит Лаура Труэба, когда дверь за секретаршей закрывается и они остаются втроем. – Я принимаю вас не по собственному желанию. Мне сейчас хотелось бы побыть одной.
– Мы понимаем, сеньора Труэба. Мы знаем, что вы сейчас переживаете самый ужасный момент в своей жизни. Но полагаю, вам бы хотелось, чтобы справедливость была восстановлена, ради вашего сына.
– Сейчас я уже не вижу в этом смысла, – резко отвечает она. – Я понимаю, что это ваша работа, ваши служебные обязанности. Но поймите и вы, что у меня с вашим начальством… некоторого рода договоренность.
– Ради вашего банка. Не так ли? – спрашивает Антония.
Сидящий рядом Джон не может сейчас пнуть ее под столом. Но ему бы очень этого хотелось. И кажется, Лауре Труэбе тоже. Она стойко отразила удар, но выражение лица ее выдало.
– У вас есть дети, сеньора Скотт?
Антония отвечает не сразу.
– Да. Есть.
– Значит, вы, как никто другой, можете понять, на какую жертву мне приходится идти. Все вот это, – говорит она, широким жестом обводя помещение, – и это, – ударяет она каблуком о паркет (стук отдается гулким эхом, словно выстрел), – все это только кажется прочным, а на самом деле ровно ничего не значит. Отнимите у нас завтра все наши офисы, снесите все наши здания. Банк останется целым и невредимым. Потому что банк, сеньоры, – это идея.
– Идея, которую нужно защищать любой ценой, – настаивает Антония.
– Я не жду от вас понимания. И уж тем более осуждения. Но вы уже меня осуждаете, едва появившись в моем кабинете. Вы осуждаете меня, не понимая при этом, что женщина в моем положении – это не только мать. Ребенка я уже потеряла. И теперь моя задача как председательницы банка избежать бóльших потерь.
– Не только у вас отняли ребенка, сеньора Труэба. Карла Ортис пропала два дня назад, – говорит Джон.
Новость падает в сознание Лауры Труэбы, словно камень на дно озера. По ее лицу проходит волна потрясения и доходит до левой руки, которую она судорожно подносит ко рту, сдерживая возглас.
– Не может быть.
– Увы, это так.
– Это сделал тот же… человек?
– Это мы и хотим выяснить и поэтому обращаемся к вам за помощью. Мы понимаем, что вы в первую очередь хотите избежать скандала, но сейчас на кону человеческая жизнь. Жизнь, которую мы еще можем спасти.
Лаура Труэба встает и подходит к окну. Стекло от пола до потолка, двенадцать метров в ширину – места ей хватает. Она молча стоит, скрестив руки на груди, несколько долгих минут. Из окна открывается невероятный вид на крыши города, а там вдалеке угадывается Королевский дворец и Западный парк. Но Лаура Труэба сейчас разглядывает пейзаж внутри себя. Не столь обширный и весь усеянный шипами.
Когда она вновь поворачивается к ним, глаза у нее покрасневшие, но сухие. Хотеть заплакать и заплакать – это разные вещи.
– То, что я скажу вам, – строго конфиденциально. Вы не должны никому это повторять и тем более разглашать публично. Это ясно?
– Да, сеньора, – говорит Джон.
Труэба поворачивается к Антонии. Та медленно кивает.
– Не знаю, известно ли вам, но официально нас даже не существует.
– Если вы не сдержите слово, то сильно об этом пожалеете, – говорит она таким ледяным тоном, что на нем впору на коньках кататься.
Джон и так уже понял, что с этой женщиной шутки плохи.
– Мой сын пропал днем. Мы ничего не знали об его исчезновении, нам сообщил об этом по телефону похититель. К телефону подошла не я. Когда я взяла трубку, этот… человек представился как Эсекиэль.
Джон и Антония одновременно вздрагивают. И переглядываются. Лаура Труэба закрывает глаза и плотно сжимает губы. Она уже обо всем догадалась по их взглядам.
– Он сказал мне, что похитил моего сына, а затем предъявил мне невыполнимое требование.
Инспектор Гутьеррес с трудом сдерживается, чтобы вновь не посмотреть на Антонию. У обоих на языке вертится вопрос, и оба боятся его задать. Наконец Джон решается.
– При всем уважении, сеньора, что же он такого попросил, что вы не могли ему дать?
Лаура Труэба, самая могущественная женщина в Испании, председательница самого крупного банка Европы, глубоко вздыхает, отводит взгляд в сторону и молчит. И в этом молчании ясно ощущается вина.
– Нам необходимо знать мотивы убийцы, сеньора.
– Так спросите у Рамона Ортиса. Он разве не сказал вам, что у него потребовал Эсекиэль?
На этот раз молчат Антония и Джон.
– Я так и думала.
Джон чувствует, что наружу просятся сразу несколько эмоций: смущение, ярость, грусть. Он запирает их на ключ, на два оборота, и кладет ключ в карман. Ему нужно продолжать. Ему обязательно нужно что-нибудь выяснить.
– Наверняка есть что-то еще, что вы могли бы нам рассказать.
– Я мало что могу добавить. Предъявив мне свое невозможное требование, он сказал, что у меня есть пять дней на его выполнение. Затем добавил: дети не должны расплачиваться за грехи родителей. И повесил трубку.
– А потом? Он больше не звонил?
Лаура смотрит в пол.
– Потом мы узнали, что обнаружили труп.
Джон и Антония обмениваются взглядами. Это плохая новость. Связь между похитителем и семьей жертвы чрезвычайно важна. Для полиции эта невидимая нить – одно из лучших средств для отслеживания преступника.
– За все это время – больше ничего?
Труэба в ответ смеется. Взрывается горьким глухим хохотом, словно забыв про достоинство.
– Бессонные ночи, взгляд, прикованный к часам и к телефону. Чувство всепоглощающей горечи, вины и боли. Чувство, которое так и не прошло и не пройдет никогда. Можете называть это ничего. Я бы назвала это адом, если позволите.
– Я очень сожалею.
– Есть решения, которые невозможно принять. Выбор, перед которым не должен оказаться никто. А теперь уходите, пожалуйста.
Джон поднимается с места. А Антония нет. Тогда Джон слегка касается ее плеча, и она наконец реагирует. Лаура Труэба по-прежнему сидит в кресле и невидящим взглядом смотрит перед собой, когда они идут к выходу.
– Инспектор, – зовет она.
– Слушаю вас, сеньора.
– У вас есть с собой оружие?
– Да, сеньора.
– Если вы прострелите голову этому сукиному сыну, ни вы, ни ваша семья никогда ни в чем не будет нуждаться.
Она хочет дождаться их ухода, чтобы наконец дать волю слезам.
Но не дожидается.
ПарраКапитан Парра совсем вымотался.
Операция на месте преступления рядом с Конным центром была очень утомительной. А ко всему прочему на него посыпались приглашения на интервью от различных СМИ. Журналисты узнали героического лидера отдела по борьбе с похищениями и вымогательствами национальной полиции на фотографиях, которые некоторые знаменитости и любители конного спорта выложили в «Инстаграме» и «Твиттере».
Парра, конечно, на приглашения не ответил. Он все-таки занятой человек, и все его внимание, словно сверхмощный лазер, нацелено на дело Карлы Ортис. Он и правда работает на износ, но в этом не должен сомневаться никто. Ведь Парра, как жена Цезаря, должен быть вне всяких подозрений.
Придет момент, когда все узнают о том, что произошло. Надлежащим образом, думает он. Парра считает себя отличным стратегом, искусным марионеточником.
Капитан практически не спал. Он пришел домой поздно, лег рядом с усталой женой, которая даже не пошевелилась. Они в браке уже десять лет, спали вместе тысячи раз, и ее тело больше не реагирует на его присутствие. Встал Парра раньше всех, убедился, что дети спокойно спят – о, эта благословенная утренняя тишина. И вот, солнце едва взошло, а он уже сидит в своем кабинете, на третьем этаже Главного департамента полиции. В здании унылого лососевого цвета.
Он занимается инвентаризацией улик. Элементов мало, но они есть.
У меня есть знак «Дорожных работ», думает он.
Через несколько минут откроется мурсийская фирма, изготовившая знак, и у нее запросят имя клиента, который его заказал. Парра лично звонил туда уже несколько раз, но там пока никто не подходит.
У меня есть фотография подозреваемого, сделанная тем пидорасом и идиоткой из Интерпола.
Только вот по ней ничего не поймешь. Просто какой-то мужчина непонятно какого возраста. К тому же они даже обнародовать ее не могут ввиду особых обстоятельств дела.
У меня есть результаты аутопсии шофера.
И эта смерть оставила Парру без главного подозреваемого. А в предварительном отчете только и говорится, что убийца правша и что орудием убийства был нож с лезвием примерно двенадцать сантиметров, чрезвычайно острый.
Короче, ни хрена у меня нет, заключает он.
Но похититель Карлы Ортис еще позвонит.
Эта женщина стоит целое состояние.
Ему даже интересно, сколько именно. Самый большой выкуп в истории Испании был отдан за Ревилью: миллиард песет, примерно четырнадцать миллионов евро. И эта сумма даже в сравнение не идет с самым крупным выкупом в новейшей истории: шестьдесят миллионов долларов, которые отец заплатил за освобождение своих сыновей Хорхе и Хуана Борнов в 1974 году.
Парра покусывает колпачок от ручки (он недавно бросил курить, слишком уж дорого ему обходилась эта привычка) и откидывается на спинку кресла, вспоминая детали того похищения. Террористы из организации «Монтонерос» перекрыли главную улицу Буэнос-Айреса, Авениду дель Либертадор, прикинувшись рабочими, ремонтирующими газопровод. Когда рядом оказалась машина семьи Борн, они расстреляли охрану и захватили обоих братьев в плен. Их отец – самый богатый человек страны, совладелец крупнейшей компании по производству зерна, отказывался платить в течение девяти месяцев, до тех пор пока Хорхе Борн не убедил его выделить средства из бюджета компании. После такой потери фирма так и не смогла восстановиться.
Те шестьдесят миллионов долларов соответствовали бы сегодня двумстам пятидесяти миллионам евро. Но отец Карлы Ортис может заплатить и больше. Он может отдать миллиард, два миллиарда. Сколько потребуют. Это похищение станет самым громким в истории, думает Парра. И оно будет длиться долго, потому что похитители запросят много и отец, конечно, согласится, но чтобы собрать сумму наличными, потребуется немало времени.
Они позвонят снова. И вот тогда мы их и поймаем.
Телефоны Ортиса на прослушке. Все его контакты отслеживаются. Так что рано или поздно…
Успокоившись, Парра закрывает глаза. Нужно просто ждать, пока они снова не позвонят. Ведь они непременно должны позвонить.
Кто же упустит возможность заграбастать столько бабла?
19
Преграда
Оба молчат.
Когда они садятся в машину, Антония вводит адрес в навигатор и отворачивается к окну. Джон понимает, что она едва сдерживается, чтобы не расплакаться, да у него и самого слезы подступают к горлу.
Он не спрашивает, куда они идут. Просто ведет машину по указанному адресу.
Ехать приходится недолго. Через восемь минут они подъезжают к школе. На входе висит британский флаг.
Антония выходит из машины. И тут же стучит в окно Джону:
– Пойдешь со мной?
Входная дверь закрыта, но как только они подходят ближе, раздается характерный жужжащий щелчок, позволяющий им войти. Дежурная на ресепшене приветствует Антонию сдержанной улыбкой.
– Они во дворе, – говорит она по-английски. – Только что вышли.
– Спасибо, Меган, – отвечает Антония. – Я туда, как обычно.
Антония проводит Джона по коридорам и поднимается с ним на третий этаж. Затем подходит к большому окну с видом на внутренний двор. Открывает обе створки и облокачивается на подоконник. Джон сомневается, можно ли ему подойти и встать у окна рядом с ней. В итоге решает, что можно. В конце концов иначе она не стала бы его сюда звать.
Во дворе не меньше миллиона чудиков в зеленых джемперах, белых поло и серых брюках.
– Он вон там, – говорит она, показывая на малыша с мячиком в руках. На вид года четыре. Черные волосы, улыбка в десять тысяч ватт. Ни с кем не спутаешь.
– Как его зовут?
– Хорхе. Хорхе Лосада Скотт, – с гордостью отвечает она.
– Он похож на тебя.
– Скорее, на своего отца.
– Улыбка твоя.
– Так бабушка говорит.
– А бабушки зря не скажут.
– Это точно, особенно моя. Надеюсь, вы как-нибудь с ней познакомитесь. Ты ей понравишься.
– Я-то нравлюсь всем бабушкам, дорогуля. Вопрос лишь в том, понравится ли мне она.
Антония на секунду задумывается.
– Думаю, да. Она очень жизнелюбивая и очень упрямая. Как и ты. Вам обеим нравится вино и английская шерсть. Думаю, вы бы поладили.
Следующий вопрос настолько бестактный, что его даже сложно сформулировать. Джон пытается задать его как можно деликатнее.
– Он ведь не с тобой живет?
Следующие несколько минут проходят в томительно-тяжелом молчании. Джон думает, что, возможно, обидел ее, как раз сейчас, когда она начала ему доверять. Ведь он прекрасно понимает, что такой закрытый человек, как Антония, не будет кому угодно показывать своего сына даже на расстоянии. Ему хочется со всей силы дать себе по щеке. Надо же быть таким тупым. И вдруг Антония отвечает.
– Когда это случилось с Маркосом, Хорхе исполнился год. Мне… мне было очень плохо. У меня было тревожное расстройство. Я оставила проект «Красная Королева». И не отходила ни на шаг от кровати Маркоса.
Учительница звонит в колокольчик: перемена окончена. Дети тут же выстраиваются каждый в свой ряд. Асфальт разлинован на несколько полосок, и каждой полоске соответствует рисунок какого-нибудь животного. Хорхе встает на полоску со львом.
– Бабушка и отец пытались как-то меня расшевелить. Но я полностью замкнулась в себе.
Дети начинают заходить внутрь. Один ряд исчезает за другим, и двор постепенно пустеет. Ряд Хорхе скрывается за розовыми дверьми предпоследним.
– Отец забрал у меня ребенка. А я даже не сопротивлялась. Для меня тогда это было облегчением. Я хотела лишь упиваться своей болью и чувством вины. Прошло уже три года, а мне до сих пор кажется, что так проще всего.
Антония сморит на опустевший двор. Как и все школьные дворы, с уходом детей он превращается в серую тоскливую площадку.
– Я могу видеться с ним не чаще одного раза в месяц, причем не наедине. Отец говорит, что я должна пройти курс психотерапии, чтобы мне можно было доверять. Я его не осуждаю. К счастью, в этой школе мне разрешают смотреть на моего сына из окна при условии, что отец никогда об этом не узнает.
– Они так его боятся? А что он им может сделать?
– Ну для начала отобрать у них лицензию.
Джон прыскает со смеху.
– Он что, министр образования?
– Хуже. Он посол Великобритании в Мадриде. А это британская школа…
– Ну хотя бы ты можешь видеть сына.
– Да, одно время мне этого хватало. До определенного момента.
– И что же такого произошло потом? – спрашивает Джон, на самом деле имея в виду следующее:
Что же такого произошло, что ты решила мне все это рассказать?
Что же такого произошло, что ты привела меня сюда?
Что же такого произошло, что с тобой вдруг стало возможно общаться по-человечески?
Антония качает головой. Это священное место.
– Здесь я не хочу об этом говорить.
20
Тортилья
Готовить Джону Гутьерресу нравится.
Они оба умирали от голода, и Антония предложила пойти в какой-нибудь ресторан пообедать. Джон ответил, что в Мадриде в этот час нигде нормально не поесть; а Антония ему: много ты понимаешь; а Джон: а ты вообще в кулинарии не разбираешься; а Антония: да лучше, чем в Мадриде, ты нигде не поешь; а Джон: а тебе-то откуда знать, если еда для тебя на вкус как картон? В итоге они отправились домой к Антонии, так и не выяснив, у кого крепче яйца. Предварительно зашли в супермаркет на первом этаже: взяли сетку картофеля, луковицу, бутылку оливкового масла, полдюжины фермерских яиц (вот эти и оказались крепче).
И вот Джон снимает пиджак, подворачивает рукава, моет руки. Затем чистит картошку и нарезает ее тонкими ломтиками. Разогревает на сковороде оливковое масло, следя при этом, чтобы оно не слишком раскалилось. Выкладывает картофель, оставляет жариться двадцать минут. В это время шинкует лук и обжаривает его на отдельной сковородке до прозрачности. Перекладывает картошку в сито, давая маслу стечь. Отставляет ее в сторону, чтобы немного охладить. Затем раскаляет масло до адского пекла, и вновь выкладывает на сковороду картофель. Весь секрет в двойной обжарке. И теперь Джон выходит на финишную прямую. Он аккуратно взбивает яйца до получения однородной массы. Вынимает из сковороды картофель – хрустящий, с румяной корочкой. Дает маслу стечь, слегка промокает его бумажной салфеткой. Дает ему немного остыть, чтобы яичная масса при контакте с ним мгновенно не загустела. Затем вливает яйца в картофель и слегка его приминает, чтобы он пропитался жидкостью. Выкладывает все на сковородку к луку. Когда края запекаются, он переворачивает тортилью с помощью тарелки. Критический момент. Нужно хорошо посолить. И все, можно подавать.
Антония нарезает тортилью, сердцевина слегка растекается жидким золотом. Пробует.
– На вкус как картон, – говорит она с набитым ртом.
– Да пошла ты, Скотт.
На самом деле, это лучшая картофельная тортилья, которую Антонии доводилось есть за всю свою жизнь. Просто она об этом не знает из-за своей аносмии. Зато Джон это знает и потому уплетает за двоих. Он съедает три четверти, добирая хлебом растекшуюся начинку. Они оба стоят на кухне и по очереди отщипывают по кусочку: сесть-то некуда. После тортильи – кофе из капсул Nespresso.
Из кухни они перебираются в гостиную и садятся на пол. Сквозь окошко просачивается дневное солнце. И в луче света танцуют миллионы пылинок.
– У тебя на редкость уютный дом, – говорит Джон, показывая на голые стены и пустое пространство вокруг.
– Когда это случилось с Маркосом, я решила от всего избавиться, – чуть слышно отвечает Антония. – Оставила только самое необходимое.
Она сейчас кажется еще более хрупкой и уязвимой, чем обычно.
– Вы с ним были очень близки.
– Мы и сейчас с ним близки. Маркос – он особенный. Он скульптор. И знаешь, он такой ласковый, такой милый…
– Как вы познакомились?
– В университете. Я училась на филологическом факультете. А он на факультете изящных искусств. Мы встретились на дне рождения одной общей подруги. Мы с ним тогда разговорились и так с тех пор и не можем наговориться. Через неделю я переехала к нему жить.
– Ты говорила мне, что это здание принадлежит ему?
– Оно досталось ему в наследство. Благодаря доходу от этого здания он мог посвящать себя исключительно творчеству. У него уже было несколько выставок в художественных галереях. Его карьера как раз начала идти в гору, когда…
Она не заканчивает фразу. Джон обводит жестом гостиную.
– Почему ты решила все убрать?
Антония пожимает плечами.
– Мой мозг… он не совсем обычный. Я могу делать то, чего не могут другие.
– Это я уже понял, – говорит Джон, отхлебывая кофе. – А что например?
– Я могу сказать тебе с ходу, в какой день недели ты родился…
– Четырнадцатое апреля 1974 года.
– Воскресенье. И если я что-то читаю, то сразу запоминаю наизусть.
– Посмотрим, – бросает ей вызов Джон, доставая из кармана упаковку жвачки и кладя ее на колени.
Антония смотрит на упаковку скептически.
– Я вообще-то не цирковая мартышка.
– Ну ладно тебе, я же прошу. И мы тут одни.
Антония переворачивает упаковку, читает состав и переворачивает снова:
– Подсластители (сорбит, изомальт, мальтитовый сироп, мальтит, аспартам, ацесульфам К), резиновая основа, наполнитель (E170), ароматизаторы, стабилизатор (E422), загуститель (E414), эмульгаторы (E472a, лецитин подсолнечника), красители (E171, E133), глазирующий агент (E903), антиоксидант (E321).
– Ух ты! Так ведь ты могла бы на уличных представлениях целое состояние сколотить.
– Ах, да, и не забудь: при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
– Ну вообще чудесно.
– Ты ешь слишком много красного мяса.
– А что, мясо бывает каким-то другим? И вообще, я так и не понял, какое все это имеет отношение к тому, что у тебя в квартире нет мебели?
– Большинство людей имеют способность забывать, и эмоции от пережитого со временем притупляются. Моя же память практически совершенна. И любое тяжелое воспоминание может без конца причинять мне сильную боль. Поэтому у меня больше нет ничего, что напоминало бы мне о Маркосе.
– Кроме самого Маркоса, – как бы невзначай говорит Джон.
– Все ночи я провожу в его палате. Мне так чуть-чуть легче. Но днем я отхожу от его постели. Я прихожу сюда и занимаюсь… своими делами. Пытаюсь держаться, как могу.
– И так было всегда? Я имею в виду твою память.
– Нет, – отвечает Антония после паузы. – Не всегда.
– Что же с тобой сделали, девочка?
Антония вздыхает. Девочка. Она не говорит ему, что так ее зовет бабушка Скотт. И что бабушка задавала ей этот же самый вопрос уже тысячу раз. Она просто отводит взгляд.
– Я не могу тебе это рассказать.









































