Текст книги "Короли Альбиона"
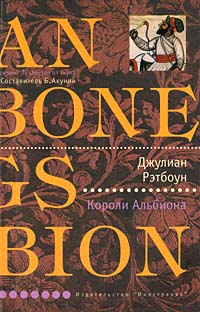
Автор книги: Джулиан Рэтбоун
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
Глава тридцать первая
Интерлюдия
Проповедь брата Питера Маркуса в церкви Св. Франциска, Осни, в пасхальное утро 1460 года.
«Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Евангелие от святого Матфея, глава десятая, стихи с седьмого по десятый.
Возлюбленные дети Божьи, в нынешнее пасхальное утро вы услышите очень простую проповедь. Я хочу лишь напомнить вам учение отца Джона Уиклифа и поделиться с вами мыслями о том пути, который оно нам указывает.
Бедность вот средоточие его учения. Он следовал по стопам основателя нашего ордена Франциска. Франциск в момент своего обращения к Богу услышал те же слова, что я вам только что прочитал. Он понял, что праведность несовместима с силой и властью, с богатством и собственностью. Владеть чем-то значит что-то отнять у другого. Если я на пенни богаче, то кто-то на пенни бедней. Истинная праведность не может быть источником власти и господства, не может дать право владычествовать и господствовать над людьми. Отец Джон верил, что власть и сила относятся к мирскому порядку, не распространяясь на церковь и церковнослужителей, но даже мирскую власть он считал временной, необходимой мерой, пока все люди, все мужчины и женщины, не научатся жить вместе, гармонично, как равные, сходясь, подобно израильтянам, каждый юбилейный год на собрание, чтобы возвратить всем, народу в целом, то, что лишь на время стало личной собственностью.
Далее, отец Джон полагал, что основу жизни каждого человека составляет непосредственное общение христианина с Богом, и это общение не нуждается в посредничестве священника, и даже церковные таинства не так уж необходимы для поддержания этой близости. Он утверждал даже, что таинства – всего лишь знаки и символы, порождающие вредные и бессмысленные суеверия, а упрямые и закоснелые умы тех людей, кого мы именуем Отцами Церкви, превратили эти суеверия в догму. Предоставив священникам исключительное право совершать таинства, причащать и отлучать верующих, как подскажет им их собственная земная, грешная природа, Церковь присвоила себе ключи от врат ада и рая, захватила господство и власть. Теперь никто не попадет на небеса, если не приобщится тела и крови Христовой, но только принявший помазание священник обладает волшебной силой, претворяющей хлеб и вино в тело и кровь. Говорю вам, братья, согласно учению нашего отца Джона, вера в пресуществление – кощунственное заблуждение, обман, запутывающий простых людей и ведущий к идолопоклонству. Если уж мы нуждаемся в таинстве, давайте просто делить друг с другом земные блага, хлеб и вино, как мы только что сделали во время пасхального причастия, и будем помнить, что мы творим это по наставлению и примеру Иисуса.
Братья, учение о таинствах, полученное нами из Рима, Авиньона или где там ныне пребывает Папа, отрицает подлинную Церковь. Церковь внутри каждого из нас и там, где двое или трое собраны во имя Его. Такую Церковь оставил нам наш Господь, ради такой Церкви жил и трудился отец Джон. Истинная Церковь – это община верующих и ничего более, ее авторитет покоится исключительно на учении Господа нашего, которое содержится в Новом Завете. Высшим, единственным авторитетом может быть лишь Святое Писание, и в особенности слова Господа нашего, сохраненные евангелистами. Вот почему Джон Уиклиф большую часть своей жизни посвятил переводу и распространению Евангелий на нашем языке. Вот почему после его смерти кости отца Джона были вырыты из земли и сожжены, будто он был еретиком, будто эта подлая, мелочная месть могла хоть как-то ослабить его доводы.
Учение отца Джона – не доморощенная мудрость, сотканная на станке здравого смысла, хотя и простого здравого смысла в нем немало, но в эту ткань вплетаются нити двух его великих предшественников, Роджера Бэкона и Уильяма Оккама. Первый из них обнаружил истину в том, что человек видит и слышит, что он может ощупать, понюхать, измерить, попробовать на вкус. Второй показал, что учение Отцов Церкви и схоластов увело нас от опыта к умозрительности, от частного к общему, от факта к универсалиям. Джон увидел, как этот способ мышления становится основанием тирании, угнетающей и развращающей всех нас, не дающей нам последовать по пути, проложенному этими тремя гигантами.
Я верю – более того, я делаю вывод, исходя из опыта и логики: мы можем использовать это учение как ступени лестницы и, поднявшись повыше, оглянувшись назад, мы увидим, откуда мы пришли, и осознаем безумное заблуждение, на котором покоилась и наша философия, и наша мораль, – я называю безумным заблуждением подмену фактов универсалиями, истории – метафизикой.
Источником нашей слабости и зависимости, причиной неравного распределения богатства и власти, несправедливости и страданий Церковь и церковные мыслители называют некую мистическую вину, некое первоначальное преступление. Первородным грехом, запятнавшим нас всех, было непослушание воле Божьей, а потому стремление к удовольствию и радости, в которых суть человеческой жизни, навсегда отравлено грехом вожделения.
Мы перенеслись в царство метафизики до такой степени, что придали абсолютное значение времени. В чувственном мире все проходит, человек начал ощущать себя конечным и смертным, смерть становится подлинным содержанием жизни. Речет безумец: «Все проходит, стало быть, тварный мир и должен пройти. Это и есть справедливый закон Времени, пожирающего своих детей».
Безумие провозглашает, что лишь высшие ценности пребудут вечно, а потому лишь они реальны, лишь вера и любовь, ничего не ищущая, ничего не желающая, становятся желанной для нас целью. Почему? Потому что Церковь хочет усмирить, успокоить, удовлетворить тех, кто лишен всего на земле, и защитить тех, кто отнял у них все и не желает возвращать. Это учение разделило людей на хозяев и рабов, на правителей и подданных, оно – причина угнетения, подавляющего в нас инстинкт жизни, ведущего к деградации человека.
Прежние способы мышления, подлинное учение Аристотеля, перипатетиков[37]37
Перипатетическая школа – философская школа, основанная Аристотелем.
[Закрыть] и эмпириков[38]38
Эмпиризм – философское направление, признающее чувственный опыт единственным источником достоверного знания.
[Закрыть] древности, отвергнуты, а вместе с ними отброшено и представление о чистой радости бытия, о наслаждении – сочетании желания и удовольствия. Чтобы вернуться на путь, с которого мы сошли, чтобы спуститься по другому склону горы – не в долину тени смертной, а в землю, текущую млеком и медом, чтобы сделаться самими собой и обрести весь мир, нужно восстать против тирании времени, против господства становящегося над сущим. До тех пор пока течение времени остается непостижимым и неподвластным, пока мы испытываем чувство невосполнимой утраты, пока звучит горестное и недоуменное «было и прошло» – до тех пор в жизни будут таиться семена зла и гибели, обращающие доброе в дурное и дурное представляющее желанным. Человек сделается самим собой, лишь преодолев веру в вечное блаженство после смерти, лишь ощутив вечность здесь и сейчас.
Прежде чем прийти к вам и прочесть эту проповедь, я прошелся по саду. Вишневое дерево в цвету, наше вишневое дерево, единственное дерево во всем тварном мире, которое выглядит и является в данный момент именно таким. Рядом с вишней сирень, присланная нам нашими братьями из Анатолии. Почки уже набухли, вот-вот лопнут, уже показались белые краешки цветков. В ветвях сирени поет снегирь, его черная шапочка сверкает как солнце, красная грудка горит огнем. Именно этот снегирь, этот, никакой иной, посетил нынче утром наш, и только наш, сиреневый куст.
Подумайте о лилиях полевых, которые не трудятся и не прядут. В пору Пасхи, в пору цветения вишневого дерева, когда в ветвях сирени распевает черно-красный снегирь, в пору рождения и воскресения мира, подумаем: все проходит, но все возвращается, уходит по кругу и по кругу приходит, вечно вращается колесо Бытия; все умирает, все расцветает вновь, вечно продолжается круг Бытия; все разбивается и все собирается вновь воедино, вечно отстраивается заново храм Бытия. Все части Бытия разлучаются, все встречаются вновь и приветствуют друг друга.
У нас отнимают земную жизнь и взамен предлагают непознаваемую вечность, вымышленную награду за подлинные страдания. Такая вечность становится орудием и опорой тиранов.
Здесь и сейчас, в день Пасхи, мы провозглашаем вечность на нашей прекрасной земле, вечное возвращение детей земли, лилии и розы, влюбленного и возлюбленной. Слишком долго земля была приютом сумасшедших, пора нам иначе понять чувство вины, научиться, как в древности, испытывать вину не тогда, когда мы отстаиваем жизнь, а когда мы ее унижаем, не тогда, когда мы восстаем против тирании мысли, а когда мы ее рабски принимаем.
Земля – наш дом, и это не печальная, а славная и радостная весть. Довольно с нас простой пищи, простой одежды, укрытия в дождь, а ведь мы получили еще и лилию и розу, грушу и яблоко. Такой дом достоин и смертного и бессмертного человека, мужчины и женщины, каждого из нас».
– Что ты об этом скажешь, Али?
– Возвышенно, но несколько сбивчиво.
– Нелегко опровергнуть тысячелетнее заблуждение в одной короткой проповеди.
– Я мог бы свести ее к одному предложению.
– В самом деле?
– Горный Старец наставлял: «Истины нет, все дозволено».
– Ты выворачиваешь мою проповедь наизнанку.
– Быть может.
Брат Питер остановился возле пруда, поглядел на меня. Я видел печаль в его светло-голубых глазах, плечи его устало ссутулились. Проповедь ли утомила его или огорчала необходимость расставания?
– Есть небольшая группа людей, готовых довести это учение до того же беспощадного вывода, – сказал он. – Они живут на севере, кочуют с места на место, укрываясь от гонений.
– Братья Свободного Духа?
– Полагаю, так они именуют себя.
– Где их можно найти?
– Загляни в Манчестерский лес.
Я последовал его указаниям, но сперва все-таки настоял, чтобы монах раскрыл мне утаенные подробности последних экспериментов Роджера Бэкона с порохом. Полагаю, тем самым я сделал для обороны Виджаянагары и для спасения империи от угрожающей ей гибели никак не меньше, чем все мои спутники вместе взятые.
Глава тридцать вторая
Все эти рассуждения об Оккаме и Уиклифе показались мне чрезвычайно запутанными и, откровенно говоря, скучными и не имеющими никакого отношения к рассказу.
Я вновь навострил слух, когда Али упомянул порох, в надежде, что он возобновит прерванную повесть.
– А что делали тем временем князь и Аниш? – осторожно спросил я, воспользовавшись короткой паузой. – Они так и сидели взаперти в Тауэре?
– Очень хорошо, что ты задал этот вопрос. Я, как и ты, верно, устал от звуков собственного голоса. Мы как раз добрались до того места, когда пора вновь обратиться к переписке князя с императором.
Он подтолкнул ко мне небольшую стопку бумаг. Я принялся за чтение, а Али тем временем задремал.
«Дорогой брат!
По прошествии нескольких месяцев или, во всяком случае, многих недель мы все еще пребываем в заточении в этой огромной темнице, и, разумеется, я по-прежнему не знаю, получаешь ли ты мои письма, и, если получаешь, какие меры ты принимаешь, чтобы способствовать нашему освобождению. Полагаю, хоть мы уже достаточно долго изнываем здесь, чтобы получить от тебя ответ, нам придется ждать вдвое больше времени, чем занял наш путь из дома в Ингерлонд, так что лучше мне набраться терпения.
Нам даже предоставили тут некоторые удобства. Нам с Анишем выделили три небольшие комнаты в центральной части замка, именуемого лондонским Тауэром, то есть «башней», хотя на самом деле он состоит из множества башен, соединенных между собой стенами или стоящих отдельно, как та башня, в которой мы живем. Все здесь выстроено из камня, из бледно-серого известняка или блоков песчаника, скрепленных известкой. Крыша изготовлена либо из свинцовых листов, либо из черепицы, пол тоже черепичный или из известняка. Все убранство комнат составляют гобелены, и то не везде, очаг есть только в одном из принадлежащих нам помещений. Однако несмотря на то, что мы вынуждены жить в столь примитивных условиях, мы должны еще и выражать благодарность за комфорт, которым мы наслаждаемся, – справедливости ради скажу, что тюремщики живут ничуть не лучше.
Главный тюремщик – лорд Скейлз, пожилой, раздражительный вельможа. Он управляет Тауэром от имени короля. Иногда он приглашает нас на обед и за едой все время бранит герцога Йорка и лондонское купечество – оно-де хочет уморить его голодом, отказываясь снабжать Тауэр продуктами и прочим необходимым товаром. Время от времени он требует от нас плату за прокорм. Не знаю, то ли этот человек достаточно скромен в своих запросах, то ли не осведомлен об истинной ценности камней, но стоит вручить ему жемчужину размером всего-навсего с голубиное яйцо, и он удовлетворится по крайней мере на полмесяца.
Наш страж делится с нами новостями. Герцог Йорк ныне находится на острове Иберния, или Эрин, – он расположен к западу от Ингерлонда и несколько меньше его. Английский король притязает на владение также и этим островом, однако его власть простирается лишь на восточное побережье, а внутри страны (ее именуют Ирландией) обитают дикие племена. Говорят, что Уорик присоединился к Йорку, они встретились в порту Уотерфорд на юго-восточном берегу и оттуда, как многие опасаются, готовят вторжение. Быть может, Йорк поведет войска морем из Ирландии, а Уорик вернется за пополнением в Кале.
В Кале все стоят на прежних позициях. Армия Уорика сковывает действия герцога Сомерсета, а Сомерсет удерживает на месте войска Уорика. Обе стороны недостаточно сильны, чтобы решиться на открытое сражение, ни та ни другая не могут отступить морем, поскольку в момент погрузки на корабли подвергнутся вражескому нападению.
Про Эдди Марча, ставшего причиной всех наших бед (напрасно я нанял его проводником, Али и в этом случае, как и во многих других, был прав), про этого молодого человека ничего толком неизвестно. То ли он в Уотерфорде вместе с Уориком, то ли вернулся в Кале. Хуже того – ничего неизвестно и об Али и его спутнике, буддийском монахе. Лишившись их, мы с Анишем, или хотя бы Аниш, вынуждены понемногу учить английский. Да, забыл сказать: исчез и факир, сопровождавший нас большую часть пути.
Итак, дорогой брат, время тянется медленно, но все же мы проводим его не без пользы для нашей страны и нашего народа, и я надеюсь, что в один прекрасный день мы сможем возвратиться к тебе с ценными сведениями. Несмотря на холодную и сырую погоду, мы с Анишем сумели тщательно изучить здешние укрепления. Мы делали это урывками, понемногу, чтобы не навлечь на себя подозрение, будто мы ко всему прочему еще и шпионы. В особенности нас интересовало, выдержат ли эти стены удары снарядов, а потому мы побеседовали с сержантом артиллерии Бардольфом Эрвиккой.
Командует артиллерией, как тут принято, знатный нормандец, по имени Гай Фицосберн, молодой глупец, лишенный подбородка, с голосом, напоминающим лошадиное ржание или, скорее, ослиный крик. Да-да, именно ослиный: и-а-и-а.
Все, что он знает о своей должности, – это размер жалованья. Но сержант Бардольф – человек сведущий. Невысокий, крепко сбитый, как большинство саксов, с грубыми чертами лица, изуродованного вдобавок множеством угрей и карбункулов, сверкающих, точно раскаленные ядра. Как и все саксы, он то и дело вставляет в свою речь некое словцо, не имеющее, насколько мы в состоянии разобраться, никакого отношения к теме нашей беседы. Это словцо означает любовные забавы, в особенности тот их способ, который с наибольшей вероятностью может повести к зачатию. Судя по тому, что это слово употребляют в качестве ругательства, здесь к любви относятся с пренебрежением и даже с презрением.
Для начала я спросил Бардольфа, не кажется ли ему, что стены Тауэра, в особенности внешний пояс, недостаточно широки и нуждаются в дополнительном укреплении. Ведь направленный артиллерийский огонь может разрушить эти стены, верно?
– Потеря времени, сэр, – отвечал он, предварительно втянув воздух сквозь оттопыренные губы и выпустив его с фырканьем через нос. Он вставил сюда свое любимое словечко, и я сперва с непривычки подумал было, что сержант имеет в виду: мы потеряем таким образом время, которое лучше было бы потратить на любовь, но конечно же он ничего подобного сказать не хотел.
– Видите ли, сэр продолжал он, – нет на свете такой долбаной стены, которая бы выстояла против долбаного пороха, пусть она будет хоть поперек себя шире.
– А выстроить ее из камня, тридцати футов в ширину?
– Это уж не стена. Это целая долбаная гора. И все одно: дай мне достаточно пороха и не торопи меня, я и ее раздолбаю!
– Так есть ли, дорогой друг, средство защитить стену от артиллерийского огня? – спросил его я (вернее, этот вопрос по моему приказу задал Аниш).
– А то как же!
Мы стояли на стене между двумя башнями. Здесь легко могли бы разойтись два вооруженных воина.
– Пошли со мной.
Сержант отвел нас в ближайшую башню, в большое круглое помещение, диаметром примерно в тридцать футов. Большую часть этой комнаты занимала пушка длиной в двенадцать футов и ее принадлежности, а именно: шомпол, заканчивавшийся огромной шваброй, открытая бочка с водой, рядом еще одна бочка – с порохом, и два десятка каменных шаров почти идеальной формы, каждый из которых превышал в диаметре два фута. Здесь имелась также полка с кремнем и огнивом и трутница, в которой хранился смоченный в селитре, а затем высушенный фитиль.
– Все на месте, – крикнул мне в самое ухо сержант Эрвикка, – все наготове! Всякому, кто попытается причинить ущерб его величеству или его владениям, враз яйца оторвем.
Я подивился, как он сумел сложить вместе столько слов, не помянув совокупление.
– Вот как мы защищаем стены от вражеских пушек – у нас тут своя пушечка и там в башнях еще шесть, и все они гораздо больше, чем эти долбаные ублюдки могут выставить против нас.
– Понятно, – сказал я. – Стало быть, ваша задача – поразить ядром вражескую пушку, прежде чем она успеет разрушить своим огнем ваши стены, и вы уверены, что вам это удастся, потому что в замке пушки гораздо больше, чем могут притащить с собой осаждающие, и потому что вы будете стрелять в них сверху.
Как я уже говорил, эта пушка была необычной величины. Она представляла собой железную трубу, перехваченную по всей длине медными обручами на расстоянии примерно фута друг от друга. Пушка покоилась на подставке из цельного дуба, а та, в свою очередь, крепилась к гигантскому колесу, располагавшемуся параллельно полу. Итак, хотя радиус поражения ограничивался тем отверстием, из которого высовывалось жерло пушки, можно было менять угол, а тем самым и направление огня, подымая и опуская ствол, а также поворачивая его из стороны в сторону.
– Для джентльменов вы не так уж плохо соображаете, как я погляжу. Полная башка этих долбаных мозгов! – заметил наш новый приятель, постучав указательным пальцем по своему грушевидному носу. Насколько мне известно, этим жестом здесь выражают уважение к разумности собеседника.
Итак, дорогой брат, чтобы защитить наши крепости от артиллерии султанов Бахмани, нужно приобрести более крупные и более точные пушки, чем те, какими располагают наши враги. Очевидно, мы могли бы догадаться об этом и сами и не было нужды отправляться за этой идеей на край света. Однако мы с Анишем надеемся еще выяснить кое-какие подробности насчет того, как обращаться с большой пушкой. Кроме того, вероятно, они здесь знают какие-то методы, улучшающие состав пороха для большей его эффективности.
Остаюсь, дорогой брат, твоим преданным слугой.
Князь Харихара».
Глава тридцать третья
«Дорогой брат,
мы провели здесь уже пять месяцев. Идет к концу шестой месяц 1460 года по христианскому календарю. Не могу сказать, чему это соответствует в нашем более сложном лунном календаре – мне понадобилась бы помощь наших ученых, – но, во всяком случае, миновало не менее года с тех пор, как мы отплыли из Гоа. Аниш полагает даже, что прошел год и два месяца.
Мы по-прежнему находимся в заточении; хоть мы и пользуемся определенным комфортом, мы не вправе выйти в город и можем лишь любоваться им со стены, а о возвращении домой и речи не идет. Нам не предъявили формального обвинения, но мы подозреваемся в симпатии к йоркистам, в том, что мы оказывали им помощь и поддержку. Когда Скейлз напивается допьяна и становится воинственным и злобным, он грозит нам дескать, в любую минуту он может подписать бумаги и нам отрубят головы прежде, чем мы скажем «Джек Робинсон» (я не знаком ни с каким Джеком Робинсоном).
Итак, мы сидим в мрачном Тауэре то ли дворце, то ли крепости, то ли тюрьме. Он сделался несколько менее мрачным с наступлением лета. Они это называют летом! Краткий промежуток времени, когда солнце светит чуть ярче и становится достаточно тепло, чтобы топить камин только по вечерам. Следует также отметить, что ночи теперь наступают гораздо позже и длятся не более шести часов. Казалось бы, при таком изобилии дневного света здесь должно было стать еще жарче, чем в нашей стране, но нет: даже в полдень солнце висит слишком низко, и самые теплые дни здесь едва ли могут сравняться с самыми холодными днями в Виджаянагаре. Погода совершенно непредсказуемая: то снова зарядят холодные дожди, то в ясный день поднимется холодный ветер с востока, а потом соберутся облака, ненадолго сделается жарко, даже душно, затем разразится гроза и на землю обрушится ливень, похожий на наши муссоны. Даже летом капли дождя иногда замерзают и превращаются в град. А потом снова ветер и холодные дожди.
Но здешние сады, занимающие довольно обширное пространство внутри стен, прекрасны в любое время года. Высокие кусты роз, пионы – сейчас, правда, они отошли, – множество цветущих и ароматных трав, в том числе тимьян и розмарин (их тоже уже нет, они начинают цвести раньше других и раньше отцветают), шалфей – ты помнишь это растение, купцы порой доставляют его нам из предгорьев Гималаев, в мешках, в засушенном виде, и слишком дорого берут за него. Поверишь ли ты – в рыбных прудах есть даже лотосы, которые здесь называют водяными лилиями. Они поменьше наших, сейчас они начинают цвести, все цветки похожи один на другой и состоят либо из восьми, либо из восьми пар лепестков. Здесь лотос считается редкостью и его ценят не как религиозный символ, а просто за красоту. При виде лотосов я испытал внезапно сильное желание возвратиться домой.
Что же еще? Примерно с месяц назад появились птицы с раздвоенным хвостом, в точности похожие на ласточек, обитающих в наших храмах с конца сезона муссонов до начала жары. Эти птицы построили под кровлями башен и хозяйственных пристроек тысячи крошечных гнезд, словно слепленных из глины или известки, отложили яйца, а сейчас выращивают птенцов. Как ты знаешь, люди, желающие ломать себе голову над подобными вещами, давно интересовались, каким образом размножаются наши ласточки; полагаю, теперь мы знаем ответ: они улетают на север, а почему – о том ведомо лишь им самим и Деви-Парвати, правящей всем живым.
В Ингерлонде об этом никто понятия не имеет. Мы расспрашивали одного из садовников, краснолицего старика с длинными седыми волосами и узловатыми распухшими суставами пальцев – от этой болезни страдают большинство стариков в Ингерлонде. Когда мы поинтересовались, куда, по его мнению, деваются зимой ласточки, он прошамкал в ответ (зубов у него явно не хватает): «Да как же, ваша милость, аккурат с Михайлова дня пташки зарываются в грязь подле пруда и спят всю зиму напролет, а просыпаются, когда солнышко им спинки пригреет и оживит».
В Тауэре есть и вороны, тоже похожие на обитателей утесов и расщелин высочайших из наших гор. Здесь этих птиц приручили, стражники заботятся о птенцах они вылупились из яиц незадолго до нашего ареста, – кормят их кусочками печени и остатками мяса. Оказывается, существует поверье, согласно которому Альбион (это еще одно имя Ингерлонда) будет в безопасности до тех пор, пока в Тауэре водятся вороны.
Должно быть, я утомил тебя, дорогой брат, этими экскурсами в область естественной истории, но мы с Анишем здесь так скучаем, что готовы развлекаться и подобными пустяками. Но перейдем к более существенным материям.
Наш тюремщик лорд Скейлз (он предпочитает именовать себя хозяином, а нас своими гостями) разыскал нас сегодня поутру в том самом саду, который я только что попытался описать. Скейлз немолод, оброс бородой, точно леопард, и лицо у него красное, как у садовника (Аниш полагает, что цветом своего лица английские старики обязаны неумеренному потреблению алкоголя с раннего детства), он вспыльчив и груб. Скейлз застиг нас в тот момент, когда мы созерцали передвижение какой-то длинноногой мухи по поверхности пруда. Аниш обдумывал это явление, пытаясь истолковать его как символ эфемерности величайших событий перед лицом вечности все дело в том, что муха не оставляла никаких следов на поверхности воды.
– Знаете, что произошло?! – рявкнул лорд Скейлз. – Ваши приятели-йоркисты отплыли из Кале и позавчера высадились в Сэндвиче. Сейчас они уже в Кентербери. Эта задница Бёрчер, архиепископ, так его мать, их поддерживает. Их уже по меньшей мере двадцать тысяч. Не пройдет и двух дней, как они заявятся к нам.
– Чего они хотят? – поинтересовался я.
– Они говорят, что хотят установить в стране законное правительство. Они говорят, что они за короля, которого они называют законным королем. Эти люди всегда говорят совсем не то, что на самом деле имеют в виду.
– Чего же они хотят на самом деле?
– Они хотят свергнуть короля и посадить на его трон Ричарда Плантагенета, герцога Йоркского, этого спесивого ублюдка. Я им покажу, вот увидите.
– Но если их двадцать тысяч человек… Скейлз прекрасно знает, что мне известно: гарнизон Тауэра состоит едва ли из двухсот человек.
– Но ведь у меня есть пушки, верно? Вот посмотрите. Я разнесу их в клочья, если они отважатся сунуть нос в город.
Тут Аниш вмешался в разговор.
– Кто их предводитель? – спросил он.
– Ричард Невил сукин сын, именующий себя графом Уориком после того, как женился на дочери старого Уорика; его отец, лорд Солсбери, и его дядя, лорд Фальконбридж, – тот тоже заработал свой титул в постели. И еще Эдди Марч. Бандиты! Негодяи! Разбойники!
– Значит, самого Йорка с ними нет?
– Нет уж, ему хватило ума – будет ошиваться в Ирландии и выжидать, как тут пойдут дела. Им всем туго придется, помяните мое слово.
С этими словами Скейлз удалился. Пыхтя и отдуваясь, он полез вверх по крутой лестнице – наверняка решил осмотреть пушки и убедиться, что наш приятель Бардольф Эрвикка содержит их в должном порядке.
– Может быть, для нас это обернется к лучшему, – робко предположил Аниш. – Если Марч, Уорик и все прочие вспомнят про нас. Может быть, олдермен Доутри скажет им, где мы сейчас.
– Ладно, – ответил я, – по крайней мере, мы узнаем, как действуют эти пушки.
В этот момент длинноногая муха подобралась чересчур близко к небольшому плотику из листьев лотосов, или водяных лилий, на котором сидела маленькая лягушка. Лягушка сделала быстрое движение языком, и мухи как не бывало.
– Скажи мне, Аниш, – осведомился я, – какое место в твоей космогонии отведено этой лягушке? Она – воплощение Шивы-разрушителя?
– Слишком много чести, – возразил он. – Полагаю, это Татака, демон-людоед.
Достопочтенный брат, здесь все и впрямь пришло в движение, и перемены совершаются столь быстро, что я не передал это письмо арабскому купцу, который отплыл сегодня в надежде через месяц добраться до Леванта, а сохранил это послание у себя и буду вносить в него заметки по мере того, как будут разворачиваться события. Когда ситуация прояснится, я найду другую возможность послать тебе письмо.
Итак, с тех пор как я прервал это послание, миновало пять дней, и начался месяц, который христиане называют июлем в память Юлия Цезаря, создавшего их календарь и построившего ту крепость, в которой мы ныне заточены.
Ох! Лорд Скейлз вовсю забавляется, стреляя из своих пушек. Артиллеристы заряжают орудия и наводят на цель, а Скейлз подбегает то к одной пушке, то к другой, подносит к заряду фитиль, следит, как бежит огонь по шнуру, и – бах! – ядро вылетает, а лорд уже мчится к следующей пушке, выбегает из башни, вниз по ступеням, на крепостную стену и по крепостной стене всякий раз я опасаюсь, как бы он не свалился, – бежит в соседнюю башню, и там снова бах! – и спешит дальше. У лорда Скейлза шесть пушек, из которых он может обстреливать город: три нацелены на северную сторону, именуемую Смитфилд, а три – на запад, их ядра летят над небольшим холмом Тауэр-Хилл в Биллинсгейт. Хотя пушки установлены на большой высоте и калибр этих орудий весьма значителен, ядра летят не дальше чем на пятьсот ярдов. Это страшно огорчает лорда, поскольку мост остается вне пределов его досягаемости, а по мосту как раз в этот момент продвигается армия Уорика, и ее приветствует лорд-мэр вместе с олдерменами (полагаю, в их числе присутствует и олдермен Доутри).
Купцы благоволят Уорику и партии Йорков в силу нескольких причин. Король, или, как все говорят, королева, обложил их тяжкими налогами, а к тому же за большую сумму денег он наделил ганзейских купцов привилегиями, которыми те раньше не пользовались. Йоркисты обещают все это изменить, как только безумный король окажется в их власти, а пока что корабли Уорика, нацепив пиратские флаги, захватывают в море суда ганзейцев. В результате лондонцы не только приняли Уорика с распростертыми объятиями, они еще и ссудили ему четырнадцать тысяч золотых монет – огромная сумма по здешним понятиям – для уплаты жалованья войску и на содержание солдат.
И вот, словно пчелы в улей, все больше людей собирается в его войско. Часовой, поставленный лордом Скейлзом наверху главной башни, пересчитал воинов, шедших по мосту. Он полагает, что их сейчас примерно сорок тысяч – это настоящая армия, хотя еще остается вопрос, не разбежится ли часть из них, отъевшись и получив жалованье, когда придет пора дальних переходов и опасных сражений.
Пока что лорд Скейлз по два часа в день методично обстреливает улицы города. Затем наступает пауза – нужно поднять в башни запас каменных ядер и бочки с порохом. Один раз мы стали свидетелями спора между лордом Скейлзом и сержантом Эрвиккой. Оба специалиста пытались объяснить друг другу, почему ядра не долетают до моста.
– Это все долбаный порох, ваша милость, его делали в Эппинге, там, откуда везут уголь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































