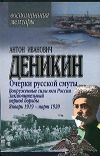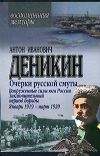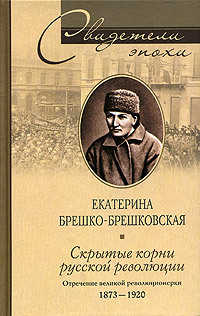
Автор книги: Екатерина Брешко-Брешковская
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 13
Дом предварительного заключения, 1877–1878 годы
Мы все снова оказались в «предварилке» в одиночных камерах. Были среди нас и новички, которых ранее выпустили под поручительство. На суд вызвали и посадили под стражу Желябова, Волкенштейн[37]37
Молодая женщина, вовлеченная в убийство харьковского генерал-губернатора Кропоткина.
[Закрыть] и некоторых других. В заключении снова оказалась Александра Ивановна Корнилова. Судить должны были и Софью Перовскую, хотя она оставалась на свободе.
В «предварилке» мы обнаружили большие перемены к лучшему. Очевидно, во время «Процесса пятидесяти» связь между заключенными сравнительно облегчилась, поскольку они постоянно переходили туда-сюда и могли обмениваться записками. Кроме того, после окончания предварительного следствия арестованные считались безвредными и их не так строго охраняли.
Связь между нами стала легче еще и благодаря тому, что один человек обнаружил, что может из своей камеры переговариваться с десятью другими камерами на всех пяти этажах. Сточные трубы от ватерклозетов проходили через все эти камеры, и, когда в унитазе было пусто, десять заключенных одновременно могли слышать того, кто говорит. Такое общение называлось «клубом». Однажды я была крайне удивлена, когда смотрительница открыла мою дверь и спросила:
– Вы будете вступать в клуб?
– Что?
– Вы хотите вступить в клуб?
– Какой клуб?
Она объяснила.
– Конечно, – сказала я. – Но разве это возможно?
Она дала мне подробные указания и выдала мне палку с обернутой вокруг нее тряпкой. Я поблагодарила ее, с помощью тряпки избавилась от воды и громко объявила свое имя. Оказалось, что мой клуб состоит исключительно из «наших людей». Тут же последовали приветствия и вопросы. Нам, прибывшим из крепости, рассказывать было почти не о чем, однако у обитателей «предварилки» новостям не было конца. В тюрьме процветала литературная деятельность. Все зачитывались превосходной толстой книгой под названием «Отчаянное положение», опровергающей обвинения, предъявленные Желябову. Ее автором был Митрофан Муравский, или «отец Митрофан», как его называла молодежь, поскольку ему было 43 года, большую часть которых он провел в борьбе и тяжелых испытаниях. Он по-отечески любил юные души и был им верным другом и товарищем. Обладая умом, образованностью и мягким, но решительным характером, он внушал к себе большое уважение.
Прочитав толстую рукопись, состоявшую из статей и писем заключенных, в которых опровергалась вся ложь и искажения в обвинительном акте, я загорелась желанием познакомиться с отцом Митрофаном и написала ему несколько приветственных и одобрительных слов. Так началась наша тесная и нежная дружба. Мы не теряли связи друг с другом, пока его не перевели в одну из харьковских тюрем. Там мой дорогой друг и закончил свои дни, так как его здоровье было уже серьезно подорвано на каторге.
Книга «Отчаянное положение» основывалась на том, что при отсутствии чего-либо криминального или предосудительного с точки зрения человеческой морали в действиях тех, кто шел «в народ», прокурору пришлось прибегнуть к клевете и искажениям фактов, чтобы любой ценой очернить этих людей в глазах общества. Если бы он хотел придерживаться истины, то должен был изобразить нас как людей высокой нравственности и чести. Отчаянная ситуация и вынудила прокурора написать вместо обвинительного акта пасквиль.
Помимо книги Муравского, в тюрьме было написано несколько замечательных стихотворений. Сергей Синегуб, очаровательный малороссийский поэт и юморист, сочинил много стихов.
Мне очень жаль, что это литературное творчество наших товарищей никогда не издавалось и постепенно исчезает. Во время последующих обысков все рукописи были конфискованы. Те, которые удалось передать на волю, обычно попадали в руки жандармов или уничтожались товарищами в минуты опасности; правительство губило не только здоровье и жизнь своих жертв, но и творения их душ и разума.
Жизнь в «предварилке» в ожидании суда была оживленной и даже веселой. Мы готовились к своей акции протеста и старались придумать такие формулировки, которые бы убедили как можно больше людей отказаться от участия в суде. Такой бестактный протест, как, скажем, «мы не признаем вас за своих судей; мы видим в вас всего лишь слуг, рабски выполняющих приказы хозяина, и отказываемся иметь с вами какое-либо дело», наверняка привел бы лишь к более суровым приговорам. Многое зависело от характера и убеждений конкретных людей. Некоторые из тех, кто принимал лишь ограниченное участие в нашем движении, были готовы к любым формам протеста, нашлись и те, кто возражал против таких шагов, которые могли привести к более серьезному приговору. Многие соглашались с Волкенштейн, которая заявила: «Я присоединяюсь к протесту, во-первых, потому, что убеждена в его разумности, и во-вторых, чтобы увеличить число протестующих, ведь чем больше их будет, тем меньшей окажется ответственность каждого участника и тем больше повысится значение протеста».
В итоге была принята окончательная формула: каждый из нас получил право выразиться более решительно, если он так пожелает, так как многих не удовлетворяли чисто формальные основания для протеста и такие люди требовали права лично выступить в защиту своих принципов.
Те, кто был достаточно уверен в себе и знал, что опасность не заставит его отступить, спокойно относились к ситуации. Самые юные девушки проявляли мало интереса к этому вопросу – не из-за легкомыслия или готовности к слепому подчинению; просто долгий опыт тюремного заключения подтвердил, что их вожди достойны самого полного доверия.
Я в то время познакомилась с Ваничкой – девушкой, которая заняла огромное место в моей долгой жизни, сперва как дочь, а затем как сестра и друг.
– Познакомьтесь с Ваничкой, – сказали мне, когда я вернулась из крепости. – Она очень молода, но на нее можно смело положиться.
Я стала наводить справки и узнала, что ее вместе с другими людьми, печатавшими нелегальную литературу, арестовали в типографии Мышкина в Москве. Она провела девять месяцев в одном из московских полицейских участков и была выпущена под поручительство. После этого она переехала в Петербург и приняла участие в демонстрации возле Казанского собора в 1876 г.,[38]38
В декабре 1876 г. партия «Земля и воля» провела демонстрацию перед Казанским собором. Оратором являлся Георгий Плеханов, будущий основатель российской социал-демократии. Собралось несколько сотен рабочих, но их быстро разогнала полиция.
[Закрыть] после чего ее снова приговорили к ссылке, но посадили в «предварилку», чтобы судить вместе с «193-мя». Ее товарищей по делу о демонстрации уже отправили к тому времени на каторгу или в ссылку.
Ваничка – Софья Андреевна Иванова – родилась в октябре 1856 г. Она была на 12 лет моложе меня. Местом ее рождения была Шуша, где располагался гарнизон ее отца, капитана Иванова, который женился там на девушке-грузинке. Он никогда не говорил о своих родителях, и, лишь когда он умер, его дети узнали, что те были богатыми людьми из Германии; сын ушел от них в ранней юности и вступил в армию солдатом под фамилией Иванов. Это произошло во времена Николая I. Честный, умный и хорошо образованный солдат вскоре дослужился до офицера; Софья помнила его капитаном. У него было восемь сыновей и три дочери. Сыновья один за другим поступали в кадетский корпус, а дочери обучались дома. Когда Соне было девять лет, ее отец умер. У нее осталось две сестры – одна на год старше, другая на год моложе. Братьев она помнила лучше, чем сестер, к тому же она была у них любимицей.
Она много читала дома и ясно понимала, что жизнь не ограничивается пределами офицерского кружка. Братья приезжали домой на каникулы, и от них она узнала, что девушки тоже могут учиться, работать и принимать участие в общественной деятельности. Она решила уехать с братьями; но ей было всего пятнадцать лет, и мать ее не отпустила.
Мать вскоре умерла, и сестры осиротели. Вокруг самой старшей образовался веселый кружок друзей, и она пыталась втянуть в свою жизнь Соню. Но той уже исполнилось шестнадцать, и она написала брату с просьбой помочь ей. Он заканчивал московское медицинское училище и организовал ее переезд в Москву с военным обозом, который пришел из Шуши. Молодой Иванов тем временем сдал экзамены. Он имел хорошую репутацию и зарабатывал деньги для них обоих.
Потом он заболел туберкулезом и уехал на юг лечиться. Соня осталась одна в большом городе без средств, друзей и работы; и с этого момента в ней начал развиваться истинный героизм, который помог ей преодолеть и неопытность, и невежество, и крайнюю нищету.
После того как ее брат покинул Москву, молодой девушке пришлось совершенно отказаться от мысли идти учиться, и она принялась искать работу. Она шила, но заработанных денег не хватало на пропитание. Однажды она увидела объявление, приглашающее женщин на работу в типографию Ипполита Мышкина, обратилась по объявлению и получила место. В секретном отделении типографии печатали нелегальные книги. Там работали две девушки из Архангельска по фамилии Трушакевич, некто Ермолаев, его тетка Зарудная, офицер Фетисов, его жена и прочие. Ваничка попала в эту группу. Вскоре она выяснила значение этих книг и прониклась убеждением в их пользе. Она сразу же поняла важность и опасность предприятия, несмотря на крайнюю молодость, полностью поняла свою ответственность и ни словом, ни жестом не раскрывала смысла своей работы за пределами типографии. Товарищей она не беспокоила праздными вопросами.
Так продолжалось несколько месяцев, но в конце концов саратовское отделение организации совершило ошибку. Один из его членов неосторожно отправил письмо в типографию Мышкина через тюремного смотрителя, и жандармы вышли на след подпольщиков. Из-за каких-то колебаний среди властей аресты начались не сразу, и эта отсрочка позволила молодым людям выработать единую стратегию на будущее. Они решили не отвечать на вопросы и не давать никаких показаний. Вскоре они были арестованы и размещены в разных полицейских участках. Ваничка, не чувствуя никакой тревоги, спокойно ожидала своей участи. Ее допрашивали несколько раз. Жандармы пытались убедить ее «откровенно» рассказать обо всем – кто работал в типографии, куда отправлялись печатные материалы и в каком количестве. Ее обещали немедленно освободить и избавить от следствия, если она ответит на эти вопросы. Но Ваничка утверждала лишь, что ничего не знает и ей нечего сказать. Тогда ей стали угрожать, но это не произвело на нее впечатления.
Прошло полгода. Брат Ванички вернулся. Полицейское начальство просило молодого врача убедить свою младшую сестру дать показания, чтобы ее можно было выпустить из тюрьмы. Он ответил, что она достаточно взрослая и может решать за себя. Тем не менее позднее ему позволили внести за нее залог, который помог заплатить купец Хлудов, хотя это сделали без ее ведома.
К тому времени, как Ваничку выпустили на свободу, ее брат умер. Она снова осталась в одиночестве на улицах Москвы. Но девять месяцев испытаний, размышлений и наблюдений превратили девочку во взрослую женщину.
Она начала понимать всю силу духа и немощность плоти и встала на сторону духа.
В семидесятые годы взаимоотношения между товарищами носили истинно братский характер. Простое, сердечное общение было обычным не только среди социалистической молодежи, но и среди студентов в целом. Если кто-нибудь попадал в затруднительную ситуацию на улице или в путешествии, он смотрел, нет ли рядом студента, и мог быть совершенно уверен, что получит любую помощь, в которой нуждается. В то время студенты не носили формы, но их было легко отличить по широкополым шляпам и пледам. Они были друзьями человечества, отвечали на вопросы неопытных товарищей и откликались на призывы о помощи. Такие доверительные, добросердечные отношения существовали и среди курсисток, и тот же дружеский дух проник и в тюрьмы.
Ваничка нашла полезных друзей. Поскольку вернуться в типографию она не могла, то занялась шитьем. Она уже знала нескольких революционеров из числа тех, кого отпустили под залог или освободили. Петербург в то время представлял собой центр формирования революционной рати и место, куда стекались все новости из провинции, и поэтому молодые люди обычно отправлялись туда, если хотели работать на общее дело. Кроме того, благодаря нашему большому процессу и многочисленным мелким процессам в городских тюрьмах скопилось много взрывчатого материала, который как мощный магнит привлекал заговорщиков со всей страны.
Поэтому и Ваничка отправилась в северную столицу, чтобы быть ближе к товарищам, которых уже перевели туда. После многих усилий она нашла работу в типографии. Рабочие относились к ней с уважением, но пользовались ее неопытностью, заимствуя у нее деньги «на кошку». Думая, что это шутка, она давала им столько, сколько могла, прежде чем узнала, что «на кошку» означает «без возврата».
Прежде чем закончился наш процесс, Ваничка оказалась вовлечена в другое дело, на этот раз в связи с демонстрацией в декабре 1876 г. у Казанского собора. Она находилась там со своими друзьями и восторженно приветствовала этот смелый шаг, а затем вместе со многими другими была безжалостно избита и арестована. Со спокойствием и уверенностью она стоически перенесла все муки следствия и оказалась в Доме предварительного заключения, столь же бесстрашная, как и прежде.
Вернусь чуть назад: впервые я познакомилась с этой замечательной девушкой незадолго до суда. Нам позволяли входить друг к другу в камеры, обмениваться несколькими словами и ходить на прогулки группами. Мы выбирали спутников по своему вкусу, хотя смотрители, к нашему неудовольствию, часто путали фамилии. Тогда они предложили нам самим составлять списки на каждую прогулку. Составлением списков занялась я, благодаря этому надеясь более тесно познакомиться со всеми заключенными из нашей группы и с «москвичками», как называли себя женщины, проходившие по «Процессу пятидесяти». Таким образом я встретилась с Ваничкой.
Она была высокой, стройной и гибкой. Выражение ее неправильного лица было вызывающим, а улыбка – ироничной. Шутками и смехом она более отталкивала от себя, чем привлекала; и тем не менее, мы вскоре не только близко познакомились, но и подружились. Вероятно, мы отлично дополняли друг друга. Моя пылкость и ее сдержанность составляли стабильное и гармоничное целое.
Ваничка стала для меня как дочь, и ближе ее ко мне была лишь Мария Александровна Коленкина. Сейчас, когда мне 74 года, а ей 62, она остается для меня младшей сестрой, которая заботится о своей старшей и беспокойной сестре. Так мы и заканчиваем свою жизнь, находя поддержку в нашей старинной и прекрасной дружбе.
Однажды ночью раздался звон колоколов, а в коридоре прозвучали таинственные шаги и шепот. Это был обыск. Дверь распахнулась, и в камеру ворвались чиновники в форме. За ними на пороге стояли испуганные смотрители. Нам приказали вставать. Я закуталась в одеяло, надела шлепанцы и встала рядом с трубой лицом к стене. Я не хотела показаться испуганной, но мне было тревожно, так как я только что писала о хождении «в народ». Рукопись была спрятана в щели, и увидеть ее можно было лишь лежа на полу. Один из жандармов, вошедших в мою камеру, наклонился. Я была уверена, что он заметил рукопись, но его внимание тут же привлекли бумажные пакеты на полу. Как он обрадовался, когда обнаружил, что они набиты обрывками бумаги! На каждом листе имелся список из семи имен – всякий раз в разных сочетаниях.
Хитрая старая генеральская вдова Григорьева сказала: «Это списки на прогулку». И жандармы ушли, ничего не найдя, хотя ожидали собрать богатый урожай. Они знали о нашей оживленной переписке друг с другом, о наших рукописях, ходивших внутри тюрьмы и вне ее, и о помощи, которую оказывали нам адвокаты в этом отношении; но им удалось обнаружить лишь несколько незначительных записок. Вскоре после обыска отец Митрофан писал мне: «С огорчением сообщаю, что при мне нашли ваше письмо. Взрослому человеку очень глупо поступать так безрассудно, однако в тюрьме, как ни в каком другом месте, хочется хранить письмо и перечитывать его снова и снова».
Вероятно, поймали не только его одного, а мы в своих письмах были так откровенны, что по ним легко было составить представление о наших характерах. Кроме того, жандармы могли все разузнать о нас и другими путями, так как в мужском отделении заключенные переговаривались через открытые окна, а тюремщики, стоявшие на дворе, слушали и доносили о содержании всех разговоров. Кроме того, смотрители из пустых камер могли подслушивать разговоры, ведущиеся в «клубах», и таким образом узнать самые интимные сведения. Те, кто присоединился к акции протеста – а такие составляли примерно три четверти от общего числа заключенных, – говорили вполне откровенно и ничего не боялись.
Глава 14
«Процесс 193-х», 1877–1878 годы
Процесс, насколько я помню, начался в сентябре. Мы решили явиться в суд в полном составе, чтобы ознакомиться с условиями, в которых он проходит, и иметь возможность действовать согласованно. Зал суда был маленьким, места там хватало лишь для должностных лиц и подсудимых.
Нас одного за другим вели по длинным коридорам, соединявшим Дом предварительного заключения с судом. Конвои постоянно натыкались друг на друга. Пока конвоиры подгоняли нас, мы поспешно обменивались приветствиями и вопросами.
Треть зала занимали судьи и их помощники. За сенаторами рядами сидели чиновники в форме и при регалиях. Напротив них размещалось около ста человек на скамьях. В середине располагались столы для адвокатов и свидетельское место. Налево от судей находилась «голгофа» – скамья подсудимых, окруженная барьером. Свидетельское место справа от судей было заполнено нашими женщинами.
От присутствия стольких людей кружилась голова. Мы находили тех, кого знали, и расспрашивали о незнакомых. Я впервые увидела Мышкина, Войнаральского, Рогачева, Сажина, Муравского и многих других. Женщин же я всех встречала раньше. Казалось, мы забыли, что нас привели на суд. Мы приветствовали друг друга и обменивались записками. На судей никто не обращал внимания. Поднялся гвалт. Наконец колокольчик председателя призвал к порядку, и мы замолкли.
Началась судебная процедура. Нам задавали обычные вопросы:
– Возраст?
– Двадцать лет. Арестован в шестнадцать.
Или:
– Двадцать один. В тюрьме с шестнадцати лет.
Подобные ответы раздавались часто. Все обвиняемые просидели в тюрьме не меньше четырех лет, а некоторые – например Чарушина – и все пять. Судя по ответам на вопрос о занятии, многие были учителями, но большинство – студентами. Были среди подсудимых уже практикующие студенты-медики и несколько рабочих. Некоторые называли себя революционерами, другие говорили, что у них нет определенного занятия.
Такое враждебное и презрительное отношение к юридической процедуре, изобретенной специально для политических дел, было очевидно. После суда над нечаевцами в 1871 г. правительство осознало все негативные стороны открытого суда над «политическими преступниками» и увидело, как быстро и основательно такие публичные процессы открывают образованному обществу глаза на реалии российской жизни. Например, совершенно ясно, что открытый суд над Нечаевым сыграл важную пропагандистскую роль. Газеты печатали речи прокуроров и подсудимых, и публика с жадностью читала эти отчеты, которые пробуждали у всей отзывчивой части населения сочувствие к молодежи, взявшей на себя инициативу борьбы со старым режимом.
Итак, мы не только знали заранее, что процесс будет закрытым, но и то, что даже за закрытыми дверями нам не позволят ни раскрыть причин, заставивших нас взять на себя ответственность прямого обращения к народу, ни обстоятельств, при которых это произошло, ни тех несправедливостей и злоупотреблений, с которыми мы сталкивались за годы предварительного заключения.
Мы знали, что неопытных молодых людей и простых крестьян запугали, заставив дать показания, нужные жандармам и прокурорам, что детей из сельских школ собирали и заставляли клеветать на своих учителей и, наконец, что обвинительный акт состоит из измышлений, превратных толкований и лжи, призванной дискредитировать подсудимых и все их дело.
Перед судом должно было предстать около трехсот человек, но в наличии было лишь 193. Где же остальные? Они либо умерли, либо сошли с ума. А что мы видели в зале суда, переполненном молодыми людьми? Мертвенно-бледные и зеленовато-желтые лица, одни опухшие, другие истощенные. Некоторые обвиняемые были на костылях, другие ужасно кашляли. И те, к кому приближалась смерть, жадно осматривались, словно в поисках поддержки со стороны своих здоровых товарищей.
Рядом с сенаторами сидели «представители сословий» – градоначальники, предводители дворянства или старшины той же волости. Вид у них был самый глупый, но при назначении наказаний они пытались превзойти сенаторов в суровости и требовали для всех нас каторги.
Мы не теряли мужества. Те из нас, кто находился в добром здравии, с одной стороны, глубоко сочувствовали больным и инвалидам, а с другой – испытывали счастье и гордость, когда смотрели на «голгофу» и видели там лучших представителей нашего дела. Тамвиднелся высокий, невозмутимый Ковалик и темноволосый, живой Войнаральский; высокий, изможденный мученик Муравский; красивый Мышкин; сильные, коренастые Рогачев и Сажин; Желябов, излучающий здоровье и жизнерадостность, и многие другие храбрецы.
Мы обменивались приветствиями и просили адвокатов, сидевших в промежутках между нами, передавать соседям наши слова. Председатель звонил в колокольчик, умолял, приказывал и в конце концов страшно разозлился. Но все было бесполезно. Кроме чувства презрения к властям, на нашей стороне имелось еще одно преимущество. Зал практически перешел в наши руки. Мы были гораздо многочисленнее наших врагов, их помощников и сановников, занявших места за сенаторами. Все мы говорили и шумели, всех нас занимали собственные заботы, а вовсе не заботы сенаторов. В течение первого дня едва успели огласить список подсудимых, после чего нас развели по камерам, пока судьи, оказавшись в затруднении, размышляли над вопросом: «Как нам с таким неуправляемым народом соблюдать процедуру?»
На следующий день мы узнали от адвокатов, что сенаторы в негодовании придумали способ поддерживать порядок – а именно, судить нас группами. Это решение давало многим новый, менее вызывающий предлог для отказа участвовать в работе суда, так как судьи, разделяя нас по собственному разумению на группы, нарушали закон, и юристы считали, что это достаточное основание для протеста. Протест поддержали три четверти всех подсудимых, и каждый из нас получил право привести те причины для своего отказа, какие он сочтет уместными. Мы вели многочисленные дискуссии и обменивались письмами на эту тему, благодаря чему выработали целый ряд аккуратных формулировок, различавшихся степенью осторожности и радикализма.
Нас снова вызвали в суд, и поток подсудимых опять затопил маленький зал. Второй день ушел на зачтение обвинительного акта, но никто из нас его не слушал. Нам не терпелось повидаться друг с другом и прийти к пониманию. Все мы знали, что этот день проведем вместе, а затем можем расстаться – возможно, навсегда. Колокольчик председателя звонил не умолкая. Из зала раздавались выкрики: «Клевета!», «Неправда!», «Ложь!», «Мы не хотим этого слушать!». Желиховский поспешно бормотал свой бесконечный текст. Наконец он остановился в отчаянии. Мы переговаривались не только с соседями, но и с другими скамьями и даже оборачивались спиной к судьям. Агитация за акцию протеста велась совершенно открыто. Я познакомилась с Желябовым, и он поздравил меня с успешным ведением пропаганды.
Внезапно раздался звонкий, серебряный голос, ясный и смелый, четко провозглашающий каждое слово могучего протеста. Гул моментально умолк. В наступившей тишине все обратились в слух, и даже сенаторы начали прислушиваться. Это Ипполит Мышкин объяснял им, почему он не желает слушать обвинительный акт и счел необходимым заявить протест. Даже сейчас, сорок лет спустя, я как наяву слышу его чудесный голос. Он говорил не только красиво, но как человек, обладающий властью; он обращался к судье так, как судья обычно обращается к подсудимому. В России есть только один оратор, сопоставимый с Мышкиным, – Александр Федорович Керенский. Мышкин, плебей от рождения, на себе испытал все несчастья рабской жизни простого человека, и это придавало его гневу привкус самой едкой горечи. Его прерывали, указывали на несвоевременность его протеста. С «голгофы» пытались говорить другие подсудимые, но их неизменно прерывал колокольчик.
Когда мы расстались, дело шло к вечеру. У всех нас в мыслях был только завтрашний день. Мы чувствовали, что последний день будем вместе, что из-за своего протеста снова окажемся в ненавистных одиночных камерах и не сможем больше обмениваться словами утешения и надежды. Так оно и вышло.
На третий день мы дали решительный бой. Мышкин говорил снова. Мы поддерживали его и требовали, чтобы нас судили вместе. Поднялся такой шум, что тщедушная фигурка Желиховского еще больше съежилась, став почти невидимой. Он воскликнул: «Но это же революция!» и упал в свое кресло. Мы выкрикивали свой отказ принимать участие в позорной процедуре. После этого армия заключенных устремилась по коридорам, растекаясь ручейками в камеры. На этом мое участие в процессе закончилось.
Поскольку три четверти от общего числа подсудимых отказались присутствовать на суде, в тюрьме целый день снова было многолюдно. Мы решили оспаривать правила одиночного заключения и настаивали на праве совместно ходить на прогулки, посещать друг друга в камерах, совместно читать, видеться с адвокатами и на прочих привилегиях. Причины держать нас в изоляции не было, так как мы больше не участвовали в работе суда и уже не раз говорили друг с другом. С другой стороны, эти привилегии были для нас очень важны, так как давали не только личное удовлетворение, но и возможность обсуждать дальнейшие планы.
За немногими исключениями, товарищи предлагали возобновить революционную работу после выхода на волю. Все надеялись бежать, и для нашего пылкого воображения ни каторга, ни ссылка в отдаленные места не казались препятствием. Мы назначали будущие встречи, договаривались об адресах, шифрах и способах связи. Изобретались многочисленные хитроумные способы избежать надзора и обысков, но я не собираюсь описывать их здесь на случай возможных перемен и переворотов в будущем.
Особое значение для нас имели разговоры со свободными людьми. От них мы не только узнавали, что творится в мире, но и доверяли им связь с заговорщиками, оставшимися на воле. Через них мы установили контакты с Москвой, Киевом и другими стратегически важными местами. Ко мне посетители из внешнего мира приходили редко. Однажды меня вызвали, и я, к своему удивлению, увидела Марию Александровну Коленкину, такую же худенькую и милую, как всегда. Я знала, что она в Петербурге, так как получила от нее длинное письмо, полное тоски и разочарования в крахе наших планов. Зная, что она живет на нелегальном положении с того времени, как мы встречались в последний раз, я поразилась тому, что она пришла в тюрьму как свободный посетитель. Мы с ней сумели повидаться несколько раз и обсудить важные дела.
Она и ее ближайшая подруга, Вера Засулич, решили встать на защиту прав и чести заключенных, которые подвергались оскорблениям и беззакониям. Особенно они мечтали отомстить за Боголюбова,[39]39
Боголюбов отказался обнажать голову при появлении Трепова, когда тот посетил тюрьму.
[Закрыть] которого высекли по приказу начальника полиции Трепова, но считали, что написанное Желиховским клеветническое обвинение оскорбляет всех нас и дискредитирует все революционно-социалистическое движение. Обе девушки решили сами наказать Трепова и Желиховского, поскольку эти двое олицетворяли жестокость властей по отношению к нашей молодежной, лояльной организации. Мы тщательно обсудили этот план, хотя приходилось говорить через две проволочные сети, расстояние между которыми составляло полтора метра, а рядом постоянно ходил жандарм или смотритель. Я не собиралась разубеждать ее, так как знала, что ее сильная натура стремится к жертве и что для нее гораздо мучительнее быть пассивным свидетелем жестокостей, которые обрушиваются на наших друзей. Кроме того, я считала, что преступления неограниченного деспотизма не должны оставаться безнаказанными и мы должны за все отплатить Трепову и Желиховскому на глазах общественности, которая негодовала, но трусливо оставалась в бездействии.
План был разработан до конца, но девушки собирались дождаться окончания суда и вынесения приговора, чтобы их поступок не оказал влияния на нашу участь. Процесс продолжался пять месяцев. 24 января 1878 г. нам выдали напечатанный текст приговора. На следующий день по городу разнеслась весть, что Трепова тяжело ранила неизвестная женщина. Мое сердце трепетало. Больше никаких новостей не было. Я поняла, что план Маши (Коленкиной) провалился, и очень тревожилась за нее. Я знала, что при ее гордости эта неудача вызовет у нее глубокие страдания.
Придя в очередной раз на свидание, она рассказала мне, как все произошло. Чтобы ознакомиться с обстановкой во время приемных часов Желиховского, она несколько раз пыталась встретиться с ним по делу, но он упорно отказывался принимать ее. Тогда она пообещала его слуге 100 рублей, если он устроит их встречу. Слуга согласился. В одиннадцать утра две девушки с револьверами, спрятанными под одеждой, разошлись. Машу не пустили к Желиховскому. Вера попала к Трепову и выполнила свою миссию.
В те месяцы, пока шел суд, я переписывалась с Валерианом Осинским, жившим в Киеве. Там вопрос террора уже получил первостепенное значение. Проводить его доверили Осинскому. Зная о моем сочувственном отношении, он держал меня в курсе своих планов. Состояние вещей в России ясно свидетельствовало, что без борьбы с правительством не на жизнь, а на смерть политические проблемы решить нельзя. Правительство упорно противодействовало всем попыткам пробудить народное сознание. Находясь в Доме предварительного заключения, мы обсуждали, настало ли время для действий или еще нет. Большинство из нас безусловно отвергало идею террора, заявляя, что непосредственная работа с народом подготовит его к экономическому и политическому освобождению. Меньшинство желало отложить терроризм до того времени, когда массы смогут поддержать наши действия.
Суд проходил за закрытыми дверями, и отчеты о нем печатались в газете «Правительственный вестник». В них не попадало ни единого слова адвокатов в защиту обвиняемых. Речи и заявления подсудимых подвергались цензуре, и полностью был опубликован лишь обвинительный акт.
Нас судили группами. Тех, кто не желал идти в суд, приводили силой. Протесты приходилось заявлять по отдельности. Кое-кто из подсудимых смирился с судебной процедурой, и с ними быстро разобрались. Председатель убедил некоторых из нас остаться в зале суда и пытался их разговорить, но, если кто-либо начинал энергично выражать свое неудовольствие, его поспешно уводили.