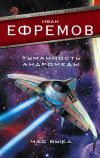Читать книгу "Олег Ефремов"
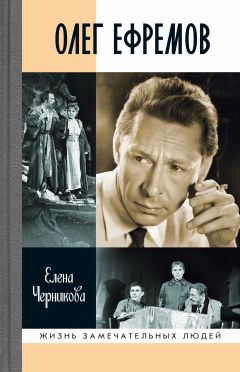
Автор книги: Елена Черникова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы – каких Вы ждали, Ленин?!
Скажите, Ленин, где победы и пробелы?
Скажите – в суете мы суть не проглядели?..»
Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно
прозрачное чело горит лампообразно.
«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин отвечает.
На все вопросы отвечает
Ленин.
Молодые не знают этих стихов, им трудно понять, как давно покойный вождь может отвечать на современные вопросы. Теперь уже и не может, разучился – и Станиславский не отвечает. Может быть, спросить Ефремова, который в свое время чутко прислушивался к обоим? Может, у него найдутся ответы на вопросы, которые за век так никуда и не делись?
«Не каботинствовать!»
Солнце, редкий гость московского лета-2019, изливало тепло, шалило, кувыркалось, и Новодевичье было театрально. Я обошла квартал № 2 по периметру.
– В путеводителях пишут, что вы рядом со Станиславским. Не пишут, что напротив Булгакова, за спиной Чехова, в десяти метрах от Гоголя. С путеводным рядом, когда речь о Новодевичьем, журналисты своевольничают, политиканствуют. Помните, как в марте 1998-го писали в «Коммерсантъ-Daily» об Улановой, когда вы пришли на панихиду?
«Вчера Москва прощалась с великой балериной: в Белом зале Большого театра прошла гражданская панихида по Галине Улановой. В тот же день она была похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с Юрием Никулиным. Очередь к Большому тянулась сквозь милицейские кордоны от Театра оперетты. Тысячи людей, большинство из которых никогда не видели ее на сцене, пришли поклониться великой балерине. <…> Олег Ефремов, представленный Васильевым как близкий друг Улановой, говорил о том, что “она была определенным эталоном для искусства балета во всем мире” и о “традициях некоммерческого искусства”, заложенных Улановой. Ефремов довольно неожиданно заметил, что “это еще не прощание”, и призвал присутствующих: “Будем поминать. Увековечим. Будем человечнее в этот день”». Журналисты простодушно удивились, что панихида – не прощание.
– Сказал, чтобы услышали. Я уже болел, ходил с трудом, дышал с трудом, я уже понимал, что скоро мы с Галиной Сергеевной тоже будем рядом. Но на панихиде принято прощаться. Прощаться с кем? С Улановой невозможно попрощаться, как с солнечным светом. Она уже есть и всегда будет. И со Станиславским невозможно попрощаться: он повернул артистов не спиной к залу, как пишут радостные профаны, а лицом друг к другу. Он стал репетировать с ними за столом. Они, как рыцари Круглого стола короля Артура, все равны. Понять друг друга, чтобы разобрать роль по движениям души.
– При любой возможности вы уговариваете людей быть людьми.
– В годы замысла о Художественном театре еще ни австрийского психотерапевта Фрейда, ни русского психиатра Сербского в общественном сознании, в культуре нет. Они уже родились и работают, но никто еще не пользуется ни психоанализом, ни методами лечения по Сербскому. Сейчас кажется, будто они всегда были, а их не было. Когда созидается Художественно-общедоступный театр, когда он идет к первому спектаклю, мир другой. Женщины другие, у них, например, еще нет избирательного права, они вторые после мужчин. Нет современной нам науки о психике. Есть государственная религия, согласно которой душу надо спасать, а не лечить у доктора. И тут Станиславский делает шаг, предвосхищающий науку ХХ века: разбирает душевные движения героев, чтоб их поняли артисты. Художественный театр, если вдуматься, опередил науку. Стоит гений нашего внимания?
– С прискорбием отмечаю, что и в нашем веке единства по вопросу «душа или психика» нет. Есть два профильных сообщества – и они в противостоянии.
– Артисту молодому, только вчера вышедшему на сцену играть, поначалу все равно – душа у него или психика. А режиссер должен знать, что у него, и управлять движениями струн актерской души. Чтобы его психика не повредилась. Зрителю тоже не до терминов, он не в лекторий «Знание» пришел.
– Интересно, знал ли сам Станиславский, что его прорыв к душе-психике – он сформулировал это как жизнь человеческого духа – прорыв в запретную зону? И что искусство опять опередило науку, на сей раз – в Художественном театре?
– Он выразился изящнее. Он сказал, что его так называемую систему – он всегда мыслил слово система в кавычках – ему подсказал Шаляпин. Случайно.
– Да, припоминаю. Шел Шаляпин по сцене и пел. В зале сидел Станиславский и хлопал в ладоши. Хлоп – и система. Певец в костюме не столбом стоял, а двигался. Шаляпин-актер вырвал человека из гранита. Взорвал шаблон, где стой себе и пой. Премьерствуй. Бисируй. Развлекай. Услаждай.
– Я в «Современнике» говорил своим: не каботинствовать!
– Елена Юрьевна Миллиоти вспоминала, как вы могли разругать актрису: «Ты каботинка!» Страшное дело!
– У каботинства два определения. Оба явления, ими определяемые, противоправны для мхатовской идеи. Ни странствующий комедиант, ни каботинка – второразрядная актриса, обожающая успех и шум, не совмещаются с идеей МХАТа. Я указывал на это актерам. Иногда кричал на актрис. Театрально и убедительно орал на них: ты каботинка!
– Я прочитала в вашем дневнике: «Великий писатель, ничего не написавший». Вздрогнула. С подобными мечтами расстаться трудно. У вас, кажется, была мечта стать драматургом. Была ведь?
– Была. Но три тетради стихов – и хватит. Читал друзьям. Написал пьесу. Не то. Я хорошо знал себя, но думал, что воспитанием воли смогу добиться улучшений. Мне казалось, что воля может все. Список моих, как тогда говорили, недостатков мне сообщали с самого детства. Я был дерзок, хулиганил, на выпускном курсе ударил Забродину, надерзил педагогу на экзамене, заявив, что мне нравится Хемингуэй. Во МХАТ меня не взяли за Хемингуэя. Я не нравился себе тощим и пил пиво, чтобы увеличить вес, – долго перечислять способы, как я пробовал свой материал на прочность. Я был дерзок и крайне самолюбив. И честолюбив: я хотел построить совершенного человека – себя.
– Анна Дмитриевна понимала вас. Пилила и тревожилась ваша мать постоянно. Ее письмо 1948 года В. Я. Виленкину говорит о грозовых тучах, сошедшихся над вашей головой еще на четвертом курсе. А вовсе не на пятом, когда «его не взяли во МХАТ, как он переживал». Ничего вы не переживали так уж сильно. Вы знали, чем все кончится. Теперь и я знаю, что раздута – не без вашей помощи – легенда про непопадание в труппу в 1949-м. «Фактурно похож на другого актера, и зачем нам два одинаковых артиста?» – сказали-де великие старики-мхатовцы. Суть была хорошо упрятана. Вами же. Гораздо легче идти по советской жизни с мифом о нефактурности как причине ах-какой-беды, чем с политической статьей на шее. Вы потом всю жизнь подогревали версию похож на другого, потому и не взяли.
Любимый педагог Виленкин в то время был у Ефремовых почти что членом семьи. Лиля Толмачева в январском письме из Саратова писала будущему мужу: «Привет от меня твоим маме, папе и Виталию Яковлевичу». Таков состав семьи на 1949 год. Из письма А. Д. Ефремовой Виленкину 22 ноября 1948 года («Художественный театр. Литературная часть»):
«Виталий Яковлевич! Вы меня извините, что я решилась написать Вам. Я в курсе того, какое отношение к Олегу в студии. Хочу в этом письме найти успокоение – поделиться, высказаться.
Получается чисто по-женски. Я ужасно переживаю. Олегу я не хочу показывать виду, ему нужна сейчас моральная поддержка, мы с ним не говорим об этом. Он тоже переживает – у него болит сердце – ночи спит плохо.
Первое обвинение Олегу совершенно правдивое за дисциплину нужно наказывать. Но второе (идейное) это ложь и жестокость. У нас в семье в этом отношении больше чем благополучно. Николай Иванович занимал все время ответственные места, абсолютно проверенный, преданный политически развитой беспартийный большевик. Олег молодой крепкий духом комсомолец никогда не проявлял себя отрицательно – наоборот.
Правда, Олег, как единственный сын, я сознаю, избалован. Он эгоист, самолюбив. Я его болезненно люблю и незаметно для матери воспитались отрицательные стороны характера. Но в то же время он хорошо учился любил и в детстве много читать, занимался во многих кружках Ц.Д. пионеров. Очень серьезно занимался в историческом кружке, после чего у него были прекрасные отношения с руководителем и всегда о нем были хорошие отзывы, как о способном. Избалован он еще и потому, первого сына Юрия я потеряла и когда родился Олег тряслась над ним до 12-ти лет чуть ли за руку неводила неотпускала от себя.
Виталий Яковлевич, дорогой, Вы хорошо искренне относитесь к Олегу – благодарю Вас. Дайте ему советы, поругайте как следует за дисциплину и вообще за все то что у него плохое. Он Вас любит, глубоко уважает – считается с Вами.
Моя к Вам просьба – об этом письме Олегу низвука.
PS Ник. Ив. сейчас нет – Олегу с отцом было бы легче все это переживать».
Ну вот, одной легендой стало меньше. Товарищи современники, которым Олег Николаевич сам рассказывал! Он вами манипулировал с тем же блеском, с каким водил за нос партийных начальников, – чтобы те не мешали ставить спектакли. О. Н. был на десяток голов умнее, чем казалось многим, а главное – все постоянно забывают главное, – что гениальный актер в любой выгородке сыграет вам все, что захочет сыграть он сам, а вы потом всю жизнь будете бегать в счастливой ошпаренности: как он мне доверился! Что он мне сказал в пять часов утра!
* * *
– Человек на сцене – подставке, пьедестале, котурнах, возвышении, волевой, молодой, весь как на ладони, – он всемогущ. А человек на экране – он еще и вездесущ и вечен. Искушение втройне. Кстати, вам говорили, что Церковь осуждает лицедейскую профессию?
– Я ходил в арбатскую студию Дома пионеров к великому педагогу Александре Кудашевой, там все и сложилось. Я рано увидел свой путь.
– Об Александре Георгиевне Кудашевой написано мало. Так ничтожно мало, что в последнем вашем интервью журналистка перепутала ее отчество, а в редакции не поправили. Не сочли нужным или, как всегда, поверили вам, а вы случайно оговорились.
– Вряд ли оговорился я. Александру Георгиевну забыть невозможно. Видимо, редакция. Интервью, о котором вы упоминаете, это самый конец девяностых, а тогда в редакциях уже не было бюро проверки. Отсюда и чушь на каждом шагу.
– Я видела одно письмо Александры Георгиевны к Олегу Николаевичу Ефремову (так на конвертике). Почерк скорый, танцует, стремительный. «Милый Олег? – и тут вместо восклицательного вопросительный знак, потому что рука так пошла. – Завтра экзамен по мастерству IIго курса <…> Сегодня в 8 ч вечера зайди ко мне, а если не сможешь завтра в 11 утра – не позже». И при всем деловом содержании – в конце: «Привет маме, папе».
Одно письмо с живым почерком и стилем Александры Георгиевны – резко, нежно, по-деловому – и принцип открыт, все видно, укол театрального воспитания. Прививка, сделанная пионеру. Навсегда впечаталась в его мир женщина с алмазным характером и глаголами в повелительном наклонении. «Я звонила Саше – не застала, сговорись с ним». Первая учительница мастерства, источник актерской заразы. Судьбоносная женщина. Вовсе не «Три сестры» в исполнении Аллы Тарасовой определили путь ребенка. Ему раньше хвоста накрутили. Тарасова – легенда для ширнармасс. Хотя, конечно, Тарасова знаменитей, народу объяснить легче. А то представьте актерскую биографию будущего главрежа МХАТ: в драмкружке Дома пионеров на Арбате работала женщина, некогда учившаяся у Михаила Чехова – да, того самого, эмигранта-невозвращенца (в 1928 году не вернулся в Россию с гастролей из Германии) – а чему такие дамы могут научить, даже если Михаил Александрович – родной племянник Антона Павловича…
– Я собрала о Кудашевой что могла: все равно сущие крохи. А потом нашла ее записки к вам и поняла, почему сведений так мало. Во-первых, есть люди, не озабоченные своим увековечением. Во-вторых, она была человек жестко дисциплинированный, с умом острым, точным, ясным. Все личное – то есть первое, на чем попадаются, – было сметено. Ученица Михаила Чехова, она умела держать спину. И лицо, и душу, и одежду – тоже. Об одежде Кудашевой вспоминали ученики, что при любом безденежье, включая бедность, она выглядела. В простом платье Александра Георгиевна – выглядела.
– Ну что ж, пора… Знаете, почему она так держала лицо и выглядела в любом наряде? Вы правы: наивная легенда, что я увидел Аллу Тарасову в «Трех сестрах» и побежал навек любить МХАТ, основана лишь на социально-политическом, так сказать, запросе. Мой первый, мой главный педагог Александра Георгиевна Кудашева действительно была великая личность. К концу жизни ей все-таки дали звание заслуженного учителя.
Снова процитируем Е. Б. Рашковского: Александра Георгиевна Кудашева-Тиникова (1891–1971) «происходила из рода князей Кудашевых. Смешанная кровь: русская, татарская, шведская и итальянская. Кудашевы, согласно старой энциклопедии – “русские княжеские роды, происходящие от татарских мурз; один из них восходит к началу XVII в., исповедует доныне магометанскую веру /…/ Другой род К[удашевых] происходит от князя Чепая-мурзы К[удашева], участвовавшего в Московском осадном сидении 1618…” Один из возможных предков Александры Георгиевны – герой Отечественной войны 1812 года князь Николай Данилович Кудашев. Участник Бородинского сражения, один из организаторов партизанских отрядов на территориях, оккупированных Наполеоном; погиб в Битве народов под Лейпцигом. Портрет его кисти Джорджа Доу хранится в Эрмитаже. Это его воинской удали посвящены строчки “Певца во стане русских воинов” Василия Жуковского:
Кудашев скоком через ров
И летом на стремнину…
Конечно же, в советское время бравировать такими вещами было невозможно, даже попросту опасно. О своих родителях она говорила: “оба титулованные”. Но говорила безо всякой гордыни и аффектации, как если бы они были, скажем, шатенами или бухгалтерами».
– Как мне нравится послойно снимать ересь, которой вам годами пришлось укрывать своих близких от анкетирующих глаз – и дружеских, и посторонних. Расколдовать бы всех спящих красавиц… Сначала выбор места для нашей беседы казался мне странноватым. Даже неловким – все-таки кладбище. Но напротив вас – Булгаков, и сейчас я обратила внимание на особенность его главного романа: он достоверен. Сюжет вызывает полное доверие к всемогуществу Воланда. Когда Маргарита крушит квартиру Латунского, когда летит на реку, рискуя, будь она человеком, сломать шею или быть схваченной, читатель ни на миг не входит в опасение: не кончится ли магия? А вдруг Воланд передумает и отпустит незримые вожжи и Маргарита упадет с подоконника или утонет в неведомой реке! Нет, читатель уверен: магия началась – и она не кончится. Воланд не передумает. И почему наш читатель твердо уверен в этом?
– Потому что никакая легенда о чертях не вызывает сомнений у советского человека. Но главное – театр: постановка, в которую черти взяли Маргариту, крепко сколочена великим театралом – Михаилом Афанасьевичем. Он уж знал наш мхатовский мир со всех сторон. А позвольте спросить, как вы хотели начать вашу книгу, пока не догадались спросить обо мне – у меня?
– В виде монолога. Я прочитала ваш архив, и он открыл мне другого человека, не похожего на бронзовый памятник в холле служебного входа в МХТ имени Чехова. Во мне вскипело, как пишут графоманы, страстное желание рассказать правду. Не смейтесь, Олег Николаевич. Я серьезно. Знали б вы, как уклонялись от бесед со мной некоторые ваши друзья и подруги! Одна чуть глаза не выцарапала, при свидетелях. Одним словом, с вами трудно ввиду сверхъестественной, мучительной, ни на миг не утихающей любви к вам одних людей и мстительной ненависти других. Но ненавистники, обиженники – они весьма удобны для получения мемуарной информации.
– Зло сюжетно. Булгаков, мой сосед, отлично знал вопрос. А как он входил в жизнь Театра! Изнутри знал и сатану, и театр. У него свое кредо бесстрашия.
– Шумят! Опять выслушивать придется… Тут один через другого рассказывает о третьем, а я люблю рассказывать то, что видела сама. Но здесь без цитаты никак. Вадим Шверубович, сын Василия Ивановича Качалова, говорит (тоже с чужих слов, но пусть так), что Булгаков ходил по Театру, хотел «порепетировать, поискать, пострадать вместе с актерами и с режиссерами… Прочувствовать себя в этой среде не сбоку, не сверху, не рядом даже, а снизу. Побыть маленьким, “вторым”, “третьим” актером, исполнителем эпизодической роли, чтобы оценить значение одной реплики, очерчивающей в эпизоде образ всей роли». Почему Булгаков любил закулисье, я понимаю. Почему – совсем иначе – его обожает толпа, листающая глянец, тоже понимаю. Звезды, селебрити – суть технология.
– Многие любят закулисье больше, чем авансцену. Тайна творчества манит. Обыватель думает, что ее можно подсмотреть, перенять, стать избранным. Булгаков обывателем не был, но прекрасно понимал душу обывателя, насквозь видел.
– Обыватель видит обывателя кругом, а вежливость понимает как стеснительность. Что было в душе Булгакова, когда он ходил по Театру, мы никогда не узнаем, даже если выучим «Записки покойника» наизусть. Со стороны его видят так: «Интерес же ко всему сценическому у него был горячий, напряженный. Его интересовала и техника постройки оформления, и окраска его, и живопись, и технология перестановок, и освещение. Он с радостным и веселым любопытством всматривался во все, с удовольствием внюхивался в театральные ароматы клея, лака, красок, обгорающего железа электроаппаратуры, сосновой воды и доносящиеся из артистических уборных запахи грима, гуммоза, вазелина и репейного масла. Его привлекали термины и сценические словечки, он повторял про себя, запоминая (записывать, видимо, стеснялся): “послабь”, “натужь”, “заворотная”, “штропка”, “место!” и т. д. Его радовала возможность ходить по сцене, касаться изнанки декораций, откосов, штативов фонарей, шумовых аппаратов – того, что из зала не видно».
– Похоже на мемуары, написанные обо мне близким моим другом. Он уже на Троекуровском. Пишет, что в молодости я был очень хорошим человеком. «Широким, бескорыстным, обаятельным». И что вспоминать меня старым ему иногда не хочется.
– Да-да, он еще рассказал о заштопанных брюках и вашей оттепельной шляпе, намеренно утопленной друзьями в луже, чтобы «он ее никогда больше не надел». Еще там о деньгах, полученных вами за фильм «Первый эшелон» и в сердцах брошенных на теннисный стол, когда друг все никак не мог оторваться от пинг-понга, и вся пачка – огромная – разлетелась по столешнице.
– Поясню свою позицию. Мы не будем называть его имени. Строчка Есенина «большое видится на расстоянье» затерта, как большинство афоризмов, до состояния всеобщей понятности. Удивится же доверчивый тот, кто возьмет да сам прочитает и обнаружит, что после «лица не увидать» в оригинале стоит точка. Потрясение ждет того, кто привык вычерпывать каплю раба ведрами, а тут на тебе – Чехов ничем подобным, оказывается, и сам не занимался, и другим не советовал. Точно так я сейчас вижу прошлое «Современника». Для них это счастливая молодость и веселый лидер, то есть я, которому нравится борьба как таковая. Лидер, к которому они запросто обращаются «Олег» и даже «Аля», фонтанирует идеями. Впоследствии он научится разговаривать с начальниками, свободно матерясь в высоких кабинетах. Он, то есть опять же я, волшебно умеет уговорить кого угодно на что попало, все здорово, все искрится. Но действительный я, не мемуарный через полвека, а настоящий, уже тогда не понимал: я зову друга в ресторан, показал громадную пачку денег, а он играет в настольный теннис и никак не оторвется от стола! Я готов был не только швырнуть пачку на стол – перевернуть стол и весь мир. Мой успех, мой день – и мой друг не идет со мной отмечать гонорар. Кстати, не только друг: он еще и мой студент. А я подобных денег вообще прежде никогда в руках не держал. Мне все это внове. Мой «Первый эшелон» есть и первые большие деньги. Я тогда боялся потерять их, боялся, что украдут. Ощущение первых денег удивительно. Что такое зарплата, я давно знал. Но что кино – это такие деньги! Словом, мне надо было поделиться радостью.
– Ваше самолюбие, в котором лучше вас никто не разбирался, не всегда было видно друзьям или студентам, по крайней мере сразу в глаза не бросалось, а скрытничать вы умели на редкость. Особенно хорошо прятались за улыбкой. Всегда помню, как Виленкин дал вам шутливую телеграмму: береги обаяшку.
– Мой друг и студент, который в 1955-м не мог оторваться от пинг-понга, был принципиальный индивидуалист, только в юности он сам не знал, как это называется. Уже в вашем веке, двадцать первом, его актерские мемуары редактировал один крупный журналист-«младошестидесятник». Так его загадочно назвали и в некрологе 2011 года. Тут наши, конечно, все в гробу перевернулись, потрясенные пояснением, что младошестидесятничество – право, диковина! – предполагает некое тихушничество. В газете так и написали: «Представители его поколения – младошестидесятников – открытому противостоянию предпочитали тихое, даже молчаливое несогласие с официальной точкой зрения, оставляли его при себе».
– Сейчас в прессе мелькают еще и «восьмидесятники». Ждем новых сущностей, но вы лучше скажите: была при вас некая типология шестидесятничества или нет? Или пятидесятничества (не путать с одноименной сектой)? Все-таки «Современник» зародился в пятидесятые. Вы уже потом придумали, что никакой программы не было, одна лишь молодость и талант. Но ведь была программа. Я же читала ее. А вы потом ее скрывали. Выходит, это вы были тихушниками? Зачем привирать, что программы не было? Или было такое, чего не следовало знать даже близким?
– Вы-то с козырями на руках, а они все в 1955-м – дети. Я к «Первому эшелону» уже был и женат, и многое понял, и Станиславского спасал от МХАТа, и легенды про буйное отрочество на Севере сочинял, а им ничего не видно за обаяшкой. Никакого природного обаяния у меня не было. Я его создал.
– Я знаю. Волшебную палочку срезал с волшебного дерева и сам выточил, сам отшлифовал, колдун. Обаяние – технология воздействия, манипуляция. У нее есть тумблер «включить-выключить». В вашем дневнике есть описание любовной сцены: «То ли страсть, то ли сыграл» – рассуждаете вы после любовного акта с Т. Юный-юный. Включил обаяние.
– Мне было нужно средство. Константин Сергеевич требовал от своих манкости. Пришлось нарастить фактуру. Легче всего манкость, скажем так, ложилась на лицо. Пластический грим превращался в маску, а маска прирастала. В кино я отточил все это хозяйство до бритвенной остроты.
– Я видела почти все фильмы с вашим участием, хотя некоторые найти очень трудно. До вашего с Михаилом чтения Чехова – «Моя жизнь», отец и сын Ефремовы работают вместе – тоже добраться нелегко. Но я поговорила с режиссером и сейчас от первого лица поговорю о кино, а вы послушайте, отдохните в первом ряду партера. Кино про Ефремова в кино. Мне тут говорили иные, что гений! или он не играет, а присваивает роль! ему кино – ничто, санаторий! Говорили даже, что артист вы средненький. Однако неутихающая народная любовь – сладкая рябина на коньяке – настоялась все-таки на кино. И крепнет с каждым годом. Поверьте, я уже знаю, что рифмы в судьбах надо читать с превеликим тщанием. Была в России премия «Хрустальная роза Виктора Розова». Я пятнадцать счастливых лет делала авторские программы в прямом радиоэфире – и однажды меня наградили за программу «Современники». Заметьте, моя профессиональная история в 2006 году приблизилась к тому же имени, с которого вы в 1956-м начали свое режиссерское восхождение: драматург Виктор Розов. Случайностей не бывает. У меня есть награда имени Розова за мою авторскую радиопрограмму «Современники». Вижу выражение лица читателя.
– В этом контексте название премьерного спектакля театра «Современник» читается с особым чувством: «Вечно живые».
…Привыкай, читатель: совпадений много. Ты тоже вечности заложник у времени в плену.
Но сначала детство Ефременыша, о котором нигде, ничего, как если бы О. Н. родился сразу на сцене.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!