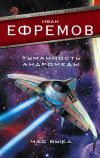Текст книги "Олег Ефремов"
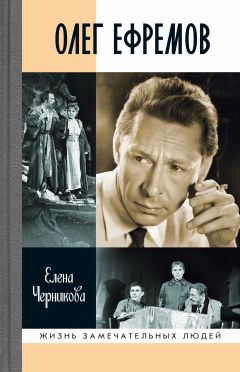
Автор книги: Елена Черникова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Абезь – Москва
Осенью Олег уже в Москве, друзья пишут ему. Характерно послание на двух почтовых открытках 29 сентября 1943 года от друга Виктора Зерщикова из Абези, только что покинутой школьником Ефремовым: «Олег, в Абези все по-старому – скучища ужасная. В клубе ничего нет. А это оглоеды, я им, кажется, все рога посшибаю, на меня что-то шипят и ощерились. Они очень жалеют, что не за…али тебя, особенно Стаська и Марк <…> Олег, давай писать друг другу в неделю раз». И так далее: местные новости – коих практически нет, и дружеские чувства, их выражено много. Еженедельной переписки не вышло, зато 25 января уже 1944 года, собираясь в Москву, тот же друг очень трогательно пишет: «Вот новый год встретили хорошо. А потом в каникулы через каждый день выпивали. Ты-то наверно и не попробовал, ведь в Москве этого нет, да?» Потом друг опять о скуке в Абези, собирается поступить в какой-нибудь московский техникум, добавляя, что «класс у нас не плохой 7 ребят и 2 девчонки» – и что за вторую четверть прогулял 60 часов, «к тому же у нас по литературе учительница с 24 года, представляешь, как у нас проходят уроки?!».
То-то в школьных работах Олега я заметила странные правки, где учительница считает ошибкой то, что написано правильно. В условиях Абези он пишет самостоятельные работы лицейского уровня. Сам ищет что читать – и сам пытается создавать прозу. Он ухитрился в Абези остаться собой и начать самостроительные работы, коими впоследствии занимается регулярно. Делает себя сам. Делает с помощью литературы. Хочет пробраться в словесность, сказать свое. Это протянется еще долго, но начало – военные годы. Его внутреннее состояние, поведение души – как отражение общей деловитости. Слово деловитость никогда прежде не приходило мне в голову при раздумьях о годах Великой Отечественной войны. По фильмам и книгам о периоде 1941–1945 годов проходят подвиг, непрерывное и страшное напряжение сил. А тут школа, там кино и театр, стихи. Дети рождаются. Тяжелая промышленность уже переведена за Урал, работает и дает оружие будущей победы. Олег-подросток – теперь я понимаю его письма сороковых годов – внутри системы, которая на предельном уровне своей мощи бьется с врагом, при этом функционируя всеми своими частями. Эту привычку напрягать силы ради дела, ради победы («если надо – значит надо!» – писал тогда Твардовский, которого знали все) Ефремов впитал в себя. До последних дней СССР он будто не уходил с поля боя. Отстаивал святое, выполняя каждодневную рутинную работу. Сломать его можно было только вместе с системой ценностей.
Виктор Зерщиков в 1944 году поступил в военно-морское училище в Баку, и как же меняется тон его писем! Ушел жаргон, появляются выражения гвардейская рота, дружные ребята, плавсредства, переходы на шлюпках, у меня во взводе ребята мировые, и мы творим дела. Хороший парень этот Виктор. И Олега любит. Пишет ему из Баку, где идет ожесточенная борьба между ребятами за уничтожение двоек. Девушки, увольнения – и танцплощадки, театр. Никак не похож этот друг на участника преступной группировки, а журналисты приписывают Олегу блатных приятелей. Мне говорили, что он сам рассказывал что-то кому-то. Так и случилось: один рассказал, другой по-своему понял, передал третьему, потом покатилось. А я читаю письма, записки, дневники, телеграммы – в оригинале. Архив не привирает. Архиву не до легенд, он беспристрастен.
Олег своему другу был так себе корреспондент, не всегда отвечал, за что в письме от 27 февраля 1945 года был обозван всякими непечатными словами. Там же Виктор строго замечает: «Может быть ты нос задрал с тех пор как стал артистом, но ответить все равно должен». Тут уже вопрос: ведь в Школу-студию Ефремов поступил весной 1945-го, а друг Витя говорит стал артистом (подчеркнуто в письме) еще в феврале. А что стал артистом, это ему, Виктору, известно со слов общих знакомых. Артистом – как это? Возможно, речь о кружке Кудашевой, куда Олег вернулся, снова оказавшись в Москве.
* * *
Уж в чем в чем, а в своей картине мира уверен каждый. Хотела добавить каждый дурак, но тут сосед слева наклонился и вежливо прошептал мне на ухо: «Добрее, добрее надо быть». Хорошо, я постараюсь. Но ведь журналисты-мемуаристы пишут со слов NN, а работать надо с первоисточниками. Работай с чем хочешь, говорит обыденное сознание, укрепленное своей полной ясностью, и тут я узнаю, что картина мира – это крепость, которую не только не сдают, а защищают до последней капли. Если Грозный – то Иван. А если в реальности был не тот Иван, а его дед, а Ивану Васильевичу даже титул поменял историк по фамилии Карамзин? Тут крепость – картина мира – каменеет еще крепче, хозяину крепости становится холодно и неуютно, ибо жить с правильным знанием негде. Перемигнуться не с кем: мы же знаем! А без комьюнити – как? Страшно!
А вот тетрадь по литературе ученика VIII класса Абезьской средней школы наконец открывает ларчик, и там любовь к книжкам, которую невозможно имитировать. Разборы по Грибоедову, Толстому, Гоголю, все выписано тщательно, с цитатами и забавными попытками анализа: «Онегин эгоист, но у него есть хорошие черты. Он гуманный человек». Прелесть. «Может быть, он и хочет бороться против общества, но не может». А разметка «Мертвых душ» по годам и главам, где когда что происходит, и сейчас сгодилась бы ученикам средних школ как шпаргалка.
16 октября 1943 года школьников поселка Абезь водили на экскурсию в музей им. Дарвина, где вещали о дарвинизме и борьбе за жизнь. Так написано простым карандашом в блокноте, а блокнот с отрывными листками Олег явно взял у отца. Блокнот, скажем так, фирменный. На нем в верхней части каждой страницы напечатано, какое учреждение его выпустило: «НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ПЕЧОРСКОГО ЛАГЕРЯ НКВД СССР. Пос. Абезь Коми АССР».
Документ еще раз подтверждает адрес, где провел время школьник Ефремов. Журналисты перепутали: поселок городского типа Абезь – не Воркута. Изначально деревенька, ставшая поселком городского типа в 1942 году. Место страшно холодное, оно чуть южнее Северного полярного круга. Теперь вообразите себе дисциплину и режим в тех местах в то время (собственно, лагеря там строились с 1932 года). Журналисты придумали подростку Ефремову дружбу с воркутинскими уголовниками и начало в связи с этим пития и курения. Дружбы не было, а вот жесткие ситуации были – куда от них деваться, когда вокруг царят лагерные нравы? Вследствие одной из них его избили за отказ пойти на дело, то есть залезть в форточку. Отказ имел последствия для глаза, от травмы возникла угроза отслойки сетчатки ablatio retinae, долечиваться пришлось в Москве.
* * *
25 ноября 1943 года Олег уже в столице. Начинаются попытки литературы, пишется рассказ. Названия нет, но если было бы – то «О любви». С отчетливой аллюзией на Чехова: «Он увидел ее на бульваре. Она сидела напротив его на скамейке. Он тоже сидел на скамье и читал. И тут на минуту подняв голову от книжки он увидел ее… И вдруг сразу что-то перевернулось у него внутри. Сильнее забилось сердце. На душе стало мучительно приятно. Все его чувства обострились, заволновались, спутались. Мозг усиленно заработал, но без всякого толка, перескакивая с одной мысли на другую. В этих мыслях не было ничего грязного, злого. Тут были и радость, и грусть, и какое-то вдохновение, как бывает, когда слушаешь некоторые трогательные хватающие за душу мелодии». И так далее.
Действительно программа. Первая любовь программирует душу и событийный ряд. «Она казалась ему воплощением всего красивого, хорошего, чистого. Он любовался ею». Он лиричен и романтичен, скажем прямо. «Он знал, что она умна, добра, искренна». Автобиографический портрет. «Всегда рассудительный, он теперь не мог анализировать свои чувства». Еще десять строк о том, как он меняется, глядя на свой идеал. Дальше великое сценарное вдруг: «И вдруг к ней подошел юноша. И она ушла вместе с ним. Трудно было бы без сожаления смотреть на это лицо, если бы кто-нибудь посмотрел на него в эту минуту». Дальше герой плачет и глядит в одну точку «перед собой».
И все ясно. Чехов понемногу прорастает сквозь Ефремова – автор будущих постановок не понимает сначала, кто его духовный брат по несчастью, а потом понимает. Между Ефремовым и Чеховым связь как между агностиками, жаждущими веры – хотя бы в человека, поскольку с Богом у обоих отношения туманные, хотя оба крещены, оба покоятся на Новодевичьем кладбище, их могилы рядом, чуть наискосок. Прямо спина к спине, как можно сказать о Станиславском и Чехове: как стояли в своей вере театрально-драматургической, так и спят на погосте. Ефремов тоже покоится близ Чехова, о чем как задумаешься – и легче переживаешь высказывания ныне здравствующих современников. Бог им судья. Один о соседстве могил Станиславского и Ефремова сказал на похоронах последнего, что им есть о чем поговорить.
– Мейерхольд тоже пытался стать литератором. Писал и прозу, и стихи. Он чувствовал себя Треплевым. «Чайка» будто о нем.
– Олег! Я называю вас в этой главе Олегом, без отчества, потому что в сороковых ты/вы еще пацан, ничего? Пока мы доберемся до Школы-студии МХАТ, куда ты/вы поступил/и в 1945-м, я лопну от любопытства. Вопрос огромный. Он о дневниках. Они начнутся в 1946-м. Прочитав эти дневники, я похудела на одиннадцать килограммов. Вопрос-вопль: хочу или не хочу, но я думаю о возможном читателе на предмет поймут ли меня. И это в цифровую эпоху, когда уничтожить файл – дело двух секунд. Думал ли Олег, сочиняя «Дневники», о будущем читателе? Может ли человек, актерствующий от природы, не думать о зрителе? Зачем он пишет столько правды? Да еще в 1948 году, когда послевоенная страна только-только встает и бумаги так мало, что на школьной тетрадке в 12 листов стоит цена (18 копеек), а рядом грозный запрет продажи по цене, превышающей указанную? Зачем он описывает свои муки так некрасиво? Такие неэстетичные, такие зверские. Ударил Татьяну Забродину, в которую был влюблен, постоянно называет ее блядью, убогой, пошлой, радуется, что не женился… Кстати, как дневниковые тетрадки оказались у твоего отца, у Николая Ивановича? Как потом они попали в архив, я знаю. Но в 1946-м, начиная дневник, подросток Олежка еще не знает, что по окончании Школы-студии МХАТ не будет работать в великом и вожделенном Театре, а пойдет в Центральный детский, играть Иванушку в «Коньке-Горбунке». Еще раз: мог ли Олег сороковых совсем не рассчитывать на условную меня, которая будет читать его дневник в Год театра в России, то есть в 2019-м? Думаю, не мог. Слишком подробно. Слишком важно. Олег на читателя рассчитывал, иначе уничтожил бы весь ящик. Олег! Что слышно будущему главрежу Художественного театра в сороковых годах ХХ века?
– Дневник был начат для воспитания воли. Самый близкий мне человек, то есть я сам, рассказывал мне обо мне, и мы, как выяснилось, не всегда были готовы к близости. Записывать каждый день каждый свой шаг – любой, кто хоть раз пробовал, знает, что это такое. Выдержит – проснется новым человеком. Я знал, что мне предстоят испытания. А что до читателя и рассчитывал ли я на публику… Да. Хотя на овации, как вы понимаете, тут рассчитывать не приходится. Не стоит публиковать мой дневник как целое. Обойдемся краткими извлечениями.
* * *
Антоша Чехонте как начальная стадия Антона Павловича появился в поле зрения О. Н. в 9-м классе школы № 59 в октябре 1944-го. Олег исследует переход от Антоши к Антону в сочинении «Мои мысли по поводу прочитанного». А вот тут уже горячо. Он берет четыре рассказа Антоши Чехонте («Маска», «Грач», «Размазня», «Предложение») и рубит: «Замазывая свою настоящую фамилию и прикрываясь Антошей Чехонте, он и в своих рассказах замазывает, маскирует свои настоящие мысли маской веселого смеха». Так начинается интерпретация-чеховиана Ефремова. Замазывает настоящие мысли!
«Любая биография – это вымысел, который, тем не менее, должен быть увязан с документальными данными», – пишет Дональд Рейфилд, автор биографии Чехова. И подчеркивает, что жизнь Чехова, захватывающе интересная, питала его прозу. «Однако Чехов столь же доступен, сколь и неуловим». Он не навязывает выводов, утверждает биограф. Возможно, именно невысказанность его философии (какой?) делает его самой привлекательной для режиссеров всего мира. С другой стороны, например, Лев Шестов в работе с говорящим названием «Творчество из ничего» называет эту неуловимую философию: «Чтобы в двух словах определить его тенденцию, я скажу: Чехов был певцом безнадежности».
Столь же полярны суждения о творчестве Ефремова-режиссера, всю жизнь думавшего о Чехове и все его пьесы поставившего. Точно так же «Чайка» названа и провальной, и гениальной, и решать о правоте того или иного подхода как-то даже нелепо: все трагически правы – каждый по-своему. Ефремов до ужаса двойствен, и потому критика, отведенная ему судьбой, в совокупности производит одуряющее впечатление. Если положить парные статьи рядом и убрать фамилию героя, порой не догадаешься, что речь об одном и том же спектакле одного и того же постановщика. Оттого и труд биографа сводится порой к попытке сохранить рассудок, и чтение личных записей Ефремова, писем и даже депутатских запросов превращается в роман о жизни – нет, не героя, а автора-биографа. Я будто смотрела десяток разных фильмов, где играют несколько артистов, отдаленно похожих на Олега Николаевича.
…Газеты всегда писали о мхатовских событиях. В 1944 году, как обычно, награждают значком «Чайка» ветеранов:
«27 октября – день основания Московского Художественного театра. Вчера исполнилась 46-я годовщина его славной творческой жизни. Дата эта по традиции была отмечена общим собранием труппы и технического персонала. Собрание открыл директор-распорядитель театра В. Месхетели, предоставив слово народной артистке СССР О. Л. Книппер-Чеховой.
– Особенно приятно, – говорит О. Л. Книппер-Чехова, – что мы справляем свой ежегодный мхатовский праздник в разгар энергичной, интересной, разнообразной работы…
Она подчеркивает, что победы нашей Красной Армии наполняют труд особенным и небывалым смыслом».
Затем О. Л. горячо поздравляет новых «чаечников»: артистов, прослуживших в театре 15 лет, и технических работников, проработавших 25 лет и тем заслуживших вручение им значка «Чайка». Следует перечисление фамилий и званий.
Незадолго до этого, 4 октября, в 9-м классе «Б» писали сочинение. Олег написал: «Все притихло, как будто ожидало чего-то небывалого. Куда девались эти птицы, которые так резво порхали и пели солнышку?» Далее описание – живое и наглядное – приближения бури. И оценка отлично. Несмотря на ошибки (которых, кстати, ученик не делает: учительница сама ошибается, когда подчеркивает). Я иногда удивлялась, как он умудрился вырасти грамотным. Редко делал грамматические ошибки. По моей версии, он учился грамоте по художественным книгам, а там по части орфографии все было как надо, корректоры работали прекрасно.
Ноябрь 1944-го. Тетрадь по геометрии. Можно подумать, что этот школьник метил в геометры. Красиво, точно, с углубленным и заинтересованным пониманием предмета. Та же ситуация с алгеброй и тригонометрией. Время военное, пишет на плохой бумаге простым карандашом, но всё на месте. Дано, доказать, найти, ответ. Размечено, как впоследствии – мизансцены. Четкий ум, от природы способный к постижению общего через детали. С физикой и химией у подростка Олега Ефремова тоже не было проблем. Почему-то именно на уроках химии он еще и рисовал. И фамилию обводил орнаментами, и роспись репетировал – на промокашке.
Тетрадь по математике потрясает порядком, симметрией – всё простым карандашом, ровные линейки, очень взрослый почерк, везде одинаковый нажим – и вдруг с очень сильным нажимом и выделением, и подчеркнуто волнистой, и точка в конце – НЕРАВЕНСТВА – будто это слово чем-то поразило ученика. Оно так свежо выглядит, будто написано вчера, а не в 1944 году.
30 ноября писали («пять» за содержание) – не знаю, как это называлось на школьном диалекте – сочинение, изложение – вряд ли эссе, но озаглавлено витиевато: «Мои мысли по поводу рассказа о Зобаре и Радде (мысли, замечания, соображения, выводы, чувства)» (решится ли сегодняшний ученик, сосредоточенный на ЕГЭ, написать мои мысли?).
«В груди какой-то комок волнения. Мысли перепутались. Их много, и не знаешь, какие из них лучшие, наиболее красивые, главные. Чувства тоже смешались, а это хорошо. Когда они обострены, смешаны, то лучше дышится; все тебе кажется прекрасным, хорошим. В таком состоянии не хочется видеть жизнь в ее настоящем облике, не хочется замечать ее плохие стороны, не хочется ни с кем спорить, ругаться. (Это уже треть страницы, а до Зобара и Радды еще не дошло. – Е. Ч.)
В таком состоянии хочется мечтать, хочется приподняться над всеми, улыбнуться всем, зажечь всех огнем какой-нибудь идеи, хочется быть таким, как Лойко Зобар, таким же сильным душой и телом, таким же красивым, как и он.
А еще почему-то хочется плакать. И этот комок волнения в груди растет, давит на сердце (это надписано и вставлено. – Е. Ч.), хочет вырваться наружу, а это значит, что хочется сделать что-нибудь особенное, излить в это всю силу своего сердца и души, всю энергию…»
Еще тетрадь по химии – ну прелесть. Автору скучно жуть как. Обложка разрисована. Но задачи решены, щелочи и кислоты благополучно слились и дали воду. Внутри тетради по химии – листок с разбором «Фауста»: уже похоже на режиссерский план.
«Потому что люблю…»
7 мая 1945 года дорогим Коле и Ане из Куйбышева пишет Вера Ивановна Ефремова: молоко уже 20–25 рублей, жизнь стала дешевле, Костя все болеет то сердцем, то головой, мясо 10–150, рыбы появилось очень много… Будто не было войны. Человек силен духом. До Победы два дня, скоро заживем, как прежде…
– Вы поступите в Школу-студию сразу. Страна ликует, Победа, и в Камергерский выстраивается очередь – человек так в пятьсот на место. Поколение выживших юнцов и юниц рвануло в артисты.
– Ты не забудь главного: авторитет МХАТа – заоблачный. Быть артистом почетно. Артисты – лица народа. В его самом красивом проявлении. Мы все – патриоты, у нас миссия. Победный 1945-й в этом смысле не отличался от трагичного и переломного 1943-го, когда в газетах – например, «Литература и искусство» – в разгар боев печатается стихотворение «Казачья» в переводе с украинского Натальи Кончаловской, жены Сергея Михалкова. Автор стихотворения – Михайло Стельмах. Помню четверостишие:
Уже гудит над миром звон расплаты,
Восстали из могил тела распятых,
Сожженных пепел понесли ветра.
О, сабля наша, послужи нам свято.
Веди вперед, подруга и сестра!
Уже гудит – это всеобщее настроение, состояние, мы все горим служить Родине. Рядом со стихотворением – заметка «Создадим книги о героях-танкистах». И хорошо! И создадим. Когда мы в 1956-м поставим пьесу Розова о войне, то никто не удивится, что написана она тоже в 1943-м, в том самом году, когда до Победы еще далеко – но никто ни секунды! – в ней не сомневается.
В Школу-студию МХАТ Олег поступил в победном мае 1945-го. Лет через тридцать на новогоднем капустнике коллеги-артисты предложат переименовать русский город Ефремов в Ефремоволегниколаевич. Но до капустника, исполненного пиетета, юмора и всенародной… нет, всеактерской любви еще долго и далеко. Учиться, учиться – и так миллион раз. Кстати, знаменитая фраза Ленина, оборванная молвой до заклинания учиться, учиться, учиться – в статье «Лучше меньше, да лучше» выглядит так:
«Нам надо во что бы то ни стало поставить себе задачей для обновления нашего госаппарата: во-первых – учиться, во-вторых – учиться и в-третьих – учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом».
Хроника болезни вождя говорит, что в 1923-м он уже не писал, но еще диктовал, но эту ли статью – тоже вопрос. Легенда, однако. Я за справедливость. Говорил ли Галилей: «И все-таки она вертится»? Нет. Но он жил? Был? Да. Ленин был? Да. Волевой человек? Как ледокол, названный его именем? Вряд ли у ледоколов есть воля. Но мемуаристы и о Ленине, и о Ефремове дружно пишут: борец! танк! Ну хорошо. Если обойтись целеустремленностью, то о чем это?
Гений цели Ленин вызывал у юного Ефремова сильные чувства, казался ему образцом волевого человека. Другого Ленина комсомольцы не знали. Собственно, до сего дня мы весьма смутно представляем себе его – несмотря на десятки километров книжных полок и тонны архивных документов. Закрывая тему о том, сколько раз нужно учиться, напомню, что фраза ушла в люди в редакции Сталина, который в 1928 году сократил длинную мысль Ленина и приложил к другой теме, а было это на съезде комсомола. Та же история вышла с огромным количеством общеизвестных фраз, которых их мнимые авторы никогда не произносили.
Тема Ленина важна, поскольку несколько спектаклей будущего режиссера – его страстная попытка понять революцию, объяснить трагедию народа, показать несправедливость и найти ее причины – неизбежно приводят нас к Ленину. И дело не в «датских спектаклях» (к юбилейным датам), как называли эту работу иные всепонимающие коллеги, а в никогда не ослабнувшем порыве к правде. (Которой нет одной для всех, и это трагично для сознания, и ничем нельзя помочь.)
Осенью 1945-го уже началось учение – сохранились записи лекций по теме «История русского театра». «Вот она – жизнь!» – думал первокурсник, это видно по почерку: кипучие маленькие буквы, заполняющие все пространство бумажки. Вообще он умел сжимать почерк до невероятного кегля, если можно так сказать о записях перьевой ручкой или карандашом – и везде ровно, всё как по линеечке. Записи по литературе – тоже наклонно-скоростной почерк, без помарок, уверенный – бумаги в стране было мало, писали в копеечных тетрадях в клеточку и на листочках.
– Цитирую вас, Олег Николаевич, в ту пору просто Олег без церемоний, да и впоследствии, для своих, а своих – три театра.
Начинается дневник – тот самый, что до сих пор был недоступен биографам или просто не замечен ими.
1946 (малюсенький блокнотик, исписан весь, вперекид), февраль – март.
«БЛОК-НОТ» (так печатали на обложке), черной ручкой написано 1 и рядом первый, это подчеркнуто. На 4-й обложке цена «1 р.» и «2-й сорт».
«С 12 февраля по 29 марта» – написано его рукой на обороте первой обложки. В скобках указано – «45 дней». Педант.
12 февраля 1946-го (обычно день арабскими, месяц римскими, год – две последние цифры):
«День прошел как в тумане. Волнение в груди. Наверное потому что люблю».
Это самая первая запись в дневнике – и уже про любовь, что весьма характерно.
21 марта:
«Серьезная штука с глазом. Кажется, первый раз об этом пишу. У меня отслоение сетчатки в левом глазу. Очень редкое и страшное явление в моем возрасте».
Впереди операция. Мысль о потере зрения в 19 лет, как вы понимаете, производит сильное впечатление. И хотя отслоение сетчатки в СССР уже тогда успешно лечили, нам достаточно, чтобы, примерив на миг угрозу слепоты, представить себе чувства юного студента театрального вуза. Влюбленного, самолюбивого, чрезвычайно талантливого.
В советские годы воля была в запредельной моде. Даже алкоголиков пытались лечить с помощью воззваний к воле. Юный Олег, на Севере получивший травму глаза, берется за волю. Пишет в дневнике, что воле надо учиться у Ленина. Глаз лечить волей, кажется, еще никому прежде в голову не приходило, но у Ефремова свои отношения с медициной. В будущем он тоже не любил лечиться. То, что у обычных людей называется следить за собой и своим здоровьем, в сферу интересов молодого Олега не попадало. При угрозе левому глазу – каждый день пишет в блок-нот мельчайшими буквами, ровными строчками, чернильной ручкой. Борцу за самодисциплину, к счастью, сделали операцию на глазу, она прошла успешно. Заодно в легких нашли, как он пишет, «кусок извести». Будущая эмфизема, но в 1946-м ему не до того. Курить подросток начал открыто, судя по письму родителям с требованием прислать курева, – в 1943 году. Тайно – много раньше.
В хорошие времена он легко возвращается к самоанализу. Прочитав все его тексты, я научилась понимать по их объему и стилю, сколько реальных бед и радостей вокруг него и внутри. Чем больше опасностей, невзгод – тем меньше письменности. Даже если в тексте дневника буря чувств, это не значит, что автор реально мучается. Показателем беды, трагедии, муки у него является молчание.
«Последняя страничка. Довел до конца свой блокнот-дневник-летопись – все равно как назвать. Были послабления воли. Иногда писал сразу за 2 дня. Один раз даже сразу за 3 кажется. Но на одной из первых страниц я сказал, что я не человек, если не доведу этот блокнот до конца. Довел. Последняя страница. Может быть, не заметны сдвиги: моральные, душевные и пр. Но все-таки они по-моему есть. Они не заметны, но они есть. Сегодня был в театре смотрел “Госпожу министершу”. Изумительный спектакль. Итак (уже родители беснуются, что я не ложусь спать. Я и псих, и хам, и выродок) все-таки воля есть. С благими желаниями и твердой волей буду хорошим человеком» (хорошим зачеркнуто, человеком подчеркнуто).
Блокнот № 2, апрель – октябрь (позже вписан март), в скобках приписка простым карандашом: «С большими пропусками – летние каникулы и больница».
30 марта 1946 года:
«Начинаю новый блокнот. Отрадно чувствовать, что уже один такой блокнот наполнен, исписан. Может быть, там было много повторений, много неискреннего. Оказывается, очень трудно быть искренним с самим собой. Трудно правильно оценить поступок, мысль, чувство. <…> Самолюбие – главное в моем характере. Правда сейчас я уже чувствую достаточные сдвиги у себя в смысле выдержки, внутренней выдержки <…>
Сегодня было интересное мастерство. Приятно погладили по самолюбию: Ляля сказала, что из мальчиков верит в меня более, чем в кого-либо. Был на консультации у профессора <фамилия нрзб.>. Ложусь во вторник. О Марго думал меньше, чем обычно. Провожу взятую на себя принятое решение стараться не любить ее, а если любить, то безболезненно. <…>
Я в восторге от В. П. (Василий Петрович Марков, преподаватель Школы-студии. – Е. Ч.) Я просто влюбился в него. Но если он мне встанет на дороге в отношении Марго, я уйду с дороги, но не без боя. А Марго в него влюбилась, это очевидно. Я в этом все более и более уверяюсь. <…> На ее бы месте я тоже бы влюбился именно в него…»
Соперничество с преподавателем из-за девушки, которая нравится Олегу страстно, приводит его перо к стихам. Они все в отдельных тетрадях, раскаленно-чувственные, наивные до бесформенности, но неподдельные, незаемные.
Олег ищет себя, раскапывает каждый день и постоянно перепроверяет – что получается. Новый всплеск недовольства – и новые задачи. Он постоянно ставит себе задачи: от воспитать волю – до стать писателем. Постоянно наблюдает за сокурсниками, чтобы самому быть лучше: «…понял, что я пустомеля. В буквальном смысле этого слова. Теперь задача стать скрытным».
31 марта 1946 года:
«Делал этюд с Люсей Столповой. Очень способная девушка. Она мне чем-то напоминает себя. Бесшабашность, недисциплинированность наверно. Она в прошлом году, как и я, кончила школу. Совсем еще наивна во многих жизненных вопросах, но умная, наблюдательная. Сделали с ней этюд неплохо. На манерах даже сегодня работал. Вообще я считаю этот предмет бесцельным времяпрепровождением. На истории Западного театра к великому моему стыду – спал. А в это время <нрзб.> читал о Шекспире. Частичку лекции я захватил…» Следует рассуждение о краткости жизни, о полезности, делаемой самим человеком.
В апреле О. Н. лежит в больнице, делают операцию, обещают вторую. Он часто говорит о фурункулах. Растреклятый фурункулез потом вылезет в походе по Руси, предпринятом вместе с другом Геннадием Печниковым. Фурункулы мешали, досаждали, раздражали, с ними путешествовать – сущее наказание. Но, хорошие комсомольцы, они оба пишут всё про народ да как ночевали в стогу и постигали настоящую жизнь. Болеть некогда, говорить о болезнях – вообще дурной тон.
Сейчас в подмосковном городе Долгопрудном есть детская театральная студия имени Печникова. Еще при жизни актера она уже просила дать ей его имя. Геннадий Михайлович прожил 91 год; пока мог, приезжал к детям в Долгопрудный, любил юных актеров и – естественно – рассказывал им, что в начале пятидесятых он с другом Олегом ходил по Руси. Согласно легенде, там и задумали будущий «Современник». Согласно истине, там были пыль, жара, обострение фурункулеза, чтение классики колхозникам (за скромный гонорар), встречи с невиданными персонажами. Все это есть в письмах и дневниках Ефремова.
Когда был задуман театр «Современник»? В принципе – почему бы не поверить легенде, что в том самом походе по Руси. В дневниках Ефремова слово «театр-студия» появляется уже будто готовым. С концепцией, этикой, протестами, целями. Главное – театр есть, и дух его основателей в нем жив по сей день. Но я не люблю оставаться в неведении, это нелепо и способствует мнению, а я не молюсь на мнение.
Я читала красивые истории, включая экзотические: будто Олег сделал театр для Лили, первой жены. Версия для глянцевой прессы: к моменту выхода спектакля «Вечно живые» в 1956-м у Ефремова давно не было семейной жизни с Лилией Толмачевой. В 1957-м у него уже родилась дочь Анастасия в незарегистрированном браке с Ириной Мазурук. Но когда на ровном месте возникает дом – театр – буквально из ниоткуда, из невозможности – чудо будоражит и вызывает вопросы.
Читая дневник похода по Руси в рукописи и нигде не обнаруживая ни слова о каком-либо замысле театра, понимаешь, что два крупных знатока советской мифологии присочинили все потом: а именно – вышли в народ, увидели правду, и давай мечтать о театре. Для отличника Ефремова, знатока марксистско-ленинских конструкций, придумать подобный ход – из народа в народ – не составило бы ни малейшего труда. И не составило, когда уже прославленный лидер прославленного театра раздавал интервью в 60-х. А начала действительного не видел никто.
– В 1947 году дневник продолжается интенсивно, вы пишете себе самому долгое и довольно мучительное послание. Расцвет дневникового творчества пришелся на ваш выпускной период: в 1948 и 1949 годах вы успеваете заполнить по несколько тетрадок, причем нередко пишете об одном и том же в разных блокнотах. Будто опасаетесь забыть это важнейшее время, упустить мгновение.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?