Текст книги "Мальчики да девочки"
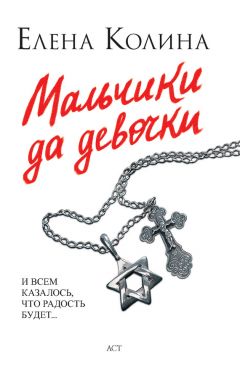
Автор книги: Елена Колина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– Фу, – коротко ответил Леничка.
Как многие студенты Психоневрологического института, Леничка баловался революцией – демонстрации, «Марсельеза», листовки, кружки… Он даже был некоторое время членом партии энесов, – «партия энесов» звучало красиво, как «партия маргаритов», а означало – партия народных социалистов. Но после того как он побывал в тюрьме и увидел своими глазами расстрелы, он стал читать Евангелие, изучать иудаизм и уже не мог думать о революции отдельно от того, что происходило вокруг. Теперь он думал: может ли революция быть ХОРОШО, если красный террор ПЛОХО?.. Расчет в тюремном дворе «девятый, десятый» всегда был с ним, и спокойные слова Лилиного отца «встаньте на мое место» всегда были с ним, и отчего-то все это вместе сложилось в его голове в такую мысль: у человека, ради которого пожертвовали жизнью, есть какое-то ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
– Красный террор продолжается, людей расстреливают, Хитровна…
– НАС же не расстреливают, – возразила Лиля, – никого не арестовывают, кто не выступает против власти… посмотри вокруг, люди пишут стихи, ходят в гости, ПРОСТО ЖИВУТ…
– В тебе нет никакого интереса к политике, – возмутился Леничка.
– Нет… – эхом отозвалась Лиля.
– Ты живешь как будто у тебя вообще нет никакой идеологии, у тебя нет даже личного отношения к политическим событиям!
– Нет…
Леничка часто думал: как она может не ненавидеть? У нее был такой огромный счет к большевикам – расстрелянный отец, богатство, имение, знатность… Впрочем, ответ был ему известен: у нее был такой огромный счет к большевикам, что вздумай она его предъявить, она потонула бы в ненависти. А она не хотела ненавидеть, не хотела тонуть, и у нее действительно не было никакой идеологии – ее идеология состояла в том, чтобы поступить в студию балета…
– О чем с тобой можно говорить, – махнул рукой Леничка и говорил еще долго, не то Лиле, не то себе самому – о роли евреев в революции, о том, что участие евреев-революционеров в терроре большевиков – это готовая почва для антисемитизма. – И тут вот какая штука: русские чекисты совершают преступление только перед русским народом, а евреи-чекисты совершают двойное преступление – перед русским и перед еврейским народом. По евреям-чекистам будут судить о нашем несчастном страдающем народе, будут противопоставлять имена евреев, любивших Россию, именам евреев, которые не имеют настоящих корней в нашем народе. Евреям этого не забудут, и пострадают все. И ты тоже, Хитровна, не забудь, ты ведь тоже еврейка.
– Но ведь всем понятно, что это неправда! – встрепенулась Лиля. Она ничуть не собиралась страдать ни вместе с еврейским народом, ни вместе с русским, ни одна. – Все это не имеет никакого отношения к нам. Мирон Давидович и твой отец стоят в стороне от политики. Ты столько раз слышал, как Мирон Давидович говорит: «Я никаких убеждений не имею, работаю, чтобы прокормить семью». А Дина, кстати, если ты забыл, она не чекист, а учительница… И я уверена, что среди большевиков есть прекрасные люди и среди чекистов тоже есть прекрасные люди! По-моему, ты все преувеличиваешь, устраиваешь трагедию на пустом месте. В переводе с древнегреческого трагедия – это козлиная песнь… вот и думай, кто ты. Скажи, а ты умеешь складывать язык трубочкой? Я умею, показать?
– Я думаю, найдутся люди, которые докажут, что среди евреев есть настоящие патриоты, своей кровью смоют кровь, которой евреи-большевики запятнали свой народ и историю России… – значительно сказал Леничка.
– Какие люди?! Ты глупый мальчишка, сам не знаешь, что болтаешь! Не говори мне этого, слышишь, никогда не говори!.. – бешено сверкая глазами, заорала Лиля. – Господи, ну почему ты не можешь просто жить, и все?! Неужели тебе мало, что мы… что я… ты специально мучаешь меня, пугаешь…
– Хитровна, я не умею складывать язык трубочкой, – примирительно сказал Леничка, – зато умею шевелить ушами. Слышишь, Хитрованище? Могу показать.
– Покажи немедленно, – мгновенно успокоившись, приказала Лиля.
И они принялись демонстрировать друг другу свои физические возможности, – Лиля, кроме языка в трубочку, умела двигать левой бровью, а Леничка умел языком достать до носа и лизнуть его, как ящерица.
– Ох, чуть не забыл, – порывшись в своих бумажных кучах, Леничка вытащил журнал с красочной обложкой и хитро улыбнулся.
– Это мне?.. Vogue?! – округлив глаза, восторженно прошептала Лиля и выхватила журнал из его рук. – От дамы пик?
Дама пик была Леничкина любовница, замужняя дама за тридцать, то есть, по Лилиным понятиям, уже утратившая прелесть молодости. Лиля знала ее только по фотографии, яркая, черноволосая, с крупными чертами лица, – губы, нос, глаза, – дама пик. Даже по фотографии чувствовалось, что от нее исходили волны томности и сладострастия. Дама пик была в Леничку бурно влюблена, навязывала ежедневную переписку, и Леничка то гордился, что вызвал такую страсть, то скрывался, то страдал, что она любит его НЕПРАВИЛЬНО и никто никогда не полюбит его настоящей, не постельной любовью… Иногда Лиле казалось, что дама пик всего лишь фотография, если бы эта фотография не передавала с Леничкой модные журналы, – бог знает, какими путями они попадали к ней в руки…
Лиля впилась глазами в обложку журнала, бормоча, как в забытьи:
– Вечернее платье из панбархата, модель дома «Шанель», серьги из коллекции дома «Дам де Франс»…
– В журнале письмо… На меня опять обрушились страсти, – небрежно сказал Леничка.
Лиля вытащила письмо, пробежалась глазами по крупным буйным строчкам: «Вот уже неделю мы с тобой не сексуальничали… мечтаю о нашей огромной постельной любви… целую куда попало… рыдаю без тебя».
– Ложись ко мне, тебе же холодно, – позвала Лиля.
– С ума сошла?
– Ничего не сошла, ты же не мужчина, ты поэт.
– А ты нахальная девчонка, – Леничка осторожно прилег на край кровати.
– Вот ты говоришь, она хороша в постели, она замечательная любовница… Скажи мне, а что это означает «хороша в постели»? Чем она отличается от других женщин? У тебя же были женщины до нее… Разве не все женщины одинаковы?
– Одни женщины более страстно отвечают, чем другие.
– И это все? Я не понимаю…
– Вырастешь – поймешь, Хитровна.
– А подробнее можешь рассказать?
Леничка рассказал подробнее об эротических фантазиях чужой дамы – намеками, делая вид, что ему ловко об этом говорить, а Лиля делала вид, что ей ловко это слушать.
Они еще немного полежали рядом, два близнеца, стучащие зубами от холода под одним одеялом, и Леничка нежным голосом, как будто рассказывая сказку, начал читать:
Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный чорт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.
Он спасется от черного гнева
Мановением белой руки.
Посмотри: огоньки
Приближаются слева…
Видишь факелы? Видишь дымки?
Это, верно, сама королева…
И Лиля ему полусонно ответила:
Ах, нет, зачем ты дразнишь меня?
Это – адская свита…
Королева – та ходит средь белого дня,
Вся гирляндами роз перевита,
И шлейф ее носит, мечами звеня,
Вздыхающих рыцарей свита.
Вдруг паяц перегнулся за рампу
И кричит: «Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!
На голове моей – картонный шлем!
А в руке – деревянный меч!»
Заплакали девочка и мальчик,
И закрылся веселый балаганчик.[21]21
Цитируется стихотворение Александра Блока «Балаганчик».
[Закрыть]
– Хитрован, как можно писать стихи после этого?
– Если бы все так думали, то никто бы уже больше ничего никогда не написал, и мир бы замер, и… я уже хочу спать, – осторожно ответила Лиля.
Леничка столько раз обсуждал с ней, какие стихи включить в его книжку, в каком порядке должны следовать стихи, как расположить каждое стихотворение на странице, помногу раз перебирал стихи, что-то добавлял, что-то исключал, менял порядок… и при этом ни за что не хотел показать, как это для него важно. Столько раз они это обсуждали вдвоем, что единственное, что ей сейчас оставалось, это сбежать. Поэтому она вылезла из Леничкиной кровати, захватив с собой журнал Vogue и покрывало, закуталась в него, как привидение, и улетела.
Если бы Лиле, ловительнице влюбленных душ где попало, такой опытной в любовных делах… нет, все-таки не опытной, а начитанной в любовных делах, сказали: вот же она, любовь, ты лежишь в ее кровати под ее одеялом, – Лиля ответила бы «ах, ерунда». Она бы ни за что не поверила, что Леничка влюблен, скрытно, мучительно, как все, что он делал, – влюблен в нее, а не в чужую замужнюю даму, а вся эта неприличная публичность, весь этот обнародованный пафос романа с замужней дамой, обсуждение дамских эротических фантазий, совместное прочтение бедных страстных писем – всего лишь надежда вызвать ее ревность. Он, такой взрослый, весь изломанный, сложный, всегда немного театральный, не стал бы так по-детски себя вести. А Леничка и сам не мог выделить из последнего времени, когда он понял, что любит Лилю, он думал – она в него влюбится, как героиня романа Джейн Остин сиротка Фанни в своего взрослого опекающего ее кузена, а вышло наоборот: он – да, а она – нет. У нее были невероятные зеленые глазища, тончайшая щиколотка и запястья как у породистой лошадки…
Лиля злилась: ничего не понятно про людей, абсолютно ничего… Семья Белоцерковских была по духу и укладу совершенно европейской, Леничка был крещенный, и Илья Маркович был крещеный. В доме об этом никогда не говорили, – неужели это и есть их страшная семейная тайна? Но отчего же крещеный в православие Леничка чувствовал себя прежде всего евреем, почему для него этот вопрос такой болезненный? Из упрямства, вот почему! А на самом деле вся его горячность надуманная, и все эти его размышления – только предлог, как будто ему все равно от чего возбуждаться и что переживать! Нацепил на себя маску страдальца и сам не знает, что у него маска, а что лицо! Не знает, где настоящая жизнь, а где им самим придуманный сюжет, и хочет приписать себе в этом сюжете трагическую роль, потому что так ему интересно и красиво! К чему делать себя несчастным, к чему думать о каких-то абстрактных вещах, мучить себя и пугать ее – все это лишь одно упрямство и вредность…
…Ничего не понятно про людей – если не знать всей сложности происхождения и воспитания… но ведь все это ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ. Прошлогодний снег, который вдруг начинает таять, и под ним обнаруживается свежая проросшая трава.
Глава 4. Прошлогодний снег
Илья Маркович Белоцерковский приехал в Санкт-Петербург из Белой Церкви, уездного города в восьмидесяти километрах от Киева. Название города произошло от белокаменной юрьевской церкви, а от названия города произошла фамилия, красивая и на первый взгляд вполне русская, и даже созвучная дворянским «Белосельские, Белозерские», но на самом деле русские эту фамилию не носили, а получали ее живущие в Белой Церкви евреи.
В жизни евреев Белой Церкви очень важным было понятие ихес – благородство происхождения. Ихес определялся либо по учености, либо по благосостоянию, и семья Белоцерковских была очень важной и значительной – дед Ильи, раввин, был ихес по учености, а прабабка была ихес по благосостоянию. А вот сын их Маркус, будущий отец Ильи, выбрал занятие крайне непрестижное, странное и даже постыдное для человека из такой семьи, – к ужасу родных, он стал меламедом, учителем в хедере, начальной религиозной школе.
«Умереть и меламедствовать никогда не опоздаешь» – если уж так звучит еврейская пословица, то понятно: хуже с человеком уже ничего не может случиться, меламед – это та самая крайность, до которой только и может дойти человек в страшной нужде. Отчего же такое жалостно-презрительное отношение к меламедам сложилось в еврейской среде, где каждый отец мечтал о той минуте, когда поведет своего ребенка в хедер получать традиционное религиозное образование? Наверное, оттого, что было это занятие неприбыльным, хлопотливым, и становились меламедами неудачники, непутевые, ни к чему не приспособленные бедолаги…
И тут вдруг такое происходит – сын раввина становится меламедом! Надо сказать, что у раввина было много детей, не только Маркус, но все они были девочки, и он любил всех своих девочек, но у него был один главный ребенок – Маркус.
И все было в семье раввина, все, что положено, когда сын идет против воли отца: обида, горестное непонимание, возмущение – что скажут люди, упреки – позор семьи, плевок в лицо родителям, мы все для тебя, а ты… Сын раввина – меламед? Это же уму непостижимо!..
Маркус собирал детей по домам, и до позднего вечера, чуть ли не по десять часов в день орава детей кричала и бесновалась в тех же комнатах, где живет его семья. А поздно вечером он разводил детей по домам, наученных, накормленных и набегавшихся. И все это, заметим, за гроши… Зачем?! До разрыва дело не дошло, все ограничилось семейными бурями, но – зачем?! Ради чего Маркус, человек из семьи богатой и ученой, выбрал жизнь в постоянном окружении орущих детей?.. Ради чего стал «позором семьи»?
Но Маркус жил сам как хотел, и никакой «позор семьи» был ему не указ. Маркус, отец Ильи, был человек идеи. А идея его была очень благородная: меламед, считал он, самый нужный человек, самый главный, ведь именно он формирует религиозное мировосприятие детей, именно на него возложена миссия сохранить еврейскую традицию, а значит, сохранить народ. Таков был Маркус – делал, что считал нужным. Подумаешь, непрестижное занятие – он считает, что это так, и все. Отец Ильи был необычным меламедом, и в его хедере было то, чего не было больше нигде, – он обучал детей не только основам религиозного поведения, а еще и письму, математике и языкам, русскому, немецкому и французскому.
Несмотря на меламедство, семья Белоцерковских была и богатой, и ученой, – ведь и бабкино богатство никуда не делось, и ученость была, и хедер Маркуса стал лучшим в городе, и это смягчило ситуацию, все равно они были ихес. Но семья Белоцерковских гордилась не ихес, не ученостью, не состоятельностью, не раввинской кафедрой, не двухэтажным домом, не знаменитым в городе хедером, а своим Элией, Эли, Элишей – сыном меламеда и внуком раввина.
Надо сказать, что у Маркуса была еще дочка Фаина – жена его, мать Элиши и Фаины, рано умерла, поэтому у него было всего двое детей. Но Фаина была девочка. Он очень любил свою девочку, но главным для него был другой ребенок – Элиша.
Судьба Элии Белоцерковского была предначертана: съесть свою долю меда и сладостей, которыми его отец в хедере угощал детей, чтобы показать, как сладко учение Торы, продолжить религиозное образование в следующей по возрасту школе – иешиве, и так пройти положенный ему путь, чтобы усидчивостью, смирением и скромностью прослыть в Белой Церкви превосходным молодым человеком, составить выгодную партию и стать раввином, как дед, – желательно, или лучшим в городе учителем, как отец, – хотя бы.
А вышло все не так.
Элиша был общий любимчик, нравился всем. Так казалось отцу, но это была неправда. Элиша очень нравился своим родителям, а остальным – в меру, им больше нравились их собственные дети. Сынок учителя был славный ребенок, но не он один в хедере был улыбчивым, благонравным, обаятельно непослушным.
Элиша был очень красивый. Так казалось его отцу, но и это была неправда. Илюша был не очень красивый, а просто красивый – невысокий, но ладный, румяный, с глазами-маслинами и резко очерченными губами, как у амура, но не он один в Белой Церкви был похож на еврейского амура.
Элиша был необычайных способностей. А вот это была правда. Дети, а за ними и взрослые называли Элишу «мозг на ножках», и звучало это приблизительно как «супермозг» – иронично, но уважительно.
В хедере всегда стоял гул – такое глухое бу-у-у-у-у… Это не была школа в обычном понимании – когда дети тихо сидят за партами, а учитель у доски пишет «2 + 2 = 4», это было обучение, основанное на повторении, на заучивании Торы, вот они и бубнили, распевали, приговаривали… Дети разного возраста занимались вместе, одни еще учились читать, другие уже изучали отрывки Торы, громко повторяя их вслух с речитативной мелодией на разные голоса.
И вдруг оказалось, что четырехлетний малыш Элиша, который болтался среди ребят, подсаживаясь то к одному, то к другому, ах какой умница, уже умеет читать лучше старших учеников, считает, как счеты, и – удивительно, невообразимо, но – бойко болтает по-русски, по-французски и по-немецки. Ну не вундеркинд ли? Настоящий свой вундеркинд из Белой Церкви!
Маркус был человек резких решений. С той же решительностью, с которой он отказался от предназначенного ему семьей пути, он выбрал для сына другую судьбу. Захотел, чтобы его сын получил не религиозное, а светское образование. Опять гремели бури: дед-раввин опять чуть ли не проклял своего сына. И люди сказали – что за человек этот Маркус, то его в одну крайность кидает, то в другую, и кончится это плохо, вот увидите, так и будет… В общем, все это было странно и даже как-то неприлично для меламеда, но – вот так.
Маркус, человек идеи, объявил себя приверженцем Хаскалы. Российским евреям не разрешалось селиться в крупных городах, жить вне черты оседлости имели право только евреи с университетским образованием и купцы первой гильдии. Но что же делать всем остальным, запертым в черте оседлости, как в тюрьме? Угнетенные евреи черты оседлости должны получить образование, чтобы обеспечить себе и своим семьям лучшую, не такую, как у их предков, бесправную жизнь – это и была идея Хаскалы, движения за просвещение евреев, предполагавшего соединить знание Торы и Талмуда с европейским образованием.
«Тора и образованность, вера и мудрость не противоречат друг другу, чем больше светских познаний у человека, тем глубже его вера», – объяснял Маркус свое решение отправить сына в гимназию, а затем в университет. Было ли это истинным его убеждением или ложью, а на самом деле он просто был влюблен в своего ребенка, заворожен его талантом, – неизвестно. Но мы ведь никогда не знаем, идеи услужливо подстраиваются под нас сами или мы их подстраиваем под себя. Во всяком случае у Маркуса для каждого желания находилась готовая идея – и сын его Элия унаследовал эту черту, и затем сын Элии Леничка.
Итак, пусть мальчик получит образование – к примеру, в Германии. Пусть Элиша станет адвокатом или врачом, лучше адвокатом. Сможет жить, где захочет, – в Петербурге, в Москве, в Киеве…
– Но я вернусь домой, в Белую Церковь? – спрашивал Элиша.
– Ты сможешь жить, где захочешь, – отвечал Маркус. Необязательно жить в Петербурге, или в Москве, или в Киеве, но важно знать, что его сын может там жить – где захочет.
– А ты, тателе?
– А я нет.
– А я без тебя не захочу, – сказал Элиша. Элиша был мягкий, нежный, плюшевый мальчик и больше всего на свете любил своего тателе.
По окончании гимназии Элиша с отцом были все так же близки, и только один секрет был у Элиши от отца – он не только не испытывал к религии интереса, но был уже вполне склонен к тому, чтобы стать атеистом. И неистово любил русскую литературу, весь его душевный мир был соткан из Пушкина, Толстого, Лескова…
Учиться Элия захотел не в Германии, как думал отец, а в Санкт-Петербурге. Маркус немного посердился, но хороший еврейский отец не сердится лишний раз на своего ребенка, и Элия поступил в Санкт-Петербургский университет, на юридический факультет.
– Жид? – спросил Белоцерковского профессор университета на приемных испытаниях.
– Жид, – ответил Элия.
– Тогда будем спрашивать строго, – пригрозил профессор.
Белоцерковский удивил экзаменаторов блестящим цитированием великих римских юристов из Дигестов и Институций Гая, найденных в 1816 году в Вероне, – а ведь он не обязан был УЖЕ знать римское право. Так что Элия не просто попал в процентную норму на иноверцев, а поступил на стипендию, что было большой редкостью для еврейского юноши.
В положенный срок Элия Белоцерковский получил университетский диплом, а вместе с дипломом драгоценное право жить в Санкт-Петербурге.
Он был уже не провинциальный мальчик с еврейским акцентом, а нацеленный на карьеру столичный молодой человек, красивый, умный, завидный жених для какой-нибудь барышни из Белой Церкви или дочки врача из Петербурга, но не для Беллы Каган, дочери купца первой гильдии, в которую он был страстно влюблен. Потому что семья Беллы Каган уже нашла ей сколько угодно женихов из своей среды – из петербургской богатой еврейской среды. А не какого-то там Элию, бедного еврея из Белой Церкви!..
Любимая девушка Элии была названа именем модным и красивым, как будто ее с самого рождения хотели украсить – Белла означает «красивая», – и имела в семье прозвище Белла Бешеная. Где в этой крошечной, похожей на фарфорового ангелочка девушке помещалось столько своеволия, смеха, слез, криков, поцелуев и скандалов – загадка, но она держала в своем кукольном кулачке всех – родных, прислугу, потенциальных женихов и всех, с кем ее хоть на мгновенье сводила судьба.
Белла желала получить от жизни все, и в это «все» входил красавец Белоцерковский. Нельзя сказать, что она вышла замуж за Белоцерковского против воли семьи, – не было у семьи на нее никакой воли. Вся воля была у Беллы.
Белла принесла мужу в приданое два дома на Кирочной и, конечно, деньги. Элия принес жене свой диплом юриста и какое-то невероятное, даже болезненное обожание, – он любил ее как свою первую женщину, как свою последнюю женщину, как единственную женщину в мире, как произведение искусства, как все самое прекрасное на свете. Элия был убежден, что в их любви с Беллой присутствует Бог, и ежедневно благодарил Творца за совершенство, которое он создал в образе Беллы. Что это было – первая любовь, эротическая очарованность, привязанность одинокого в столице провинциального мальчика, настоящее большое чувство?
Маркус, приехавший в Петербург познакомиться с невесткой, отнесся к ней с холодным неодобрением, уж слишком она была столичная, новомодная и обрусевшая, не говорила на идиш, а только по-русски и по-французски, не зажигала субботние свечи, не… не… не… В Талмуде сказано: создать по-настоящему счастливый брак для Господа не легче, чем заставить расступиться Красное море, и Маркус совсем не был уверен, что Белла – это как раз тот случай, когда Красное море расступится…
Не понравилась. Впрочем, и Маркус Белле не понравился, уж слишком он страстно любил своего сына, слишком был из другой жизни, религиозный, местечковый, из прошлого века – в общем, старье.
Элия Белоцерковский начал службу помощником присяжного поверенного, и заработки его были совершенно ничтожны. Приданое Беллы позволяло им ни в чем себе не отказывать, но Элия старался не тратить ничего, что не заработано лично им, иначе говоря, не тратил на себя почти ничего. Однако настроение его было радужным – благодаря трудолюбию и способностям очень скоро он войдет в коллегию адвокатов, а став присяжным поверенным, сделает карьеру, и у него будут интересные дела, и хорошие заработки, и все у него будет…
Но это было не самое удачное для юридической карьеры время. В начале 20 века среди петербургских присяжных поверенных было двадцать процентов евреев – каждый пятый. Это получилось как-то незаметно для властей, но когда власти ознакомились со статистикой, они пришли в ужас и решили: каждый пятый – это все же перебор! И тогда евреев стали принимать в ряды присяжных поверенных только с особого разрешения министра юстиции. Но что означало «особое разрешение министра юстиции» для конкретного Элии Белоцерковского?.. В реальности для евреев это означало «нет!», и для Элии Белоцерковского это означало запрет, как теперь говорят, запрет на профессию.
Спустя некоторое время Сенат опять разрешил евреям вступать в коллегию адвокатов, и Элия в очередной раз подал прошение в коллегию, но тут последовал новый законодательный акт, в котором уточнялось процентное ограничение для евреев… Все это означало «да, можно», но «нет, нельзя»… Белоцерковскому ответили, что квота для лиц иудейского вероисповедания исчерпана и вакансий нет. Все это длилось не один год, и было как будто вас посадили на лошадку на карусели и запускают то в одну сторону, то в другую, и вы уже не понимаете, куда вы едете и едете ли куда-нибудь, а просто ужасно кружится голова и мутит…
И Белла… не то чтобы она пошло требовала денег, но все же удивленно и немного разочарованно смотрела взглядом «другие же как-то устраиваются…». Она по-прежнему была очень открыта к любви, была страстной, ласковой, нежной, но… что-то такое проскальзывало чуть снисходительное. Тяжело, когда ты не виноват, а как будто виноват, тем более если все больше влюбляешься в собственную жену.
Оказалось, что это нечеловечески прекрасное существо способно забеременеть и родить, как обычная женщина. В метрическом свидетельстве, выданном петербургским раввином 15 сентября 1902 года, было записано: «Дано сие в том, что у Элии Белоцерковского и законной жены его Беллы родился сын Леонид». В примечании стояло: «обрезание не было учинено». Белоцерковский полюбил малыша Леничку – не так, конечно, как Беллу, но полюбил.
Вдруг – это было совсем неожиданно!.. – поползли слухи, что в Москве и Санкт-Петербурге полиция стала выселять жен евреев с высшим образованием, если их мужья на время уезжали из города. Правил было так много, они были так неопределенны, что давали множество возможностей для излишнего рвения, толковать их можно было как хочется, но на самом деле среди многочисленных циркуляров существовал и такой: жены и вдовы евреев, имеющих право повсеместного жительства по образовательному цензу, не могут жить за пределами черты оседлости отдельно от мужей. Проще говоря, если Элия уедет в Белую Церковь навестить отца, то к Белле – столичной барышне может прийти околоточный надзиратель, многозначительно и недобро посмотреть на ее неугодный паспорт и сказать: «У вас проблемы…»
– Да, пусть это были всего лишь случаи, но вдруг?! – говорила Белла. Она не хотела бы стать СЛУЧАЕМ…
Невыносимо было даже на секунду представить, что Беллу могут обидеть. И все это копилось и накопилось, и было так унизительно, что Белоцерковский подумал – всего лишь подумал: я устал, может быть, мне перейти в православие? Или в лютеранство – тогда не придется иметь дело с обрядами?.. Или все-таки в православие?..
И что-то такое написал отцу, всего лишь написал, в форме вопроса, или размышления, или просто стона… Бывает, что самый умный человек совершает странную ошибку, так бывает, когда что-то настолько нам очевидно, настолько понятно, что это не особенно занимает наши мысли. Давно уже погруженный в русскую культуру, равнодушный к религии, считающий себя атеистом, Белоцерковский искренне полагал, что отец, такой умный, прогрессивный, прошел весь его путь вместе с ним и сможет понять, что его давно не интересует иудаизм, как и любая другая религия…
Отец ответил одним словом – предатель.
Элия взывал из Санкт-Петербурга в Белую Церковь: я же просто написал, я же просто подумал, я же… ну пойми же, пойми, это не предательство, нельзя предать то, во что не веришь, это прагматический шаг, логичный поступок, какая разница, какой Бог, если не веришь… И, наконец, сердитое: все эти религиозные страсти остались в прошлом, а они с Беллой – современные люди, и главное – он, Белоцерковский, считает себя российским интеллигентом, а не религиозным евреем.
…Элия, как и его отец Маркус, умел ловко подстраивать под себя нужные идеи, и скоро знакомый священник, с которым Белоцерковский на даче в Гатчине вечерами играл в шахматы, окрестил его и Беллу в гатчинской церкви Покрова Святой Богородицы, и Элия стал Ильей и отчество получил Маркович.
А в синагоге Белой Церкви раввин отслужил по отступнику Элии Белоцерковскому как по покойному, прочитал кадеш – поминальную молитву, – таково предписание Талмуда. Отступник Илья Маркович Белоцерковский не считался больше живым. «Но ведь есть и противоположный комментарий Талмуда, – упорствовал в письмах Илья. – Как бы еврей ни менял веру, он все равно останется евреем». Но отец не отвечал на его письма… все, это было все.
…Ну, это болело, кровило, а потом затянулось, как любая рана, только слово «предатель» еще долго мучило, обжигало, а потом и это прошло.
Илья не перестал писать отцу письма, писал, как и прежде, – каждый месяц. Он никогда не думал о религии, ни о той, ни о другой, а справку о причастии ему давал тот самый знакомый священник из Гатчины, с которым он играл в шахматы, – без справки в одном из учреждений, где он числился консультантом, не выплачивали жалованье.
Илья Маркович Белоцерковский стал присяжным поверенным, членом коллегии адвокатов, имел право на ведение как гражданских, так и уголовных дел. И заработки его стали хороши, потому что адвокат он был хороший. Так что все в его жизни удалось – и карьера, и любовь, и семья.
Белла хотела яркой жизни, и вместо того чтобы нянчить ребенка и дальше выполнять заповедь Торы – «плодитесь и размножайтесь», она принялась получать от жизни все: она же не какая-нибудь местечковая клуша – мужняя жена с выводком детей, а современная женщина с духовными потребностями, «думающая девушка», «читающая дама».
Белла увлекалась всем, чем было возможно увлечься, и ни одна модная идея века не прошла мимо нее. У нее были духовные искания, религиозные и мистические настроения, увлечения то декадентами, то символистами, она была членом самых разных кружков и даже кружка по изучению эротических фантазий в современной литературе (было и такое), а в применение на практике эротических фантазий вовлекала мужа. Элия относился к мистике насмешливо, к эротическим фантазиям – насмешливо-одобрительно, а к Белле в ее шелках, кружевах и перьях – с неувядаемой, будто хранившейся в леднике, любовью.
– Где ты был, попугайчик? – поздно вечером спрашивал жену Белоцерковский. – Ты еще помнишь, что у тебя есть муж?
Белла помнила. Запудренная до смертельной бледности, в бархатном балахоне и повязке принимала участие в «Обществе свободной эстетики», в браслетах и бусах танцевала босиком и ни на секунду не забывала, что она особенная, утонченная. Правда, настоящая, живая Белла все время выплескивалась из модного образа – ее жизнерадостность, здоровая эротичность и жизненная сила не могли долго находиться под маской унылой изможденности.
Белла бывала в «Бродячей собаке», там встречалась художественная элита Петербурга, – встречалась с собой, а не с Беллой, но для нее, жены преуспевающего адвоката, самым заманчивым было небрежно обронить: «Была вчера в „Бродячей собаке“…» Потом Белла чуть было не стала завсегдатаем кабаре «Приют комедиантов», но вовремя поняла, что это – не то. Не самое модное, не самое артистическое, не самое богемное – не то. А Белла хотела от жизни самое-самое.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































