Текст книги "Мальчики да девочки"
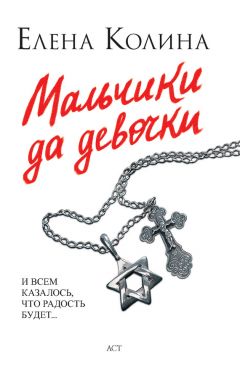
Автор книги: Елена Колина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Над Асей Леничка посмеивался, а над Диной смеялся – не зло, но громко. Называл ее «слуга царю, отец солдатам». Слишком уж они были разные – эстет, любитель Бодлера и Верлена, весь свой, личный, закрытый, и вся общественная, вся наружу Дина.
Но ведь Дину грех было не подразнить, она постоянно давала поводы для насмешек, она вроде бы и читала много, и училась хорошо, но почему-то вечно все путала – слова, имена, названия. Однажды с размаху перепутала трех Толстых, утверждая, что Толстой написал «Войну и мир», «Хромого барина» и «Князя Серебряного»…
Леничка смеялся, Дина дулась, рыдала, ябедничала Илье Марковичу, Фаина выясняла отношения с братом и племянником, и от всего этого жизнь в доме пузырилась и бурлила. Но если для девочек и Фаины все эти смерчи, скандальчики, пикировки были не всерьез, а так, для оживления домашнего общества, и очень глубоко сидело в них всех понятие «родственник, родной», то Леничка всем своим поведением подчеркивал, что родственные связи для него немного значат, главное для него – не кровь, а душевная близость.
– Павел, сейчас ваши мучения прекратятся, Ася прочитает свои «розы-морозы», и на этом все, – пообещал Леничка. – Ася всегда читает последней из неловкости – вдруг кто-то еще захочет почитать, ну, а если уж больше никто не захочет, тогда уж она… Наша Ася – ангел, хотя и неважная поэтесса… Все у нее слезы-грезы-лепет-трепет…
Ася читала тихим нежным голосом, и в стихах ее ветер пел, как лютня, море плескалось, как флейта, а дождь стучал по крыше, как барабан. Мэтр морщился на каждое упоминание о музыкальных инструментах, но замечаний не делал – обижать Асю было нельзя, такая она была трепетная мышка.
– И он печалится и никнет как ирис, – закончила Ася.
– И вскоре умирает как ириска, – еле слышно продолжил Леничка, и на этой фразе в комнату вошел Мирон Давидович, вот кто в своем бархатном одеянии смотрелся среди оборванных поэтов настоящим человеком искусства…
– Я вот что хочу сказать… – кашлянул Мирон Давидович.
Ася испуганно вскинулась, умоляюще посмотрела – пожалуйста, папа… Она очень боялась, как бы отец не вздумал хвалить ее стихи и вообще высказываться о поэзии. Он абсолютно ничего не понимает в поэзии, к тому же с него станется при всех назвать ее мышкой, или кошкой, или хрюшкой!..
– Я вот что хочу сказать, давайте чай пить, – договорил Мирон Давидович, и все оживились, зашумели.
К тому времени уже почти невозможно было купить еду, деньги ничего не стоили, и вся жизнь шла не на деньги, а на пайки. Пайки были классовые, для трудового и нетрудового населения, первый паек, самый большой, – для рабочих, второй – для служащих, третий – для лиц свободных профессий. Паек для лиц свободных профессий называли «голодный» – всего лишь полфунта хлеба в день, и поэты целыми днями бегали по городу, добывали пайки, где возможно. Маститые литераторы получали академические пайки (хлеб, селедка, горстка овощей), кого-то из знаменитостей за литературные заслуги пристраивали к милицейским пайкам, и это были крохи, но всем остальным, пока незнаменитым, приходилось совсем туго… Невероятной удачей было за паек прочитать где-нибудь случайную лекцию на любую тему – от искусства Возрождения до половой жизни туземцев Новой Зеландии, но это случалось нечасто, и все поэты были прозрачные, с опухшими от голода глазами…
А в литературном салоне на Надеждинской в конце вечера, после чтения стихов, всегда пили чай и каждому давали ломоть черного хлеба. Как это удавалось Мирону Давидовичу, не знал никто – и Фаина, и девочки не знали, этот хлеб был частью его сложной и таинственной жизни… но кусок хлеба давали всегда.
Лиля порхала по комнате, наливала чай, подходила к каждому с подносом и предлагала взять кусок хлеба. Ей никогда не приходило в голову, что, не прими ее семья Левинсонов, голодный паек дал бы ей только одну возможность – голодной смерти, и сейчас она думала только о том, как бы ей всех привлечь, и для каждого у нее находилась улыбка – особенная, предназначенная только ему.
– Ты как настоящая светская дама, – прошептала Ася. – Откуда в тебе это?
– Откуда? Я от природы светская дама, – рассеянно отозвалась Лиля, выискивая глазами Мэтра, окруженного учениками, ловящими каждое его слово, улыбнулась ему самой нежной из своих улыбок и, двигаясь немного бочком, но не к Мэтру, а от него, попыталась подобраться к другому важному для нее гостю.
Сегодня были все, кто бывал обычно, и еще кое-кто. Этот кое-кто был Никольский – сидел в углу и раздражал ее своим омерзительно равнодушным видом.
Прозаики из Дома искусств на литературных четвергах почти не появлялись, считали, что салонное чтение стихов – занятие пустячное, не для серьезных людей. Никольский попал на Надеждинскую впервые, – очевидно, его кто-то сюда затащил, хотя он не производил впечатления человека, которого можно было куда-то против его воли затащить. Но, в любом случае, Лиля не собиралась его упускать, – вот он с несчастным видом беседует с девушкой-поэтессой и поглядывает на дверь.
Улыбаясь Мэтру и всем, на кого падал ее взгляд, Лиля пробралась к Никольскому и незаметно отодвинула плечиком беседующую с ним девушку-поэтессу. Хорошо бы вообще не пускать в салон всех этих поэтесс, только мешаются под ногами, хорошо бы она была здесь единственной девушкой… ну, пусть еще Ася будет, но больше никого!
– Как вам понравилось… – начала Лиля. Мэтр был далеко, окруженный учениками, и сейчас одному Никольскому предназначалось особенное Лилино оживление, взгляды из-под ресниц, застенчивая улыбка.
Никольский вежливо кивнул, думая о чем-то своем.
– Вы любите музыку? Хотите, я вам сыграю? – предложила Лиля. Это и был Лилин план: как только закончится чтение, как бы невзначай подойти к роялю, стоявшему в углу, и – вдохновенное лицо, летающие над клавиатурой руки, – это все ему, Никольскому, пусть любуется. Но он никак не отозвался, – вот дурачок, неужели ему не нужно вдохновенное лицо, не нужны летающие над клавиатурой руки?! О господи, что же тогда ему нужно?!
– Все хотят играть в буриме, – вмешалась девушка-поэтесса, недовольная тем, что ее оттерли от Никольского.
– Сейчас будем играть в кинематограф, – ласково улыбнулась ей Лиля.
Никакого буриме! Лиля была несообразительна, рифмовала с трудом, подолгу молчала, не могла придумать строчку, а когда, наконец, придумывала и произносила вслух то, что казалось приемлемым, получалась какая-то глупость. Пару раз над ней посмеялись, и больше в буриме она не играла и старалась, чтобы никто не играл.
– Кинематограф, кинематограф, – живо сказала Лиля, искоса поглядывая на Никольского.
Сейчас все увидят, как она хороша – настоящая актриса, звезда!
В среде поэтов кинематограф считался не искусством, а чепухой, развлечением обывателей. Поэтому и игра в кинематограф была, по сути, игрой в чепуху, – они наспех придумывали какую-то ситуацию, чем более нелепую, тем лучше, и разыгрывали без подготовки. Лиля в этой игре блистала, ей было только жаль, что кино немое, поэтому никакого текста не требовалось, – а она могла бы прекрасно разыгрывать настоящие роли с текстом!
Леничка отвел Лилю в сторону, несколько секунд пошептал ей на ухо: графиня влюблена в лакея, отец запрещает брак, графиня умирает.
Лиля, мгновенно похватав кое-какой реквизит и соорудив себе «длинное платье» из платка, выхваченного из рук девушки-поэтессы, вышла на середину комнаты.
Она – графиня, лежит на диване, обмахиваясь веером, страдает от любви. Любовь Лиля изобразила с помощью фотографии, которую целовала и прижимала к сердцу, и платочка, в который она старательно плакала. Появляется лакей – ее возлюбленный, это Леничка с подносом, на подносе стакан и кусок хлеба, графиня дарит ему страстный поцелуй… Это потребовало Лилиной умелой игры – попробуйте-ка изобразить страстный воздушный поцелуй, – но у нее получилось так смешно, что все смеялись и аплодировали. Лиля так увлекалась своим безусловным успехом, что еще раз изобразила страстный воздушный поцелуй. Под аплодисменты она поискала глазами Никольского – Лиля собиралась встретить его влюбленный взгляд, – но оказалось, он ушел. Какие, однако, у него плохие манеры – неприлично уходить внезапно, не попрощавшись с хозяйкой вечера!..
Лиля доиграла сцену – опять обмахивалась веером, целовала фотографию и, наконец, умерла на ближайшем к «сцене» диване. У дивана собрались рыдающий отец (Собакин-Соболь), рыдающий лакей (Леничка с подносом) и рыдающий доктор (Павел, он ужасно стеснялся и отнекивался, но Леничка сказал, что ему нужно будет просто стоять с обычным докторским видом). Несмотря на всеобщие рыдания, Лиля умерла – очень художественно, прижимая к себе портрет лакея. И не показала вида, что один из гостей пренебрег ее игрой и ею самой!
Если человек может сам себя раздражать, то она сама себя раздражала. Что это у нее за манера – непременно всех привлечь к себе, каждого заставить собой восхищаться?! Зачем ей Никольский, он же совершенно ей не нравится? Ей не нравятся люди, которым не нравится она. Он даже вызвал в ней какое-то физическое отторжение, что-то такое странное внутри…
Ну и хорошо, ну и пожалуйста, она-то вовсе не собиралась заводить с ним роман, у нее уже есть роман – с Мэтром. И, улыбаясь своей самой беззаботной улыбкой, Лиля двинулась к Мэтру – Мэтр был для всех окружавших ее людей самый главный, а самый главный мужчина должен принадлежать ей, разве не так?..
…В воспоминаниях о светской жизни столицы XIX века написано: хозяйка салона была центром, культурно значимой фигурой, законодательницей, прелестной красавицей, ведущей рискованную литературно-эротическую игру. Чаще всего салон назывался по имени его хозяйки…
Лиля мечтательно улыбалась. В воспоминаниях о культурной жизни Петрограда двадцатых годов эти литературные четверги назовут салоном Лили Каплан, а саму Лилю – культурно значимой фигурой, законодательницей, прелестной красавицей, ведущей рискованную литературно-эротическую игру. И этот противный Никольский еще пожалеет, что пренебрегал – не останется в истории культурной жизни Петрограда, и поделом ему!
Вечером всегда кто-нибудь оставался пить чай с семьей, – на чаепитие нужно было получить особенное приглашение, и получали его самые на тот момент близкие к дому. Павел Певцов близок к дому не был, но Лиля увидела, что Дина неловко топчется рядом с ним, и вдруг заметила, что у Дины – глаза, что у Дины – чудная застенчивая улыбка. Что она неуклюже женственна, и это так мило… Уж не влюблена ли она в этого медведя?
– Павел, оставайтесь пить чай, – пригласила Лиля, как-то особенно кокетливо выговорив имя – «Па-вел». – Вот и Дина хотела что-то с вами обсудить, да, Динуля?
– Да, я… трудовое воспитание в единой трудовой школе, в первой ступени… и во второй. А где Ася? – застеснявшись, пробормотала Дина.
Пить чай Павел отказался – спасибо, но ему еще вечером нужно кое-что посмотреть для завтрашнего приема пациентов.
– Вы к нам обязательно приходите, на поэтические вечера и просто так, без повода, – настаивала Лиля. Эти двое ни за что сами не устроят свои дела, придется им помогать. – Вот прямо завтра и приходите…
На этот раз чай пили одни, без гостей.
– Этот доктор, вот это, я понимаю, мужчина, – одобрительно сказала Фаина и привычно добавила, даже не оглянувшись на мужа: – Вот и папочка тоже так считает.
– Красивая крупная мужчина, – подтвердил Леничка.
– Это вам не ваши поэты… – отмахнулась Фаина.
– «Это» – мягкое, уютное, плюшевое, – опять поддакнул Леничка. – Впрочем, вы правы, поэты слишком сосредоточены на себе, а доктор Певцов будет кому-то идеальным мужем. Дина, вы с Певцовым – идеальная пара, ты будешь поставлять ему материал, а он описывать клинические случаи… Смотри, не упусти его, на такой великолепный мужской экземпляр должно быть множество претенденток…
Дина доверчиво поглядела на него и тут же скривилась и зарыдала, всхлипывая и не вытирая слез. Фаина демонстративно холодно повела плечами: она возражала против Дининых слез, вызванных не ею самой, кроме того, сегодня любимой дочерью была Ася, а Дина была в опале за порванный чулок.
– Динуля, почему у тебя всегда глаза на мокром месте? – спросил Леничка. – Нет, ну почему ты такая глупая ревунья?
– Она же не тебе плачет, – укоризненно сказала Ася, и Дина кивнула: да, она плачет Асе…
Дина с Асей любили друг друга страстно, все время раздавалось – «а где Дина?», «а где Ася?», – но, попав в поле зрения друг друга, они как будто не находили, о чем поговорить, Асины поэтические восторги были Дине решительно чужды, Ася же не могла заставить себя заинтересоваться Диниными школьными делами. Но отношения их были физиологически родственными, они не могли пройти друг мимо друга, не прикоснувшись мимолетно, любили прижаться, погладить.
– Динуля воет как белуга, потому что Певцов не остался пить чай… – невинно улыбнулся Леничка.
– Я вою как белуга вовсе не поэтому, а потому… потому что я разрушаю прежние традиции, – с достоинством ответила Дина, шмыгнув носом. – Так сказала Прищепка, то есть географичка…
– Географичка напрасно огорчается, в ее предмете ничего до основанья не разрушишь. Ее все равно не заставят рассказать детям, что Америку открыл Ленин, – возразил Леничка. – Ну, а какие еще традиции ты разрушила, моя кошечка?
Дина начала рассказывать про то, как Прищепка рассердилась на нее за уволенную княжну Гагарину, – она любила рассказать все и во всех подробностях.
– Эта княжна Гагарина, она похожа на несчастную лошадь? – внезапно спросила Лиля и тут же спохватилась – она еще ни разу не позволила себе так глупо проговориться. Но это был такой неожиданный привет из далекого далека… У Ляли Гагариной, девочки, с которой она почти подружилась в Институте, сильно торчали вперед зубы, ее звали Ляля Лошадь, и с этой Лялей была история. Она пришла новенькой одновременно с Лилей и сказала всем, что она княжна, но над ней посмеялись – сразу же выяснилось, что никакая она не княжна, а побочная ветвь… Лиля тогда удивилась – лучше умереть, чем жить с такими зубами, а эта глупышка волнуется о титуле! Бедная Ляля Лошадь, сначала ей досталось за то, что она побочная ветвь, а теперь за то, что она все же Гагарина…
– Нет, – недоуменно ответила Дина, – хотя немного похожа, у нее зубы вперед… Но она такая…
– Какая? – с любопытством спросила Ася.
– Какая? Ну, такая… княжна. Княжну сразу же можно узнать. А теперь ее уволили, но я же не виновата, что она княжна… – Дина опять заплакала, и Ася бросилась целовать, гладить, шептать, успокаивать.
Фаина кинула на Дину холодный взгляд и поманила к себе Асю и Лилю, демонстративно поцеловала обеих.
– Мама! – взвыла Дина. – А я?!
– Ты не заслужила, – царственно сказала Фаина, – вот папочка сегодня молодец, папочка сегодня добыл дрова, только очень маленькие дровишки…
– Шестьдесят пять штук прекрасных поленьев, размером восемнадцать на двадцать четыре, – подтвердил Мирон Давидович, который все измерял размерами фотографий. – Для буржуйки с маленькой топкой будет в самый раз…
Мирон Давидович вдруг принялся зевать, и они с Фаиной ушли к себе, – от двери Мирон Давидович пробормотал, зевая, «спокойной ночи, мышки мои» и подмигнул Дине, а Фаина небрежно произнесла в ее сторону: «Можешь попросить прощения утром, а до утра подумай над своим поведением».
– Не реви, Динуля, Певцов придет на следующий журфикс и останется пить чай, – ангельским голосом сказал Леничка.
– Ох нет, я не из-за него, нет, нет… – всхлипнула Дина. От стыда, что все понимают, – она плачет из-за Павла, Дина заплакала еще громче и принялась вспоминать, как еще ее сегодня обидела Прищепка… что-то еще такое было… а-а, да… – Прищепка еще сказала, я виновата, что в школе отменили Закон Божий, и она меня назвала жидовкой!..
– Успокойся, не плачь, это всего лишь хамское слово… – Леничка обнял Дину, прижал к себе. От его неожиданной ласки Дина еще горестней всхлипнула и хотела честно сказать – она и не обиделась нисколько, а Прищепку ей жалко, просто такой уж сегодня вышел день плаксивый, вот и все ее отношение к «жидовке».
– Не плачь, – эхом повторила Лиля, – не плачь, Диночка. Я бы на твоем месте просто промолчала и посмотрела бы на эту твою Прищепку вот так, – и Лиля изобразила, как бы она посмотрела на Прищепку, презрительно и холодно.
Лиля ведь тоже теперь была еврейка, вот только она всегда об этом забывала и изредка виновато спохватывалась, – наверное, ей полагается иметь какое-нибудь мнение по еврейскому вопросу. Но думать об этом было неинтересно, и она никакого мнения не имела, просто была Лиля Каплан… Правда, в ее новой семье ни для кого еврейский вопрос как будто и не существовал вовсе. Дина была по национальности слуга народа, Ася – красавица. Маленькими обеих по несколько раз в году водили в синагогу, обе кое-что, весьма смутное, знали об истории народа, об обычаях, обе помнили, что родители евреи, а значит, и они тоже. Но сейчас вокруг кипела жизнь, не имеющая никакого отношения ни к национальности, ни к религии, так что это обстоятельство не то чтобы окончательно изгладилось из их памяти, а просто не занимало в сознании сестер никакого, даже самого маленького места.
Дина уже не плакала, а тихо всхлипывала на Леничкином плече. Весь день в ней пело – Павел, Павел… Может ли он полюбить ее, пусть не сейчас, но когда-нибудь? …Спросить у Аси с Лилей она стеснялась, они ее в свои вечерние разговоры не допускали – почему? Потому что они обе красивые, а она нет? И все это вместе было то ли счастьем, то ли обидой, но только этим и были полны ее мысли, а вовсе не «жидовкой»… Национальность – это вообще рудимент, ненужный хвост, – она же советская, интернациональная.
Но разве она могла все это сказать? Леничка гладил ее и повторял какие-то глупые нежные слова, совсем как Мирон Давидович, – моя кошечка, моя хрюшка. И, желая разжалобить его окончательно, как отца, Дина выдала ему последнее, самое сильное объяснение своих слез:
– А еще я ушибла коленку и порвала чулок. – И прошептала доверчиво на ухо: – Коленку не жалко, чулок тоже не жалко, но мама на меня рассердилась…
– Дура ты, Динка, – с сожалением сказал Леничка и погладил ее по голове: – Ну и глупая же ты, Динуля, в кого же ты у нас такая дура…
На этой жизнерадостной ноте вечер закончился.
* * *
Эту ночь Лиля провела в чужой постели – Леничкиной, впрочем, это была их с Леничкой не первая ночь.
Дина уже довольно громко посапывала, подоткнув под щеку кулачок, – во сне она выглядела толстым обиженным ребенком. Лиля с Асей лениво перешептывались, шепот время от времени затухал, как будто они раздумывали, еще разговаривать или уже спать, и обе уже почти что засыпали, когда в дверь постучали, а затем снизу из-под двери по полу поползла записка, и послышались быстрые удаляющиеся шаги.
Лиля подождала, пока Ася уснет, – ей пришлось ждать недолго, всего несколько минут, вскочила, прочитала записку: «Срочно приходи, у меня раздвоение личности», хихикнула и мгновенно, будто сна не было и в помине, замоталась в серый пуховый платок поверх рубашки, соорудила на всякий случай из пледа и подушки спящую под одеялом фигуру, и, прикрыв за собой дверь, отправилась к раздвоившейся личности.
Поеживаясь от холода, Лиля торопливо пробиралась по огромной затихшей квартире. В гостиной, знакомой до малейшей детали, до каждой истертой половицы, Лиля внезапно остановилась и замерла, – ночью привычная дневная картинка сдвигается, и сейчас она как будто видела то, что было прежде: огромный зал с камином и роялем, стены, обтянутые шелками, ковры, роскошную мебель… Она представила, как выглядел утонченный избранный круг, собиравшийся прежде в этой гостиной: нарядные дамы и мужчины во фраках, между ними снуют лакеи, разносят сладости и чай, звучит музыка, смех, эстетские разговоры, юноши в изящных костюмах читают стихи при затененном свете ламп, а за роялем наигрывает модный романс петербургский денди… И среди всего этого Леничка – красивый, гордый петербургский юноша, поэт… Леничка был со всеми знаком, всех знал, всех слушал и был общий любимец, – им невозможно не восхищаться, он такой талантливый, необыкновенный… Леничка весь оттуда, из этой пьянящей атмосферы музыки, поэзии, эстетской болтовни…
Сейчас свернутые ковры стояли по углам, и от прежней роскоши сохранилось немного: рояль Бехштейн, несколько нарядных столиков маркетри, горка, которую Илья Маркович называл «начало Николая Первого», огромный комод «конец Екатерины» и витрина красного дерева «Елизавета»… Белоцерковский хорошо разбирался в мебели и обставлял свою гостиную не беспорядочно и не «богато», а желал иметь в своем доме разные эпохи.
В витрину «Елизавета» сгрудили все ценное, что осталось в доме: сервизы императорского завода, бесчисленные статуэтки, металлические фигурки с эмалью – клуазоне, серебряные столовые приборы для фруктов и сладостей, сахарницы, сотейники, фарфоровый самовар с серебряными ручками… Фаина называла все это одним словом – «красота». «Красота» прежде принадлежала Белоцерковским, а теперь всей семье, и, когда нужно было что-то продать или обменять на продукты, Илья Маркович говорил сестре: «Не спрашивай меня, возьми в “Елизавете” что сочтешь нужным». Фаина в первую очередь продавала скатерти и салфетки, не нарушая сервизов и гарнитуров, но постепенно, как ни старалась она сберечь «красоту», в ход пошло и все остальное…
Лиля встала у рояля, приняла изящную позу, сжала руки у груди и, беззвучно открывая рот, пропела несколько фраз из арии Лизы из «Пиковой дамы», представляя себя знаменитой певицей, выступающей на сцене Мариинского театра… Тоненькая фигурка в ночной рубашке, повязанной теплым платком, огромные зеленые глаза, спутанные кудри – она как будто видела себя со стороны, и как же она была очаровательна! Лиля «пропела» еще несколько фраз, обвела глазами «публику», поклонилась и выбежала из гостиной… Ах, как больно! Она споткнулась о лежащую на полу дверь шкафа – дверь сняли с петель, и теперь она сохла посреди гостиной. Фаина долго мучилась, что лучше сжечь, шкаф или комод, – дверь шкафа по опыту дает мало жару, но комод жаль, шкаф можно использовать и без двери, а комод придется сжечь целиком… и выбрала шкаф.
Потирая коленку, Лиля кралась по коридорам, как любовница, – она совершала этот ночной путь много раз и ни разу не попалась, но встреть ее кто-нибудь из взрослых, она никогда бы не доказала, что с раздвоившейся личностью у нее совершенно платонические отношения…
– Никакого раздвоения нет, личности уже тоже нет, я полностью распался на куски, – констатировал Леничка, расхаживая по комнате, и Лиля привычно подумала, какой он красивый: светящиеся глаза, четко вырезанные губы, прозрачная, нежная, как у девушки, кожа.
Леничкина комната была не такой аскетичной, как комната девочек, потому что девочки жили все «в гостях», а это была его комната всегда, с детства. На самом деле все это было похоже на детскую Лили, только вместо кукол и зверюшек были машинки, но, в сущности, это была та же картинка интеллигентского детства на диване под книжным шкафом, колыбель, которая нежным теплом греет потом человека всю жизнь. Бумаги и книги от пола до потолка, гимназические дневники за все классы, фотографии, игрушки, хранимые чуть ли не с младенчества…
Фаина страстно мечтала проникнуть к племяннику и выбросить хоть что-нибудь – лучше все, особенно ее раздражали огромные шляпные коробки, полные нелепых антикварных вещиц – колокольчиков, ременных пряжек, значков, – Леничка коллекционировал это с гимназических времен. Он не позволял тетке входить в его комнату, и не реже одного раза в день Фаина стояла за дверью, не смея перейти заветную черту, и, дрожа от возбуждения, бессильно выкрикивала: «Впусти меня! Барахольщик! Хранитель древностей! Гобсек!»
– Хитровна, ты понимаешь, понимаешь? – волнуясь, чуть дернув головой, сказал Леничка. Наедине он иногда называл Лилю Хитровна, Хитрован, Хитрованище, и это всегда означало, что разговор будет особенный. – Я как еврей, крещенный в православие, могу рассмотреть вопрос объективно…
О Господи, и за этим он вызвал ее ночью?
– А ты можешь не рассматривать вопросы по ночам?.. – Лиля встала в третью позицию, плавно опустила руки, как поникший лебедь. – Смотри, какая у меня хорошая выворотность… Как ты думаешь, не заняться ли мне балетом? Может быть, мне поступить в студию балета?
– Евреи не виноваты в том, что происходит с Россией, и, в частности, в том, что в школах отменили Закон Божий… Но вот такая географичка думает, что виноваты! Если среди большевиков оказалось три с половиной еврея, значит, во всем виноват еврейский народ… Лиля?! Тебе что, неинтересно?
Лиля присела в глубоком реверансе, медленно выпрямилась и уселась верхом на деревянного коня, зашептала: «Люшенька, Люша…» Она не всегда отвечала Леничке, но это не означало, что не понимает, не слушает. Это была такая манера, выявлявшая глубокую близость, когда можно разговаривать с другим как с собой, перебегая мыслями и возвращаясь. Леничкиного игрушечного коня звали Аполлон, как ее коня в имении, Люшу, и это было удивительное совпадение… Они с Леничкой оказались во всем одинаковые, как близнецы.
Но возможно ли, что Леничка, поэт, мальчик из богемно-интеллектуальной среды, и Лиля, дворянская девочка, выращенная няньками, гувернантками и боннами, вдруг оказались КАК БЛИЗНЕЦЫ? …Когда Лиля появилась на Надеждинской, сестры Ася и Дина подразнивали его – влюбился, влюбился, а ему просто нужно было эту беспомощную малышку, маленькую дурочку, опекать, следить, чтобы она не сделала промаха, без него она, как неопытный разведчик, провалилась бы на первой же явке… Но оказалось, она НЕ ПРОВАЛИЛАСЬ бы. Оказалось, она отнюдь не беспомощная малышка, а царапается храбро, изо всех сил бьется за свою жизнь. И она отнюдь не маленькая дурочка. Оказалось, что с ней можно разговаривать – сначала о книгах, потом о ней, потом о себе…
…В Леничкиной комнате стоял книжный шкаф с теми же книгами, что были в кабинете Лилиного отца. Карамзин «История государства Российского», Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Некрасов, Лесков, Достоевский, Чехов, отдельно Диккенс, Конан-Дойль, Мопассан, Золя, Бальзак, Шиллер, Байрон… Те же книги, те же журналы, только вместо журнала для девочек «Задушевное слово» – комплекты «Современника» и «Отечественных записок». Запрещенных книг в Леничкином детстве не было, Илья Маркович считал, что запрещать читать – ханжество, ЧИТАТЬ можно все, и то, что Лиля читала тайком, Леничка читал открыто. Но ведь одни и те же книги все читали, – других книг не было, для всех Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Некрасов, Лесков, Достоевский, Чехов, отдельно Диккенс, Конан-Дойль, Мопассан, Золя, Бальзак, Шиллер, Байрон… и тайком Арцыбашев. ВСЕ читали, но не все, как Леничка и Лиля, воспринимают мир через книги, – книжные дети… Для обоих Пьер Безухов, Раскольников, Атос и Шерлок Холмс были живее, чем живые люди, у Лили от одиночества, а у Ленички от развитого воображения и придирчивого вкуса – Атос, Раскольников, Пьер Безухов были гораздо интересней, чем окружавшие его гимназические товарищи и учителя.
Вот только стихов Лиля не знала – отец не покупал, а у Ленички хранилось все, что издавалось в последние годы перед революцией, и на многих книгах были дарственные надписи: «Белле-чаровнице», «Белле-прелестнице»… Илья Маркович никогда не говорил о жене, Леничка никогда не говорил о матери, и даже – даже Фаина никогда не говорила о невестке. Лиля знала, что все ее преступление в том, что она всего лишь оставила Илью Марковича, но от их заговора-молчания Белла-чаровница, Белла-прелестница представала в Лилином воображении роковой женщиной из готических романов – она бы не удивилась, узнав, что Белла отравила семерых мужей и лунными ночами танцует на кладбище…
Леничка рассказывал Лиле обо всем, чего она не знала, сидя в своей детской, ему было интересно и волнующе учить ее, развивать, вырастить из нее умную и тонкую женщину, прекрасного собеседника, вылепить ее, как Пигмалион Галатею. Но он очень быстро обнаружил, что она не Галатея и ничего лепить из себя не позволит, – Лиля не была умная и тонкая женщина, не была даже особенно интеллектуальна, но отклик ее был такой сильный и самостоятельный, у нее был такой четкий и упорядоченный внутренний мир, в отличие от его собственного, где все клубилось, смешивалось и не имело границ, что вскоре он уже разговаривал не с зеркалом, а с ней. Ну и еще одно, немаловажное, – все-таки они были одного круга, оба были в этой семье другие, и даже если по воспитанию и образованию не были совсем одинаковые, совсем свои, то все вокруг были чужие, еще чужее.
Впрочем, Лиля ни о чем таком не думала, это Леничка любил все анализировать, а она просто радовалась. Это было чудо из чудес, что можно так дружить, иметь такую комфортную душевную жизнь: с Асей она могла говорить про девичье, а с Леничкой про все, о чем нельзя было говорить с Асей. И даже странно было, насколько одни и те же вещи оказывались разными, когда она обсуждала их с Асей и Леничкой. Асе она могла сказать: «Я сейчас закрою глаза и подставлю лицо для поцелуя, как я при этом выгляжу, привлекательно?» А Леничке можно было сказать: «Иногда мне нет никакого места в мире, а иногда во всем мире только я…» Невозможно было понять, что она имела в виду, она и сама не вполне понимала, но он понимал. И стихи – с Асей читали наизусть стихи Мэтра, а с Леничкой разговаривали Блоком, не делая перерыва между своим и стихами, Леничка начинал, а Лиля заканчивала.
С Леничкой разговаривали обо всем. Только об одном они никогда не говорили – о том, что Лиля прежде была Лили, об ее отце и о его матери, о документах и расстрелах, дворянах и кадетах, о тюремном дворе и кукле Зизи, о разгромленной квартире на Фурштатской, только об одном этом – никогда ни слова, как будто этого и не было вовсе, иначе жить невозможно.
Лиля еще немного пошептала в холку игрушечному коню и забралась на кровать, залезла под одеяло, – такая интимность объяснялась жутким холодом, а кроме того, что же ей стесняться Ленички, он не мужчина, а друг. И теперь Лиля лежала в кровати, а Леничка расхаживал по комнате и рассуждал:
– Еврейский народ и без того страдает от антисемитизма, а теперь ко всему прибавляется еще одно обвинение – что евреи не любят Россию, русскую культуру. Что же, я люблю Россию меньше, чем ты? Я поэт, русский язык – это и есть моя родина…
– Не говори красиво, – Лиля зевнула и закуталась в одеяло так, что наружу торчал только один хитрый зеленый глаз. – И вообще, не с твоим революционным прошлым плакать о том, что происходит в России.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































