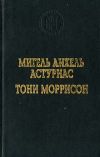Текст книги "Алчность"

Автор книги: Эльфрида Елинек
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Ни один человек не может управиться со своей жизнью, но ему всё же хочется с этим покончить. Однако эта неуверенность существования будет длиться вечно, пока человек жив. Смерть обрывает то, что всё равно никогда бы не было готово. Великий неизвестный, убийца, фантом вырвал Габи, как морковку, там, где ветви артерий раздваиваются на шее, и схрумкал. Зачем ищут его – который покончил с одной определённой молодой женщиной? Она должна была в определённое время быть на определённом месте; к сожалению, мы знаем только её окончательный адрес: озеро, вода, мокрая свалка, но всё же вся её жизнь разыгрывалась в определённое время и в одном определённом, даже очень маленьком местечке. Её смерть покончила с тем, что она в определённое время жила в этой деревне в предгорьях Альп. Странно, что люди любят думать о смерти как о некоем входе в бесконечность. Я предпочитаю держаться за труп, это хоть что-то, что остаётся, хоть на время, окончательность излишня, когда знаешь: это тело развезёт, пока оно не станет жидким и смоется, растворится. Я остаюсь при этом теле, не в позе скорби, как это делает собака, а скорее в позе заинтересованности. Как ни мало было этой мёртвой, что-то от неё всё же осталось, за что мы можем подержаться. Материя, увязанная в пластиковую плёнку, из которой сверху развеваются волосы, а снизу торчат носки. Ботинки слиняли. Этому связанному духу мне нечего сказать, ни хорошего, ни плохого. Да я его не вижу. Я допускаю, что он наконец освободился от своей конечности, но бесконечным в силу этого он, боюсь, не стал. Загадка, которую жандармы не хотят и не могут разгадать. Они хотят найти злодея и то, что его воодушевило воспользоваться другой душой, а может, и другими душами, ведь: куда девались все пропавшие? После этого на фотографиях у них такое особенное выражение лица, что мы сейчас же сделаем с него фотокопию, чтобы сразу заметить, если увидим такого: это пропащий. По времени совместных поездок с Габи известно: для любви времени не было. По времени отъезда и прибытия этой очень пунктуальной девушки выходит, что у этих двух в то время никогда не было совместного свободного времени больше чем максимум двадцать минут. Если и можно было выиграть время на таком коротком отрезке – то не больше десяти минут. Ну что можно успеть за десять минут? Вес собственного тела быстро возложить на тело другого, чтобы утихомирить его как соской-пустышкой, хотя бы на время его успокоить, пока оно снова не раскричится? Одну очень ценную часть тела, которая тебе не принадлежит, пугливо, но всякий раз с любопытством к её вкусу (не всё расфасовано в пакеты, иначе их можно было бы легко прихватить с собой в дорогу, но зато и забыть где-нибудь легко) взять в рот и посмотреть, не выйдет ли чего, и если да, то как оно пахнет? Застрять во влагалище Габи, как в своего рода исправительном учреждении, откуда тебя выпускают под расписку с тёмными пятнами, которые потом светлеют на брюках, но только условно, чтобы в любое время можно было вернуться туда? Мужчина, который хотел просто поговорить с девушкой? В это я не верю. Габи никогда не выходила без матери, друга или подруг, говорит мать, говорит друг и говорят подруги. Они говорят это и в газетных интервью, сразу после исчезновения Габи. Если только это правда, почему тогда девушка держала в тайне эти поездки? Может быть, потому что мужчине было что терять, может, потому, что он происходил из ближайшего окружения Габи и не хотел, чтобы его узнали, хотя (или потому что) его и так все знали. Они только не знали, что это был он. Это был не чужой. От отца и матери, бывает, отходят, чужой сам тебя бросит, как отходы, где попало, ведь у людей нет чувства чистоты природы. Ближний не подберёт это, потому что он знал содержание жизни девушки и не хочет больше никогда встречать её. Чтобы не стать содержанием её жизни! Он хотел ради собственной безопасности лучше устранить девушку, убийца, чем стать её Всем, что не даст ему ничего. Ведь нет ничего больше, чем Всё. Так, лучше мы сейчас замотаем тело в этот давно приготовленный мешок для мусора из зелёного пластика, взятый со стройки, ведь стройки – вся моя жизнь, и только дома, которые постигают в возникновении, есть нечто, за что можно держаться, да, кости, волосы, ногти на руках и ногах тоже могут остаться, но не так долго, как дом, который ладно скроен, крепко строен. На века. Для вечности, в которой верующий человек может встретить все эти дома, либо они его встретят, бум-м! – отрицание отрицания, ибо злодей не строит дом и, судя по всему, уже не получит его в подарок. Понятия конечности валятся у меня из рук, как молоток каменщика в пять часов вечера. Больше мне нечего сказать. Я скажу ещё, эта одна минута должна бы быть ещё внутри рабочего времени: ничего не останется. Смерть естественна, но это была неестественная смерть. Вы думаете, Габи хотела иметь того, кто уже принадлежит кому-то другому? Я не верю. Я неверующая, поэтому я всегда так ушибаюсь, натыкаясь на границы моего существования. Тогда я верю, что за ними, дальше, всё продолжается, я бы с удовольствием последовала за верующими туда, куда их так влечёт. Но не выходит, и на границах не выходит за их пределы. Как будто я иностранка какая, снаружи от сказочных шенгенских государств. Тук-тук, кто тут? Нет тут никого, потому что все хотят развеяться и поэтому в настоящее время и на все будущие времена они не дома и дома не будут. Развеяться можно только снаружи, наш европейский дом почти всегда маловат для этого, и теперь он маловат и для Австрии, образцового ребёнка, который никогда ничего такого не сделал и не сделает. Но коли мы больше нигде не желанны, мы и другим не позволим чувствовать себя у нас, жителей Австрии, у себя дома (ведь нам пришлось бы потесниться! И явились бы все кому не лень). Есть тут ещё кто-нибудь, кто, может, хотел бы видеть меня осчастливленной этим? Ему лучше не видеть этого, потому что, если явлюсь я, он не будет чувствовать себя дома. Кто меня слышит, если я кричу? Никто? Может, потому, что я пока никому не попалась на глаза. И злодей в этом убийстве явно не хотел никому попасться на глаза, что меня не удивляет. Если он и вынес оттуда какую-то рану своего существования, её не заметно. Иначе бы мы тотчас схватили его за шкирку, когда он, весь в крови, бежал по посёлку, а за его фигурой маячило бы нечто большее, чем он, зверь, пыхтящий, лишившийся своей берлоги и не прекращающий поиск другой. И если бы он её нашёл, она была бы уже мала, ему уже нужен был бы целый дом. Если человек должен умереть из самого себя, почему он не может создать простой дом своими собственными руками и частично чужим капиталом из сберкассы? Ведь баркасы его наличных сидят на мели, нагруженные процентами, процентами на проценты и несколькими гектолитрами нашей крови и наших слёз, в озере, и процентов не соберёшь, потому что договор до сих пор всякий раз приходилось расторгать досрочно. В одном из пенсионных фондов это было бы не так легко сотворить, ведь они суть творения дьявола. Короче, проще умереть, чем дожить до дома. В смерти хоть чуточку остаёшься здесь, в строительстве же у тебя уходит почва из-под ног, потому что она заложена в качестве гарантии под другую почву, которая тоже уже обременена или ещё каким-то образом недостижима. Господин Шнайдер, проныра по части недвижимости, который на аукционах повышает цену против самого себя, лишь бы для банков цены его недвижимости выросли до неба. Вот и скажи после этого, что недвижимость недвижима! Мёртвая же наоборот: она движется, только если её бросить в воду, и тогда она движется очень мягко, в такт волнам, вода двигает её, сами по себе мёртвые больше не двигаются, и наша мёртвая тоже. Вода качает её, баюкает, если она плачет. Вода добра. Я хотела бы чаще ступать в неё и доверяться ей. И многим очистным сооружениям, которых глаза бы мои не видели. Они что, собираются очистить воду? Но ведь тогда в ней не смогут водиться никакие живые существа! Нет, я не могу позволить, чтобы были какие-то очистные сооружения! Но ведь и без них как, ведь тогда бы рядом с нами плавали говёшки, и вода бы скоро оказалась там, где теперь ещё суша, одно бы сменилось на другое, грязь и дрянь – на прозрачность и правду. Нет, мы не сделаем этого, не променяем олиготрофные или мезотрофные, скудные водоёмы на эвтрофные, удобренные. Нет, мы этого не сделаем. Мы сохраним за собой первые, а вторые пусть идут куда подальше, чтобы мы могли потом послать туда нашу грязь, а здесь снова чувствовать себя славно. Нас ведь нам достаточно, воды и меня. Разве нет? Может, и меня однажды откроют, если кто-нибудь отважится в меня проникнуть. Как знать.
9
Отнесёмся однажды к мелким персонажам как к чему-то большому. Ведь мы сами могли оказаться среди них, так и не став большими. Тоже. Навеки остаться маленькими, что бы там ни было: участь. Делай что хочешь, ничего не возбраняется, это неотъемлемо, никто у нас этого не возьмёт. Никакой покупатель. Как мы ни заверяем, что совсем не то имели в виду, а Евросоюз так и тянется к нам своими материнскими руками, мы больше высморкаться не можем иначе, как под строгим наблюдением. Ну, что мы опять такого натворили к столу? Лакомый кайзершмарн. Господин Лис со своими отбомблёнными культями не справился бы с этим блюдом, он не наш, хотя сделал за нас всю работу. Теперь он повесился на стенном крюке. Он зубами содрал оболочку со шнура своей электробритвы, оборвал всю изоляцию, терпеливо и спокойно оголил провод. Смерть под конец день и ночь не сводила с него алчущих глаз. Свой подбородок он описал ещё как германский, а нос ни о чём не говорит, у северных германцев, восточных германцев, местных германцев, негерманцев и у разных прочих славян он точно такой же. Борьба уже миновала. Господин Лис из Граллы говорит, что ему не нужны ни жалобы, ни нытьё, это ничего не даст. Что борьба уже миновала; он считает, что боролся и многим рисковал. Но и это позади. Поток иностранных туристов немного схлынул, потому что в Европе нас бойкотируют. Но и то, что какой-то процесс прекратился, тоже будет позади, Европа к нам привыкнет, притерпится к тому, что всюду будут понуро бродить люди, повесив головы, потому что у них больше не будет работы. Хорошо, давайте дадим им работу. Без денег нет клиентов, на которых мы рассчитываем.
Поедем в столицу, говорит себе женщина рано утром. Сядем в машину ещё до того, как наступит привычная робость. Жизнь задолжала ей эту поездку, она засиделась, и это на ней сказалось. Теперь всё пойдёт быстрее, хоть и не так быстро, словно на Виллахском карнавале, где всё мчится мимо нас, словно в ускоренной съёмке, чтобы мы не успели почувствовать желание рассмотреть всё как следует. А вот и серая лента автобана, который с виду очень похож на озеро, которое в иные зимние дни тоже очень похоже на бетонную площадь. Милости просим. Машина забирает ленту под колёса и решительно отмеряет её, авось в конце добавят небольшой домерок к покупке, как в старомодных магазинах швейных принадлежностей, где продавщица всегда немного добавляет, но не темпа. Тихо не бывает никогда, потому что женщина и здесь немедленно поставила кассету и слушает фортепьянный концерт. Я, правда, не знаю её характер, поэтому не смогу его описать, но на некоторых фотографиях, не на всех, в ней есть некое ожидание, как мне кажется, но причина, возможно, кроется в том, что, фотографируясь, не трогаешься с места, а выглядеть хочется трогательно. Но не всякая тишина чего-то ждёт. Некоторая только того и ждёт, чтобы наконец уйти в себя. Об этом она позаботилась заранее. Перед тем, как расставить в себе всё по местам, печали и радости, надо вымести всё, что могло бы напомнить о прошлом. Лучше заново всё покрасить. Если не выйдет, придётся и дальше краситься снаружи.
Я не знаю, почему женщина, уже добравшись до предместий столицы, непременно захотела заехать в свои прежние места, растянутый пригородный посёлок у западного края города. Там никогда не ставили предела человеческой фантазии, и это хорошо, но то, что из этого получилось, уже не столь хорошо. Альпийские островерхие виллы с заранее заготовленными и пристроенными круговыми балконами в геранях и бегониях, в которых дом сверкает, как карбункул, – пожалуйста, Бог, метни сюда молнию, да посильнее, чтобы нам привиделось, что нас тут и не было никогда! Выжечь огнём эту память. Другие дома представляют собой копии домов большого города, но сильно уменьшенные. Я по-дружески прошу, заберите у меня назад память об этом раннеримском садике перед домом, об источнике, бетонных распорках и розовых роспусках, пока она не полезла у меня из ушей и не упала на ноги. На моих ногах ей далеко не уйти, этой экстатической памяти. Вот тоже милый домик, посмотрите сюда, тут на каждом этаже пристроено от семидесяти до ста пятидесяти квадратных метров, они нагромоздили бы и десять этажей, эти дорогие владельцы. Трудно остановиться, имея возможность сделать из альпийской хижины небоскрёб. Я бы не стала, меня бы устроила и хижина, и тогда бы я не искала себе другого человека, с меня бы хватило и дома. Женщина едет дальше вместе со своей машиной. Ещё в больнице в Земмеринге она затосковала по партнёру, с которым могла бы хоть раз, пока не поздно, насладиться жизнью, она хотела бы пристроить его к дому, в котором можно было бы готовить, есть, спать, жить и после этого с миром уйти. Но она догадывается, что он предпочёл бы обладать одним этажом её домика, чем ею самой целиком. Он хочет всё иметь один. Даже если он получит её даром, его будет интересовать лишь довесок, дом, – чтобы внедриться в него. Этот брак не может быть заключён. Женщина должна признаться себе в этом, а до тех пор я не успокоюсь. Вот она идёт мне навстречу, видит моё общество, запинается, потому что ведь она дорожит лишь одним человеком, и потом поворачивается и снова исчезает в утренних сумерках, а жаль, ведь она чуть было не попала мне в руки! Я чуть не схватила её, я уже дотянулась до неё кончиками пальцев. Я спешу за ней, обескураженная тем, что женщина улизнула от меня, и прикладываю ладонь ко рту, как я всегда делаю, когда смеюсь. Так заведено там, где я живу. Нет, это не заведение, ведь кроме меня там никого нет, за исключением благотворительности, которая говорит: вот она я, и хочет от меня денег. Женщина и я – разве мы с ней одно? Мы пока не договорились, один ли у нас план, но меня бы это не удивило. Итак. Во-первых, выедем на автостраду в сторону центра, но сначала завернём в Виенталъ. Там тоже шумит река, которая, правда, может цапнуть лишь ближайшее окружение, и то лишь в половодье, раза три в году, не чаще. В остальное время её почти не видно. Разве нужно, чтобы и река была так же мила, как женщина? По мне, так пусть будет и страшнее; минутку, вот объявился один человек, который хотел бы со мной поговорить, но прошёл мимо. Я пригнулась за рулём – авось он меня не узнает. Он идёт дальше. Всё идёт дальше. Вода ещё всех нас пожрёт и поглотит. Как этих двух мужчин, из тех многих, кто исчез, так и не вынырнув больше, в воде, в этих странных вратах, через которые одни проходят, а другие проходят через другие, но куда? Представьте себе воскресный вечер, складную байдарку, которая, нахлебавшись воды, стоит в зарослях камыша, как крышка, так сказать, как пробка, наполовину утонув в плоти воды; в самой широкой части эта конструкция достигает восьмидесяти пяти сантиметров. Два гребца уплыли на ней и исчезли, двое молодых людей, какими и мы хотели бы быть, но не этими, сейчас вы узнаете почему. Они уплыли в зимний день, дул холодный ветер, вода была ледяная – может, скоро она вообще взялась бы льдом, присмирев как никогда. Видите ли вы множество детских рук, которые подняли вверх своих надувных резиновых зверей или держатся за руки взрослых, чьи они дети и из чьих рук они торчат, как пробки, венчающие своих родителей, слышите ли вы шум, восклицания, смех, видите ли вы песочницы? Или, может быть, вы видите фигуристку, которая в стремительном вращении просверливает во льду дыру, в которой она сама потом может стать пробкой? Это значило бы, что было не лето, как и сейчас не оно. Тогда мы всё сказанное берём обратно, ведь это всего лишь написанное. Теперь это исчезло, и мне совсем не нужно в этом разбираться. Прежде чем вернётся моя робость, которая мне так мила, но которая всегда держит меня подальше от воды. Лучше отпустим этих двух мужчин в их складной байдарке в воду, ведь нам-то ничего не будет. Где-то горит костёр, где-то поставлена палатка, где-то и я дома, где я могу включить отопление, но не здесь. Что-то варится в походном котелке, руки людей тоже греются над огнём, что-то извлекают из котелка, потом они отправляются до следующей стоянки, в то время как признаки их жизни всё больше истончаются, исчезают, как и странные привычки людей, например, мыть руки перед едой. Горстка собранных камешков, причудливо сложенные ветки, несколько осколков бутылочного стекла, пластиковый мешок, наполовину наполненный ветром, – мне незачем объяснять это, потому что это сейчас же исчезнет в окончательности, и посему это будет лишним. Больше никаких усилий. У меня тоже позади долгое странствие. Кораблик жизни проплывает мимо, лодка, которой угрожают лёд и глубина, даст Бог, она вернётся снова. Обозначения на водной карте, которые так и норовят внушить нам веру, что вода твёрдая, голубого цвета и можно в ней разместиться, как в комнате, и появиться где и когда захочешь. Ах, можно и пару образовать, всё равно с кем, может, как эти двое молодых мужчин, которые исчезли, думает женщина по дороге. Они упаковали свою складную байдарку в виде рюкзака и долго ехали на региональном поезде, пока не добрались до воды, которая и была их целью. Потом на воду со всем своим громоздким багажом. Теряется след, который сам себя не ценит, след, которому лишь бы сняться с места и податься куда-нибудь, неважно куда, лишь бы подальше! Конец всякому уюту с подушкой под головой, и вот она уже безвольно кружит, лодка, дрейфует, в радиусе пятидесяти метров потом выловят вёсла и рюкзаки, палатку, походную посуду, продукты, паспорт и пластиковую карточку одного из пропавших, больше ничего. Ты, вода, что ты снова наделала? Почему на носу и на обоих бортах лодки зияют такие трещины? Будто кто-то аккуратно их разрезал, словно лезвием бритвы. Но мы же не «Титаник», а если бы мы были им, то могли бы заработать на своей гибели большие деньги. Но и в мелких водоёмах может образоваться лёд, даже быстрее, чем в глубоких. Как, разве он образован? Когда водоём так быстро замерзает, то слой льда тонкий, как дуновение, и такой острый, что об него можно порезаться, у меня это случается даже с бумагой, даже в тепле и уюте. Кроме бумаги, мне для него ничего и не нужно. Когда такая складная лодка сталкивается с таким слоем льда, то это происходит относительно быстро. Вода попадает внутрь, а люди наружу. Лодка наполняется. Давайте посмотрим на погоду: утром лишь слабая облачность, временами проглянет солнце. Вплоть до полудня вязкий туман. После того как он рассеется, дневная температура поднимется до шести градусов. Ночью угроза местных заморозков. И это означает триста метров туда или триста метров назад, потому что даже тренированные спортсмены в ледяной воде долго не продержатся, лишь несколько минут. А потом и они прейдут – и минуты, и люди. Их и посейчас нет, я теперь вместе с их семьями думаю о них, пожалуйста, и вы тоже сделайте это, где бы вы ни находились. Если вы никогда ни о ком не думали, то это будет хорошее упражнение для начинающего. Ему не придётся думать о миллионах, а всего о двух штуках молодых людей. Подумайте сейчас же о мёртвых, например об утопленниках, двое из которых здесь не могут говорить за других, да и сами недоступны для разговора. Мобильник отключён. Если вы заглянете в глубину вод, там тени, это не люди, это древесные стволы, которые затонули, там, да, посмотрите туда, это лишь затонувшая, проржавевшая лодка, а вон там, справа, лишь береговые скалы. Вынырнут ли мёртвые снова, мне было бы очень интересно. Из прошлого они могут это сделать, не вопрос. Но смогут ли из воды? Габи уже смогла это, нет проблем. Уложить чемодан, нести свои тяготы или дать нести их другим, мыкать горе или причинить его другим, набрать воздуха, предаться зелёной пластиковой парусине, но человек не парашют, воздух его не держит, человек не корабль, вода его не держит, человек – кусок мяса, сам почти целиком сделанный из воды и воздуха, если сможет их добыть. Некоторые не возвращаются из мёртвых, наперёд просто нельзя сказать. Течения, глубина водоёма и температура – всё это играет большую роль, которая в жизни достаётся людям нечасто; к сожалению, я почти уверена, что погребение для столь многих – самое увлекательное событие, какое им случалось пережить. Чем холоднее вода, тем медленнее процесс разложения и, соответственно, газообразования, который обычно выталкивает утопленников наверх, на поверхность, где они рады были бы выговориться, если бы встретили кого-нибудь. Почему же этот кто-нибудь бежит прочь? Столько можно было бы ему рассказать. Не бойтесь смерти! Уже столькие умерли, что и у вас получится. До сих пор это удавалось всем, даже такие недотёпы, как вы, как я, смогут это сделать, когда понадобится. Позаботьтесь о том, чтобы ваш труп сохранили, но не слишком долго! Вы и раньше-то были несносны, а теперь к этому ещё добавится одно отягощающее обстоятельство, о котором вы, во всяком случае, даже мёртвого словечка не сможете молвить. Если вода холодная, тело не разлагается, вместо этого наступает воскование жира, при котором мягкие части, где нарос жирок, полностью превращаются в восковой нарост, то есть что наросло, то теперь затвердело и остаётся снаружи почти неизменным, представьте себе такое. Позднее наступает стадия мелования, которую я не могу описать, потому что я ещё не настолько проникла в Ничто и могу постичь только то, что есть в наличии, если я его вижу или могу перенестись в его обстоятельства. Я не могу. Но я могла бы взять себе в помощь учебник патологии, только он мне не поможет. Этот утонувший рыбак четыре месяца дрейфовал под поверхностью воды и всё ещё как новенький. Эта девушка в озере со своими милыми, мягкими, мёртвыми губами – я увещеваю эту деликатную область, эту красивую среду озера теперь наконец закрыть рот и попридержать язык, она здесь уже часто брала слово без спросу, но это совсем не требуется, озеро и без того упорно молчит, в отличие от меня, и сверх того ещё само зажимает себе рот, но раньше из него кое-что всё же выскальзывало, как я вижу, – эта девушка, по крайней мере, пробыла в ледяной воде всего несколько дней, но тоже, если бы её подержать там дольше, её тело, может, законсервировалось бы, хотя эта вода ведь давно стоит на краю – хоп, поддай газу, эвтрофии, здесь скорее избыток, чем недостаток живых существ, сколько уж мне об этом говорить, ну, вы наверняка упрекнёте меня, что я уже слишком часто это делала: удобрение, удобрение, удобрение! – но не животных, нет, ни одно из этих существ здесь, в воде, не разглядишь невооружённым глазом. Она вовремя выгрузила эту девушку, вода. Тихий лес, почему же в тебе не отыщется никакой лодки? Но вот же она, точно! Эту лодку брали лунной ночью. На стеблях камыша могли остаться ледяные колечки, но сейчас их нет. Теперь до следующего года. До свидания. Некоторые хотели бы стоять тесно друг к другу, но им нельзя. Я, правда, не знаю, как уже было сказано, характер этой женщины, которая сейчас едет в машине, но, судя по фотографии, отталкивающего впечатления она не производит. Сойдёт. Она едет дальше. Машина хочет, как и всякое транспортное средство, пошевеливаться, а не пилить на холостом ходу (что-то здесь изменилось, но не мой взгляд, надеюсь), значит, мы теперь уже внизу, в Виентале, который весь забит так, что нельзя продвигаться быстрее пешего темпа. Начался утренний час пик. Больше раз-, чем два-взяли. Эта женщина тронулась от своего дома сюда ни много ни мало в пять часов утра. Ей, правда, удалось избежать утренних пробок в землях Штирии и Нижней Австрии, но в Вене она угодила как раз под молот Хадик-гассе. Из города выехать ещё можно, а в город – вы рискуете видом на замок Шёнбрунн, где огромные экскурсионные автобусы, вместо того чтобы скромно ждать на обочине, дерутся из-за стоянки размером с ванну, которую, по её малости, не найдёшь невооружённым глазом. Итак, предоставим их нашим венским туристам, пока они ещё есть вообще, а сами поедем дальше, ведь мы хорошо ориентируемся. Вена – другая, её символ – вишня с косточкой в виде сердца, куда там против неё дурацкий big apple. Или высадим народ на второй полосе и заглушим вопли тех, кому мы перекрыли дорогу, нашим высокозакреплённым мотором, который мы можем легко напустить на любую судьбу, пожалуйста, минутку терпения, мы сейчас уезжаем, через каких-нибудь полчаса, а если вы нас задержите, это продлится дольше. Мы сразу же отсюда поедем на парковку на природе, чтобы отравлять деревья, кусты и траву там, где они ещё растут, а не там, где их вообще нет. Каштаны в Виентале первыми умерли под слоем свинца и от алчных зубов тли, остальные на очереди. Мёртвые деревья наверняка не погонятся за нами, чтобы отомстить. На смену живому придёт импозантное мёртвое или скромное, но всё равно мёртвое, таков принцип этого города, который вступил в прочный брак со смертью и вот уже пятьдесят лет всё собирается развестись, но никак не может собрать для этого все бумаги, и когда ему кажется, что собрал и может ещё разок, который продлится очень долго, весёленький и живенький разок, в последний раз потрахаться, внезапно выныривают уже новые улики в том, что этот город однажды жил чуть не полностью за счёт краденых денег и может умереть лишь тогда, когда вернёт свои долги, которые могут временами принять размеры стоимости всех свезённых картин, похищенных ценностей, которые между тем прокисли, как молоко, замерли во времени, потому что их владельцы, со своей стороны, пропали. Как тут не станешь кислым. Стоит какой-нибудь клерк и говорит: приходите на следующей неделе, поступят результаты новейших обследований, и мы посмотрим, что там скрывалось под позднейшими слоями, может, ваша картина, как знать. Такая красивая женщина, как вы, дорогая Вена, может и подождать немного с ролью новобрачной, в следующем году вы наверняка подцепите ещё одного жениха, даже если нам лично придётся перед тем обломать вам все украшения. Вы и на сей раз снова согласитесь хоть на что, в этом мы уверены. Нет, вполне уверенными мы всё-таки не можем быть никогда, иначе потом снова что-нибудь скажут у нас за спиной, чего мы никогда не смогли бы сказать наперёд в такой форме, а если и сказали бы, то без злого умысла. Даже оперный бал устраивается без злого умысла. Посмотрите! Видите, как заплутавшее само в себе современное в своём любопытстве к новому сливается в экстазе с будущим и растворяет ему двери, как сказали бы греки? Жажда нового, да-да, ведь это так, будем же честными, любопытство на самом деле направлено не на будущее как возможность, а в своей алчности вожделеет возможного уже как чего-то действительного. Примерно так. Посмотрите сами. Вот мужчина, который рассматривает дома не как возможность для жилья в них, а, хотя они ему вовсе не принадлежат и, может, никогда не будут принадлежать, уже как нечто, что ему принадлежит, и именно потому, что это ДОЛЖНО ему принадлежать. Итак, теперь двери открылись, и вы просто подавлены, потому что на вас наступил тот, кому непременно хотелось попасть внутрь раньше вас. И тогда мы пошлём вас для установления мира в другую часть света, помурыжим вас как следует, вывернем вас наизнанку, ан глядь: вы всё равно будете выглядеть точно так же, как сейчас! И этот дом тоже будет стоять как каменный и не сможет воспользоваться возможностью для расслабления. И нет, и шансов тоже нет, что вы когда-нибудь изменитесь. Тем более вам сейчас необходимо сияние «Персила», чтобы вы и завтра утром могли быть такой же начисто промытой и невредимой снова выйти из изрыгающей мыльную пену мельницы смерти, в которую вы поймались и в которой застряли, совершенно несправедливо. Бывает тотальный ущерб, если вы недоглядели, но тотальной вины не бывает, потому что эта косуля, или эта детская коляска на тротуаре, или это двуглавое животное на этом здании, естественно, отвлекли ваше внимание от слишком медленно едущего автомобиля, малолитражки, которая чуть не сплющилась от груза на багажнике, ну, вон той, что перед вами, лишь один момент, но, к сожалению, неверный.
Теперь женщина продвигается вперёд немного быстрее, она знает объезд, знакомый только посвящённым, направо от Хадик-гассе, затем по Майнл-Морен, их магазин находится на задней стороне новенького жилмассива, который женщина совсем не знает. Она знала старые дома, построенные для сотрудников Австрийской железной дороги, этот переулок называется Кэтэ-Дорш-гассе, точно. Если она их не застанет, то сможет проехать на автобан, ведущий в Нижнюю Австрию, и через петлю, как здесь говорят, то есть сделав большой крюк, через деревни перед Веной и вокруг Вены снова вернуться назад, через Хадерсдорф, Мауэрбах, Нижний и Верхний Пуркерсдорф (Вы знаете такой? Один человек хотел купить себе билет в Пекин. Он подошёл к окошечку кассы в Пуркерсдорфе и попросил один простой до Пекина, пожалуйста. Мужчина в окошечке говорит, да вы что, я могу вам продать билет максимум до польской границы, а там уж сами смотрите, как ехать дальше, то ли по Транссибирской, то ли по Трансмонгольской, то ли на собачьей упряжке, фу. Короче, приезжает этот пассажир в Пекин, развлекается там, как дурак, какой он и есть, коли ради этого поехал аж в Пекин, но когда-то же надо и назад. Приходит он на главный вокзал города Пекина к окошечку кассы и просит один простой до Пуркерсдорфа, пожалуйста. А мужчина в окошечке и спрашивает: до Верхнего или до Нижнего Пуркерсдорфа? Ха-ха. Каково? Что вы сказали? Фу). Вот вокзал Хюттельдорф, пересекаем ведущие мимо него дорожные планы и строим наши собственные, которые так же точно рано или поздно обернутся против нас. Потом немного проедем по Линцер-штрасе в сторону области, крутой переулочек наверх, где соседи вежливо стоят на коленях и тщетно вымаливают скорость в тридцать километров в час; здесь играют наши детки перед своими собственными домами и выходят наши старики из их собственных квартир и возвращаются назад в их собственные квартиры, и ещё всякие другие ходят через дорогу, которые тоже не хотят умирать и у которых на затылке нет глаз, но улица принадлежит им, это-то они знают; ничего, все люди здесь, насколько хватает глаз, принадлежат нам, то есть самим себе, приличные, целеустремлённые и солидные, в вознаграждение за что и могут здесь жить, в западном здоровом пригороде, и мы, естественно, не хотим, чтобы какие-то посторонние их задевали, а тем более ранили. Кто за это? Никто. Мы все ценные, и если мы чем-то располагаем и теряем его, мы должны это возместить. Ах, как бежит время, уже опять, что поделаешь, мы бы их тоже не узнали. По их теперешнему виду. Мы должны немедленно пойти в парикмахерскую и сделать себе маникюр, чтобы нас снова воспринимали как ухоженных женщин, перед которыми время бессильно. Да, мы должны подвергнуть себя этой пытке, иначе скоро под наши ногти, обкусанные до крови, набьётся слишком много земли из-за огородных работ. Не то чтобы мы наворовали только грязи под ногтями, мы с огорода-то убираем только грязь под ногтями, и мы продолжаем её делать, эту здоровую работу, пока сами ещё ходим по земле. К нам надо как следует приглядеться, чтобы разглядеть в нас женщин. Мы отчётливо ставим себя выше мужчин. Вы нас видите? То, что в наши дни мы имеем профессию и независимы, само собой разумеется. Сколько уж я об этом понаписала, а толку никакого.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.