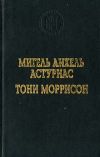Текст книги "Алчность"

Автор книги: Эльфрида Елинек
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Итак, от этой воды сюда не доносится ни милых или визгливых голосов, ни ругани отца семейства или причитаний задёрганной матери; шлепки оплеух были бы мне больше по сердцу, чем эти зловещие духи воды, эти глаза воды, которые вперяются в меня, эти губы воды, которые хотят меня заглотить, ну, уж это они слишком много хотят! Я вешу добрых шестьдесят кило.
Стемнело и стало ещё холоднее, оставшаяся с зимы, рассыпанная против гололёда на дороге мелкая крошка взлетает вверх, когда по ней кто-то проезжает, и никого бы не устроило остаться здесь, всем хочется в тепло кухонь и харчевен. Люди покидают волю и бегут, как в последнее убежище, в неволю своих семейств. Их ждут за столом; велосипеды, скейтборды и горные ботинки останутся за дверью или в подвале. В блаженном омертвении отцы семейств берут себе жаркое, последнее отчаянное средство, подкреплённое всемогущим дуплетом вина, которое снова должно вернуть их к жизни, – чудо, что они не теряют надежду. Природа, которая обходится с нами сурово, тоже делает перерыв. Так мы называем всё, что вынуждено остаться снаружи, и природа спекается в буханку из темноты, холода, горного ветра, горных потоков, камня и постоянства (да-да, растения, в определённом для каждого из них вегетативном подразделении, по ним можно часы сверять!) и пожирается нами и прочей скотиной. Успешный опытный образец природы, чего бы я в него ни приписала, заново пересочиняя всё, уже описанное, всё равно получится хорошо, да? Милости просим, входи, бесценное ты наше сравнение горного озера с бриллиантом в оправе гор, как хорошо я знаю тебя, укладывайся! – нет, только не на ноги мне! Земляничные склоны и плавучие эскадры рыб, заросли елового молодняка, у которого, к сожалению, уже отмирают нижние ветки – мутанты, созданные турагентствами, чтобы приезжие лучше видели грибы под ёлками, но и грибов там больше не просматривается, потому что земля задохнулась под полуметровой толщей иголок, как Саломея под щитами воинов. Тоже, пожалуй, неизгладимое впечатление, но мне бы это было нипочём. У озера мы сейчас не видим, потому что мы ведь не там, следующее: линия подпора, то есть где водная гладь переходит в коагулят, палки, поскольку для укрепления берега в почву ничего не вогнали, а наворотили из скал камня, набросали; отгородили всё это ширмой камыша, или он сам по себе постарался, этот странствующий лес, прикрывая глыбы своими зелёными карандашными телами. Что живёт под водой? Заглянем. Под водой больше нет ничего живого. И незачем выкидывать туда ещё больше мертвечины!
С испуганной миной, как будто во тьме он увидел ещё и конец света, стоит на берегу фигура (пол муж., 54 года), одиночная. Все прочие фигуры местности с головой ушли в порядке их личной видовой защиты в передачу «Австрия сегодня» или сразу предались сохранению вида, неважно, главное – они все по домам. Эта же фигура, мне кажется, до сих пор действовала целенаправленно, в отличие от природы, которая берёт что может и отдаёт что есть. Для неё что брать, что отдавать – всё едино. Фигура поставила себе целью на сей раз не видеть в лицо свои злодеяния, я вам это говорю, поскольку я уже всё об этой фигуре знаю. Ведь это самое лучшее в моей профессии. Мужчина завернул своё злодеяние, не очень тщательно, поскольку спешил, в зелёный полиэтилен, какой используют для прикрытия свежеразбитых ран на стройках, чтобы вода их не замочила, не испортила дорогой бетон, но полной герметичности плёнка не даёт. Но сейчас перед ней стоит скорее противоположная задача: вода, сюда, врывайся – не хочу. Пакет должен как можно скорее отяжелеть, совсем не так, как земля, которая должна быть пухом. Что касается цвета и формы, то по пакету не видно, что в нём содержится. Не то чтобы это было что-то большое, но и не маленькое. Итак, теперь вы знаете столько же, сколько и я, то есть всё, но исключительно благодаря мне: потому что это я навесила на этот пакет пару флажков, звонков, гудков и поворотников, так что теперь любому видно, что там внутри. Но как это написать другими словами в гордом и важном повествовании, перед которым ещё хотелось бы погарцевать и распустить хвост и перья на головном уборе, пока не подул ветер, против него уже ничего не попишешь. Пришлось на всякий случай описать всё это лучше, гораздо лучше, чем есть. Пакет тяжёлый. Мужчина тащит его с трудом. Вода должна, наконец, проделать над пакетиком свою разлагающую работу или вообще сделать всё, что она хочет, а это всегда только одно: пожирание, ну и на здоровье, мужчине это безразлично. Я думаю, он ничего не боится и ведёт себя так, будто хочет, прямо-таки жаждет, чтобы этот пакет был обнаружен как можно скорее. Тогда зачем он его вообще прячет? С таким же успехом он мог бы бросить его прямо у трассы. Нет. Современные тираны, которые давно завоевали право на самоопределение для себя и своих отбросов, неумолимо усердствуют в том, чтобы вываливать мусор именно там. Так, может, и хорошо, был бы достигнут эффект от противного, потому что ведь никто никогда ничего не убирает. И пакет мог бы проваляться там и три года. Нас это не колышет. Почему же мужчина не улыбается, полный радостных предвкушений? Ведь в полиэтилене, я уже говорила, хоть и излишне было это ещё раз подчёркивать, прехорошенькое тело, женское. Минутку, я гляну ещё раз, так и есть, это не мужчина, я подумала правильно. Женщина. Мужчина был бы тяжелее. Потребовался бы помощник и сильное, уверенное течение, которое унесло бы его с собой, после того как с ним разделались. Я знала лично одного убийцу, который утопил кого-то в настоящей реке вместе с кем-то другим. У мужчины, которого вы здесь видите, стоит член, всё ещё, он стоит почти всегда – супер! – почти как горнолыжник на вираже, когда его того и гляди вынесет центробежной силой, а он клонится в противоположную сторону, так и он у него встаёт до упора и не хочет сокращаться – что же мужчине с ним делать? Он уже и так сделал с ним всё что можно. Не помогло. Он даже пытался строить на нём, но этот фундамент, пожалуй, мог бы неожиданно рухнуть, и тогда бы, проваливаясь в подвал, пришлось бы хоть ненадолго заглянуть человеку в лицо вместо задницы, груди или ног. Зачем же тогда, спрашивается, он так долго искал своего спокойствия? Никто не должен видеть, как другой насмерть пугается себя самого. Сердца женщин часто бывают просторны, чтобы внутри них можно было и развернуться, если захочешь снова уехать, всё-таки ведь на машине, не пешком, это часто оказывается решающим в отношениях, а у старшего поколения в их газетных брачных объявлениях так даже обязательно прописывается, ведь в них уже не втрескаешься целиком, приходится, к сожалению, оставлять автомобиль снаружи, если вы не в лесу, там нужно припарковаться заранее; но едва этот мужчина дал себя восхитить такому сердцу, которое он искал, как уж снова он равнодушен, остыл, постоянно безразличный к лицам и событиям. Прекрасное не волнует его, потому что всё, что он находит красивым, должно быть непременно мёртвым. Как бы я могла над ним посмеяться, если бы захотела! Просто страшно. Этот человек смеётся редко. Бывает, глянет в зеркало – и не может себя вспомнить. Может, в наказание за то, что он так тоскует по материальному богатству, ему придётся сделать портрет самого себя. В своей жажде обладания он забывает себя, иногда совершенно внезапно, но никогда не забывает, чего хочет. Он отвечает, если спрашивают, правильно, даже интеллигентно, а иной раз и находчиво, потом любезно улыбается, вопрос в его мозгу даже зависает на какое-то время, чтобы он смог как следует разглядеть его или продумать ответ. Может быть, он как-нибудь проникнет даже в тайну вечного вопроса своей жены о вечных ценностях – жизнь или смерть, кухонная скамья или стулья, диван или кресла – ну, пожалуйста, Курт! Может, он наконец что-то на это скажет после стольких вопросов (ну нет у нас экскаватора выгрести старую кухонную мебель, это тоже денег стоит, дороже новой обойдётся!). Чтобы и его тёмная душа однажды, как наша после кино, где она под конец воспаряет, могла встать и немного размять ноги. Даже растения чувствуют больше, чем он, клянусь вам, они слышат, например, музыку, как написано в журнале, который жена этого мужчины, любительница цветоводства, принесла вчера в дом, – чистое расточительство. Он многое делает правильно, но кое-что неправильно, он спит, встаёт, большое дитя, которое ещё ничему не научилось, даже ребячеству, но ему ничего не дают ни истории, ни песни, в лучшем случае инструкции по применению, строительные планы и выписки из банковского счёта, которые показывают ему, что его деньги, к сожалению, недавно кончились и последние три квартплаты он задолжал. Я хоть и вижу, но пока ничего не скажу о его работе, которую он исполняет исправно, правда стоя одной ногой вне закона, что при его профессии практично (знакомишься с преступниками и преступниками на неполном рабочем дне) и вообще обычное дело. Ничего, что выходило бы за пределы повседневных обязанностей. Он есть то, что он есть, – нет, чего-то в нём нет. Ему для комплектности не хватает одного измерения – что на свете, помимо него, есть и другие люди. Это как если бы вы знали, который час, но не ведали, какой год, какой месяц, какой день, а ведь это величины, которые, хоть и вчуже, и против нашей воли, но держат в руках сроки нашей жизни. Мы просим обращаться с ними бережно. Это величины первостепенной важности, которые хоть и можно слегка приправить солью жизни, но горький привкус не устранить. Мужчина вполне нормальный, насколько я вижу, но он говорит как бы чревовещающим детским голосом и всегда обращаясь лишь к самому себе (тогда, ребёнком, он ещё что-то воспринимал, то были славные времена, всё было в порядке с роликами, с велосипедом, с мячом, со сладостями, стократно, такой баловень, прелестный ребёнок, не маленький господин Виноватый или Уродливый, как раз наоборот! Золотисто-белокурый. Золотой ребёнок, чтобы привыкнуть к неотвратимому, а именно: деньги правят миром), но запас слов которого весьма ограничен. Это неважно, ведь мужчина всегда знает, что он хочет сказать самому себе. Например, ну-ка подать сюда мой портрет, куда я его подевал, ах да, вот он: как будто вырезан из картона, и на него надо прикреплять его одежду, униформу, джинсы, красивый костюм для собственного погребения, выходной для выходных или для вечеринок жандармерии во время карнавала, тренировочный костюм для ничего, но никто не подумал о том, что надо бы прикрепить к нему и чувства или что любовь может прилежно строить глазки, может клеить вас, но пришить вас она уже не может, да? Или всё-таки может? Неужто они больше не раскроются, эти анютины глазки? Этому мужчине всегда тесно, неважно для чего. Ему нужно место, неважно где. Он не знает, на кого он мог бы что-нибудь потратить. Странно, что люди не выказывают к нему недоверия, напротив – зачастую они сразу выкладывают перед ним всю подноготную, может, потому, что они догадываются, что в противном случае он снова уйдёт, ещё до того как они разоблачатся, улягутся на софу и смогут показаться ему безо всего. Я поправлюсь: уж мечты у него есть, у этого мужчины, но он их всё равно пригвождает к одному или нескольким домам или частным квартирам, и потому они не всегда в свободном доступе. Ну, один дом, скорее домик, у него уже есть, жена привнесла его в брак в качестве приданого, поэтому он и сохраняет прилагающуюся к нему в нагрузку женщину, невзирая на плату, в которую она ему обходится. Ага, я вижу, другие дома в настоящий момент придвинулись чуть ближе к зоне его досягаемости; сын, например, платит за свой дом маленькое пожизненное содержание, меньшее, чем жизнь некой старушки, в настоящий момент из-за алкоголя почти умирающей с голоду. Это могло бы идти и само собой, вовсе без содержания. К счастью, человек смертен, а стены, в которые он заполз, остаются стоять и после него.
Но и совсем без жизненного тела не обойтись, как раз самые тленные, самые растленные цепляются за жизнь настырнее всего; этого мужчину ничто не остановит, он всегда хочет большего и ничего не отдаст назад, пусть хоть всё остановится. Вот он стоит, горный орёл, вернее, горный козёл (к сожалению, на горы у него остаётся всё меньше времени, они у него всё чаще оказываются на последнем месте. Кроме того, там нет мест для застройки, там одна пустошь, усыпанная камнями), стоит перед магазинами, в которых можно купить только самое дешёвое, перед гостиницей, в которой только противники алкоголя да спортсмены не пьют ничего, кроме фанты и фрукады, куда он потом, под столом, подливает шнапс (который он тоже никогда не оплачивает, потому что заглядывает сюда для их же авторитета). Мы имеем здесь дело с тем таинственным продолжением нас самих, которому выпадает всё, поскольку оно универсально, как сила тяготения; оно действует у автобусной остановки, где автомобилист никогда не воспользуется автобусом, а лучше кем-нибудь другим, оно действует в темноте, которую он проницает фонариком, но только в случае крайней необходимости. Ведь и батарейки чего-то стоят. И даже в темноте он здесь хорошо ориентируется, он знает здесь каждый камень, каждый ельник-питомник, на котором он сам ни к кому ничего не питает, он питается сам, восседая посреди накрытой, как стол, женщины.
Что это спускается с гор? Это снова они, альпинисты, туристы со своими или не своими жёнами. Но, конечно, спускаются они восвояси. Если кто попирает цветущий луг ногами, разве луг останется нетронутым? Уму непостижимо, сколько женщин развелось, особенно с тех пор, как они стали ездить на машинах не меньше, чем мужчины, и поэтому могут оказаться и в других местах, кроме дома. Их тянет и в город, и за город, в районный город и на сельскую дорогу, и то, что они такие разные, тоже уму непостижимо. И они снисходят к этому человеку, едва его завидев, повисают на канате, а он либо срезает их, либо нет, и вскоре они сияют под его руками, как полированная мебель. Так точно, и после этого они смазаны и ходят ходуном, как на шарнирах. Их было добрых пять штук за последних два года. Это не слишком много, я знаю, но ведь они требуют времени, потому что в наши дни им подавай качественное удовлетворение. Потискаться у стены дома, которая плохо оштукатурена, да ещё и отсырела, их уже не устраивает, этот дом ещё должен тебе принадлежать – зря, что ли, они столько лет берегли себя для того, единственного. Своим машинам они тоже ничего такого не позволяют. Чтобы они о кого-нибудь вытирали свои грязные шины или чтобы кто-нибудь вытирал о них. Машины тоже есть у многих женщин. Много машин есть у женщин. Выбирая машину своего любимого цвета или даже ожидая её на заказ, они, наверное, думают: такова будет оправа. Если млеешь, кровать уж тут как тут. Её покупают, вместе с ортопедическим матрацем, специально в расчёте на особого мужчину, который должен лежать там, где до него никто не лежал. И всё это знаешь уже наперёд, сразу, как только впервые поговоришь с ними на пыльной дороге, где предъявляешь ему свои права и документы на машину, этому совершенно дивному, своеобразному мужчине, какого ещё никогда не встречала, и уже знаешь наперёд: только он! И почему? – спрашивает продавщица из «Билла», с которой уже не раз случалось, коли уж живёшь здесь, в этих краях, переброситься словом, между зубной пастой, мылом и моющими средствами. Я не знаю. Таков ответ. Слегка приземистый, но мускулистый русый служака слывёт одиноким, и он не против такой славы. Мужчина, который прячет свои чувства под внешней грубоватостью, но может и маленькие слабости показать. Как это мило! Он без усилий преодолел все барьеры, которыми я отгораживалась до сих пор, говорит эта женщина продавщице «Билла», которая рассеянно кивает и мечтает скорее попасть домой. Но едва с тобой случится нечто чудесное, как тотчас – и в этом неудобство одинокой женщины – снова на километры всё завалено тревогами и подозрениями, как будто ты сама ландшафт, который безвольно ждёт того, кто накроет его в форме оползней, лавин и камнепадов. Ты лезешь в воду, не зная броду, вместо того чтобы быть водой, которая может странствовать куда угодно, но, к сожалению, с одним условием: только под гору! И ты предпочитаешь остаться дома, чтобы не пропустить телефонный звонок, либо не расстаёшься с телефоном, который умеет играть органную токкату ре минор Баха, которую ты ему вдолбила. Нужно только, чтобы кто-нибудь позвонил.
И вот у тебя начинаются чудеса, спускается ангел с небес и взмахом крыл сметает преграду, разделявшую двух людей, и вот оно, вот оно! – например, самое излюбленное, что вовсе не чудо, ведь человек будто специально создан для любви. Но это обманчиво, зачастую он только с виду такой. Напротив, Бог не благоволит к хорошим, они, хоть и любят и хотят остаться, расклеиваются даже ещё быстрее, чем мы с нашей нормальной безрадостной жизнью, и ты потом больше не узнаешь их, хороших-то, когда швы их половых органов расползутся и наружу вылезут опилки, которые раньше хотя бы придавали им какую-то форму. Даже дерево смягчилось бы от сострадания при таком событии, клей бы с него отвалился. Потому что никто этих нежных влюблённых, которые только и хотят, что забыться в любви, больше не соберёт заново и не укрепит их на сей раз фанерой снаружи, чтобы они, наконец, стояли самостоятельно и в этой позе продержались чуть подольше. Человек ведь никогда не остаётся прежним, час прошёл – и он уже другой. Смотрите, я покажу вам это: такое чудо случилось с той женщиной, и вон с той тоже, я думаю, а вон там целых пять, но всё же вон над той чудо поработало особенно, над этой, погружённой в себя, сдержанной, тихой, робкой, – узнали бы вы в ней ту женщину, которая когда-то специально переехала в деревню, потому что люди, которые были рядом с ней в большом городе, по её же собственному приглашению, обидели её, сами того, может, не желая и не зная? Эта женщина слишком хрупкая, она теперь сама перевязывает себе раненое сердце и мне заодно. А мужчина напротив неё тем временем целиком предался своей карьере любовника. Он уже хорошо продвинулся на этом пути, а именно туда, в маленькую кондитерскую, где его знают и куда он поэтому не любит ходить. Но на сей раз он не захотел противоречить провинциальному одиночеству женщины, отношения ещё слишком свежие, поэтому женщина достаточно взволнована, и он уступил её желанию: показаться на людях с мужчиной! Наконец-то! Это очень много ей даёт. И вот они сидят вместе. С этим человеком, опять же, ничего подобного никогда не случалось, ведь в чудесном замке, которым «Кроненцайтунг» ежедневно запирает наши мозги, он может почитать, куда это ведёт: любовь. В одной серии. До брака. До смерти. Жена жандарма читает целые серии книжек про любовь, от начала до конца. Мужчина утверждается в своей суровой профессии, которую можно исполнять с собакой и / или мотоциклом, – ведь собаку можно взять с собой только в машину или вообще не брать. Мужчина утверждается в здешнем климате, это до недавнего времени было исключительно мужским делом. Идёт ли дождь или снег или светит солнце – неважно, мужчины делают своё дело, стоит только пожаловаться этой или той женщине в отделение, к которому она приписана. Мужчина – дело другое, он по большей части вообще не знает, о чём она тут говорит, за этим столиком кофейни, беглянка, которая в городе так хорошо зарабатывала и всегда избегала связей и сближений из страха разочарования, как она говорит, уже хвастаясь этим, потому что её всегда только бросали и бросали, как камень на дороге. Так поётся в печальной каринтской песне, но дальше я не знаю слова. Надо узнать, а то скоро весь мир превратится в Каринтию, и тогда будут сурово наказывать тех, кто не знает эти красивые песни наизусть. Ну, и зачем же она приехала сюда, эта женщина, где она тоже никому не нужна? Она так нужна ему! Его не интересует, что она говорит. Его интересует, что у неё есть. Он мечтает открыть миллионершу, но нет, миллионами тут не пахнет, как ни прикинь: не сходится. Всё, что тебе нужно, только её собственность, но она пока пользуется ею сама, а это всё равно что изучать местную редкую альпийскую флору и фауну по книге, уютно устроившись на софе с бокалом вина. Нет, Курт, сегодня ты мне не нужен, сегодня я хочу побыть одна, но ты мне непременно звони. Если он не позвонит, у неё начнётся пожар на чердаке. Эта местность никогда не привлекла бы соответствующего внимания, не будь она так красива, а мы при ней. Никому бы до неё не было дела, кроме скромно одетых туристов, которых и так везде полно и на которых женщина, со своей стороны, посматривает свысока (есть среди туристов и такие, которые просто завалены одеждой, ни образа, ни подобия не знают, образно говоря). В весёлой душе мужчины, о чём он умалчивает, в принципе нет места для какой-нибудь женщины. А для дома есть, хотя он по природе своей намного больше: душа нараспашку, входи. Любовь уже наготове лежит на тарелке, сегодня она будет изображать сливочное масло. Это она ещё может. Женщина была бы куда миниатюрнее и сподручнее, чем дом, она могла бы это доказать, если бы жандарм к ней как следует присмотрелся, с головы до ног. Да и в доме, в конечном счёте, хватило бы места для его удали, для его горного велосипеда и для других его хобби, которые есть лишь пустая трата времени. Лучше бы он проводил время с ней, да, вы только взгляните: что дом, что жандарм, я бы их так описала, если бы была судебным исполнителем по описи имущества, пока меня не перебили. Дали в нём немного, но много удали, не в том смысле, что он удалён, а в том, что недалёк. Мебель сдвинута к стенам, чтобы его тело легче поддалось искушению предаться многократно, спасибо, опробованным движениям, от которых обстановка потерпит ущерба не больше, чем это необходимо. Ведь обстановку хочется, когда дойдёт до дела, получить вместе с домом целой и невредимой. Ну, максимум, проломится кровать. Вот стоит себе человек – глядь, ан это женщина. Видно, как она помавает руками, кричит, плачет, умоляет, почему он сегодня уходит так рано. Видно, она готова горы своротить, чтобы его совратить, вот она и вовсе становится на задние лапки. Она ему грозит. Странно, мы уж опять у неё дома. Только что она мирно сварила кофе, хотя мы перед тем выпили кофе в кафе и уже с интересом взяли след в делах нежности и доверия, которые нам были обещаны и за которые мы уже заплатили: два человека, которые друг друга на дух не выносят и всё же не отпускают друг друга. По разным причинам. Со временем они оперятся и упорхнут отсюда, потому что иначе им друг от друга не отвязаться. Хотя бы один из них должен уйти, чтобы другой смог остаться. Но к чему вся эта возня у плиты, если потом женщина выплеснет ему в лицо полную горячую чашку – она не понимает толком, зачем так жертвовать собой, если можно пожертвовать едой и напитками, для чего было всё это бурление и кипение ничего иного, как воды? Для чего бес в ребре? И теперь ей придётся самой же вытирать кофе и одной хлебать суп. Вообще, незачем было разбрасываться теми, кто ничего не сделал. После этой громкой сцены женщине, не избалованной, но хорошо воспитанной, можно сварить немного более твёрдой пищи, на сей раз что-нибудь экзотическое, с дольками ананаса и специями, которые специально привозят сюда с венского лакомого рынка Нашмаркт, – хочешь, Курт? – нет, он этого не знает и не хочет пробовать. Теперь он упражняет свою притягательность. Ну пожалуйста, съешь же хоть что-нибудь, а потом будет десерт, а потом мы рванём! Стоп, ей приходит в голову одна идея: этому человеку, который уже отверг её предложение и предпочитает потреблять свой обед в виде жареных колбасок с глазуньей дома, у мамы, она предложит его еду совершенно новым, небывалым способом. Он не сможет опомниться от счастья, подобно памятнику старины, который достоин воспоминаний, но вынужден ждать, когда про него вспомнят. И хотя она уже подаёт на стол, вы не думайте, ну, не так уж это и оригинально: просто накрыто с дорогим нижним бельём, которое она купила специально ради этого случая в городе у Пальмерс. Ну разве это не ослепительная идея для её ослепительного явления? Разве это не отдохновение для его глаз, которые на серых дорогах вынуждены смотреть на гораздо худшие вещи, часто перемешанные с кровью, убитые или раздавленные? Что я могу ещё сервировать? Её выход, который ей следовало попробовать уже давно, чтобы не вызвать у мужчины этот ужасный смех, который за ним не задержится, подействовал бы на него убедительно, если бы он захотел поверить своим глазам. Еду можно было бы, прислушавшись к его внутреннему голосу, ещё немного умаслить собственными соками на собственном теле, чтобы её можно было оттуда слизать. Ни на каком другом основании. О таком женщина и не мечтает, об этом она прочитала в каком-то рекламном листке, приложенном к покупке, и с тех пор она верит в силу воздействия своего тела, современная, уверенная в себе, экономически независимая достаточно, чтобы удовлетворить все свои телесные потребности (другим для этого приходится каждый день километрами наматывать сопли на кулак), неважно, что там перепало ей в рот, возможно, даже и кулак, о боже.
Потом она вдруг очнулась – внезапно, как лунатичка, каковой она и является, слепая, как она и есть, – на лестничной площадке. Внизу она перепачкана кровью. Что же он ей туда засадил – большее, чем зуботычина, меньшее, чем трактор? Разве что горлышко от пивной бутылки? Что это было? И её одежда рядом с ней сползает по ступеням, не по порядку, а кое-чего и вообще нет. Дверь, кстати, заперта изнутри, об этом я ещё не упомянула? Я что, забыла? Ну-ну, и кто же теперь в квартире, в доме – и то и другое принадлежит ей, разумеется: и нижний этаж, и подвал с сауной и винным погребком и приспособлениями для хобби? Женщина застаёт себя совершенно голой, стоящей на коленях перед дверью собственной квартиры, в беде, прижимая к груди растрёпанную одежду, которая чем-то пропиталась, и приникнув глазом к замочной скважине. Неужто он там правда с другой или это обман зрения, которое то недооценивает себя, то переоценивает, – с такой молоденькой, и как только он осмеливается с ней такое? и неужто правда в моей собственной квартире? – я видела своими глазами главное, я не могла обмануться, но и говорить об этом тоже не могу. Я думаю, мужчина не отдаёт себе отчёта, как далеко он зашёл с женщиной. Не так уж и далеко – в мой дом! Но, невзирая на это, он пустился во все тяжкие. Лучше бы он пустился куда-нибудь на машине. А её роль была бы пассажирская.
Женщина думает: этого просто не может быть, что он сейчас, да, в это самое мгновение, наяривает на своей трубе в такую молоденькую, ещё полудитя, так не бывает, – этот инструмент принадлежит одной мне, только мне. Хотя я едва умею держать его в руках. Но у меня он всё равно в лучших руках и в лучшей сохранности, ведь я уже слышала многие знаменитые оркестры и консервы едала, лично дирижируя, удобно откинувшись в кресле, потому что я не отказалась от разучивания по заявкам и попутно ещё в прах изучила пианино и сдала экзамен, пусть другая так попробует. Некоторым охота покрасоваться, как мне когда-то, когда я играла фортепьянный концерт Бетховена, но при этом на серебристо поблёскивающем проигрывателе лежал Альфред Брендель и прилежно вертелся, прилаживаясь в такт. Люди лгут. Ведь быть того не может, чтобы этот человек отверг меня ещё до того, как стал моим приверженцем. Может, он не знает, что теряет в моём лице и что раны, какие он мне наносит, оставляют след на всю жизнь. Они наследят, а я хотела чистоты. Я всегда хотела держать на расстоянии упорного претендента, но только не его, моего единственного! Которого я ждала пятьдесят лет. С ним бы я этого никогда не сделала. И он прогнал меня ещё до того, как успел узнать, как хорошо всё может быть между нами? Не может быть. Зато, может быть, завтра мне можно будет ползать у него в ногах. Чтобы он понял, что всегда может хоть сверху, хоть спереди, хоть с обеих сторон – а это мои лучшие стороны, потому что я свежевлюблена в него, – войти внутрь через мою постоянно открытую дверь. Чу, что это там снаружи? Кто-то идёт? Как на грех сейчас. Надеюсь, что никто. Никто не должен видеть меня такой, голой, окровавленной, и вся одежда чем-то пропиталась. Надеюсь, это не коллега из его же опергруппы, который явился незваным. Крики снаружи? Правильно, это я кричу, что, неужто это я сама? Звучит нехорошо. Похоже на крики человека, который хотел заехать другому в морду, но вместо этого – наверное, из ярости, но за что? – был вышвырнут на лестничную площадку, в холод. Тело при этом голосе уже не испортится, на таком-то холоде. Оно ведь сварено давно и помещено в собственный застеклённый домик, милая маленькая Белоснежка в хрустальном гробу, где она, к сожалению, у всех на виду. Это ещё хуже, хуже, чем гроб: там хоть обеспечена женщине одежда. И мужчина там совсем не нужен.
Эта женщина, я думаю, в тоске по насиженному месту, хотя сидеть на месте никогда не любила, вот парадокс, и теперь она снова в пути, к окну на входе, может, через него она снова проникнет в квартиру. Но для этого ей пришлось бы выйти на улицу, где её каждый может увидеть, кто пойдёт. Нет, так не пойдёт. Он увидит. Он должен лучше взять её, чем ту, другую, которая даже ещё не закончила свою учёбу в качестве ученицы продавца. Женщина знает это из прямых источников. При моём имуществе он, конечно, не позволит впарить себе какую-нибудь дешёвку, думает женщина, тем более этого полуребёнка. Он предпочтёт целую женщину. Это её предложение, оно стоит особняком, мы тоже могли бы кое-что предложить, но оно не будет так хорошо стоять. Мы могли бы поселиться в мансарде и были бы счастливы безмерно, хотя у нас было бы не так много места: счастье, что комнатка скроена по нашей мерке и облегает нас так плотно, что мы не упадём, я так влюблена, какое счастье, что есть ты и я одновременно. И больше нет места ни для кого. У меня больше одного места, у меня целый дом, где мы всё это могли бы делать уютно. Я места себе не нахожу. Кто вынужден давать, тот беднее того, кто даёт добровольно. Даст бог, эта ночь скоро кончится, и я смогу покончить с бессмысленной работой – пинать дверь и стучать в неё кулаками. Его твёрдые колени вместе с его тренировочными штанами – узор не подходит, но колени подходят ему хорошо, а штаны можно и снять. И тогда, и тогда, указывая на моё тело, указать ему, нет, не на дверь, это я и так делала слишком часто, хотя мы не очень давно знакомы, а робко (что вообще не очень ценится, каждый должен уметь показать себя и на что он способен. Иисус нам это образцово преподал, показывая на своё кровоточащее сердце, что часто ещё красиво дополнено аксессуаром – терновым венцом и двумя-тремя каплями крови в качестве дополнительного указания: дело к концу!) указать на то, к чему эта дурацкая дверь вообще приделана, а именно: к моему дому! – а там, где дверь не приделана, его просто снегом занесёт с другой, которая к тому же намного моложе. Так, теперь все члены в сборе, тело в качестве убежища тоже имеется в наличии, уже не такое новое, но ещё ого-го. Ведь я так влюблена. Это отражается в глазах, но в зеркале в прихожей не очень чёткое отражение. Почему мужчина воспринимает женщину только тогда, когда отверстия её тела раскрыты и исторгают крик. Я его от этого отучу. Это ещё грядёт. Он этого не выдерживает. Он держит уши зажатыми. Хотя бы один, определённо хороший тон, например за едой, он, однако, не может освоить. Он не музыкален. Он, собственно, невоспитанный и грубый. Его никто не воспитывал. Эти крики он не может слышать. Или делает вид, что не может. Он видит крик только тогда, когда люди вываливают его перед ним изо рта, но их крики ему безразличны. Как правило, люди стоят перед ним или рядом, но никогда не позади него, потому что жандарм должен постоянно держать их в поле зрения. Некоторые в отчаянии, показывают на своих сгоревших родных в малолитражке или плачутся ему в жилетку. Дороги – просто кровавая ванна, кровавое хозяйство, как будто людей специально разводят для того, чтобы забить их на этой дороге. Раньше за это брали входную плату и не было никаких дорог. Он жесток. Всё, что исходит от этой женщины, он будет игнорировать, просто потому, что её он тоже не видит, если не хочет. В этом он должен исправиться, думает она. Это ещё грядёт. Он слишком много повидал, а если и не слишком – эта женщина всё равно была бы для него лишней. Все её двери всегда настежь, неужто она не замечает, ведь дует, надо их закрыть. Неужто в душу жандарма закрадывается страх? Мужчина давно знает, что за ней стоит, за дверью, ему не придётся вламываться, хотя он знает женщину не так давно. Зато он назубок знает – и в темноте не заблудится – все предметы обстановки, которые должны служить человеку для удобства, а вместо этого связывают его по рукам и ногам, пока не выплачен по ним кредит. Я думаю, они навек останутся открытыми, эти двери в обрамлении из жёстких курчавых волос, меха, который накинули на скорую руку для маскировки, чтобы их не опознали как двери после первого же звонка, при открытии. Такое впечатление, что они никогда не закрывались, двери, да, об этом мне есть что сказать; мужчина – он и под присягой в первую очередь мужчина (это не единственные здесь не мои слова. Все остальные слова тоже говорят живые люди где можно и где нельзя, честное слово), ни одна из многих, что были у него в жизни до сих пор, не выразила желания рассматривать этого мужчину как родственное, дружественное существо. Здесь, в этом местечке, никому не пришлось преждевременно бросать гимназию, потому что никто в неё и не ходил. Здесь, в этом местечке, никто не отказался от учёбы, чтобы получить удовлетворение каким-то другим способом, который не требует ни положения, ни денег. Все положения можно изобрести самому или вычитать из спецвыпусков, они все одинаковы, только люди разные. С картинками и фотографиями. Разумеется, каждая женщина через некоторое время старается снова поскорее избавиться от мужчины, так же, как радуешься обычно уходу родственников, когда они оставляют тебя в покое, хотя им срочно был бы нужен новый пуловер. Знаешь их как облупленных. Такие же, как мы, только другие.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.