Текст книги "Карьера Ругонов"
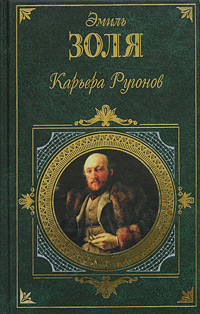
Автор книги: Эмиль Золя
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Когда поравнялись с первыми домами предместья, Сильвер побежал за ружьем на площадь св. Митра. Она все так же дремала в лунном сиянии. Повстанцев он догнал уже у Римских ворот. Мьетта нагнулась к нему и сказала с детской улыбкой:
– Мне кажется, что это крестный ход и я несу хоругвь.
II
Плассан – супрефектура, насчитывающая около десяти тысяч жителей. Город построен на плоскогорье над Вьорной; на севере он упирается в Гарригские холмы – последние отроги Альп, – и лежит словно в тупике. В 1851 году его соединяли с внешним миром всего лишь две шоссейные дороги – одна, на востоке, спускалась по склону горы к Ницце, другая, на западе, поднималась на Лион, продолжая первую почти по прямой линии. Позднее в Плассан провели железную дорогу: полотно ее проходит с южной стороны, у подножья крутого холма, круто обрывающегося от старинного крепостного вала к реке. При выходе с вокзала можно, подняв голову, увидеть первые дома Плассана и сады, нависающие террасами. Но чтобы дойти до этих домов, надо подниматься добрых пятнадцать минут.
Лет двадцать тому назад, вероятно из-за отсутствия путей сообщения, в Плассане еще царил ханжески-аристократический дух, присущий старым городам Прованса. В нем был, да, впрочем, сохранился еще и до сих пор, целый квартал больших особняков, построенных при Людовике XIV и Людовике XV, с десяток церквей, несколько домов иезуитов и капуцинов, изрядное количество монастырей. В Плассане классовые различия долгое время определялись кварталами города. Этих кварталов три, и каждый образует обособленный, самостоятельный городок со своими церквами, своими местами для прогулок, своими нравами и своими интересами.
Дворянский квартал, называемый по одному из своих приходов кварталом св. Марка, – это маленький Версаль, с прямыми улицами, поросшими травой, и с большими квадратными домами, за которыми скрываются обширные сады. Он расположен на южной стороне плоскогорья; некоторые особняки выстроены на самом краю склонов; у них двойной ряд террас, откуда открывается вид на всю долину Вьорны – великолепный пейзаж, прославленный во всем крае. На северо-западе, в старом квартале, – прежнем городе, – поднимаются уступами узкие, извилистые улицы с ветхими домами; тут мэрия, городской суд, рынок, жандармерия; в этой части Плассана, самой населенной, живут рабочие, торговцы, всякий мелкий люд, трудовой и нищий. И, наконец, на северо-востоке длинным прямоугольником расположен новый город; тут живет буржуазия – все те, кто по грошам сколотил состояние, а также люди свободных профессий; дома их выстроены в ряд и окрашены в светло-желтый цвет. Этот квартал, украшением которого служит супрефектура – безобразное, оштукатуренное здание с лепными розетками, насчитывал в 1851 году всего пять-шесть улиц. Он возник недавно, и только он один склонен разрастаться, особенно после постройки железной дороги.
В наши дни Плассан разделяется на три независимые, четко разграниченные части еще и потому, что каждый квартал отделен от остальных широкой улицей. Проспект Совер, который переходит в узкую Римскую улицу, идет с запада на восток, от Больших ворот до Римских ворот, разрезая город надвое, и отделяет дворянский квартал от двух остальных; а те, в свою очередь, разделены улицей Банн, самой красивой в Плассане; улица Банн начинается от проспекта Совер и поднимается к северу; слева от нее темными грудами разбросаны особняки старого квартала, а справа тянутся желтые здания нового города. Почти на середине улицы, на маленькой площади, обсаженной чахлыми деревьями, возвышается супрефектура – гордость плассанских буржуа.
Словно чтобы отгородиться от всего света, покрепче замкнуться в своих стенах, Плассан окружен старинным крепостным валом, от которого город кажется еще более мрачным и тесным. Достаточно ружейного залпа, чтобы разрушить его нелепые укрепления не выше и не толще монастырской стены, покрытые плющом, поросшие диким левкоем. В крепостном валу имеются выходы, главные из них – Римские ворота и Большие ворота. Римские ворота выводят на дорогу в Ниццу, а Большие – в другом конце города – на Лионскую дорогу. До 1853 года еще были целы эти огромные, закругленные сверху деревянные ворота, окованные железом. Летом в одиннадцать, а зимой в десять часов вечера их запирали на двойные запоры.
И город, запершись, словно пугливая девица, засыпал спокойным сном. Сторож, живший в маленькой будке у ворот, обязан был отпирать их запоздавшим горожанам. Но каждый раз велись долгие переговоры. Сторож никого не впускал, не осветив прибывшего фонарем и не рассмотрев внимательно через окошечко: кто ему не нравился, мог ночевать за воротами. Дух города, вся его трусость, эгоизм, косность, ненависть ко всему, проникающему извне, его ханжество и стремление к замкнутой жизни выразились в этом ежедневном замыкании ворот двойным поворотом ключа.
Плассан, запершись крепко-накрепко, говорил: «Я у себя» – с удовлетворением набожного буржуа, который отправляется на покой и, прочтя молитвы, с наслаждением заваливается Б постель, не опасаясь за свой сундук, уверенный, что ничто не потревожит его сон. Мне кажется, нет другого города, который так долго и так упорно запирался бы на ночь, точно монастырь.
Население Плассана делится на три группы: сколько кварталов, столько отдельных мирков. Чиновников считать нечего: супрефект, сборщик податей, хранитель закладных, почтмейстер – все это люди пришлые; их не любят, им завидуют, и они живут как им вздумается. Что же касается коренных жителей, тех, кто вырос здесь и здесь же намерен умереть, то они так глубоко чтут унаследованные обычаи и установленные разграничения, что спешат примкнуть к тому или иному общественному кругу.
Дворяне отделились от всех неприступной стеной. После падения Карла X[1]1
Карл X – французский король; был свергнут Июльской революцией 1830 года.
[Закрыть] они редко выходят из дому, спешат вернуться в своя мрачные особняки, проходят украдкой, как во вражеской стране. Они ни у кого не бывают и никого не принимают даже людей своей среды. Только священники частые гости в их салонах. Лето дворяне проводят в своих усадьбах, зимой сидят у камина. Это живые мертвецы, которым надоело жить. В их кварталах царит гнетущий покой кладбища. Двери и окна домов тщательно заперты, можно подумать, что это монастыри, отрешенные от мирской суеты; изредка по улице проходит аббат; его крадущаяся походка как будто подчеркивает тишину, нависшую над запертыми домами; двери приотворяются, и он исчезает, как тень.
Буржуазия – отошедшие от дел коммерсанты, адвокаты, нотариусы, весь тщеславный, зажиточный мирок нового города – пытается внести в Плассан некоторое оживление. Они ходят на вечера к господину супрефекту и мечтают сами давать такие же балы. Они ищут популярности, говорят рабочим «дружище», толкуют с крестьянами об урожае, читают газеты и по воскресеньям отправляются с супругами на прогулки. Это местные передовые умы; только они одни осмеливаются подтрунивать и ад городским валом и неоднократно требовали, чтобы плассанские власти снесли крепостные стены, «эти пережитки прошлого». Но даже самые заядлые скептики испытывают сильное и приятное волнение, когда какой-нибудь маркиз или граф удостоит их легким поклоном. Мечта каждого буржуа нового города – быть допущенным в салоны квартала св. Марка. Они прекрасно понимают, что мечта эта неосуществима, и поэтому во всеуслышание именуют себя «свободомыслящими» людьми; однако на деле эти вольнодумцы весьма почитают власть и готовы кинуться в объятия первого попавшегося спасителя при малейшем ропоте народа.
Население, которое трудится и прозябает в старом квартале, менее характерно. Там преобладает простой люд, рабочие, но есть и купцы, и даже несколько крупных коммерсантов. Плассан отнюдь не коммерческий центр; вся его торговля сводится к сбыту местных продуктов: прованского масла, вина, миндаля. Промышленность же представлена тремя-четырьмя кожевенными заводами, распространяющими зловоние на одной из улиц старого квартала, да несколькими фабриками фетровых шляп и мыловаренным заводом в предместье. Торговцы и фабриканты хоть и общаются по большим праздникам с буржуа нового города, но почти вся жизнь их проходит среди рабочих старого квартала. Мелкие торговцы, рабочие тесно связаны общностью интересов. Только по воскресеньям хозяева наряжаются по-праздничному и держатся особняком. Впрочем, рабочие составляют всего лишь пятую часть населения и теряются среди досужих людей.
Летом, жители всех трех кварталов Плассана встречаются раз в неделю лицом к лицу. По воскресеньям после обедни весь город выходит погулять на проспект Совер, даже дворяне. Но и на проспекте, представляющем собой нечто вроде бульвара с двумя платановыми аллеями, образуются три отдельных течения.
Буржуа нового города появляются только мимоходом: они выходят через Большие ворота, сворачивают вправо на проспект Мейль и расхаживают там до наступления темноты, а дворяне и простой народ гуляют по проспекту Совер. Больше ста лет назад дворяне избрали аллею, которая проходит по южной стороне бульвара, вдоль ряда особняков, откуда раньше уходит солнце. Простой народ довольствуется северной аллеей – той стороной, где находятся кафе, рестораны, табачные киоски. Целый день простонародье и аристократы разгуливают взад и вперед, вверх и вниз по проспекту, и никогда ни одному рабочему, ни одному дворянину не приходит в голову перейти на другую сторону. Их разделяют шесть или восемь метров, но между ними тысячи лье, и они строго придерживаются параллельных линий, которым не суждено соединиться в этом мире. Даже во времена революций они не переходили на чужую аллею. Традиционные воскресные прогулки, ежедневный поворот ключа в городских воротах – явления одного порядка, по которым можно судить о десяти тысячах жителей города.
В згой своеобразной среде до 1848 года прозябала малоизвестная и малоуважаемая семья, главе которой, Пьеру Ругону, суждено было в будущем благодаря исключительным обстоятельствам сыграть весьма важную роль.
Пьер Ругон был сыном крестьянина. Его родным со стороны матери, Фукам, как их называли, в конце прошлого столетия принадлежала большая усадьба в предместье, за старым кладбищем св. Митра. Впоследствии этот участок присоединили к Жа-Мейфрену. Фуки были самыми богатыми огородниками во всей округе: они поставляли овощи целому кварталу Плассана. Их род угас за несколько лет до революции. Осталась в живых единственная дочь Фуков, Аделаида, родившаяся в 1768 году. К восемнадцати голам она оказалась круглой сиротой – ее отец умер в сумасшедшем доме. Девушка была высокой, худой, бледной, с растерянным выражением лица и странными манерами. В детстве ее считали просто дичком. Но с годами ее странности усилились, а некоторые поступки были так нелепы, что им не могли найти разумного объяснения даже люди, слывшие в предместье мудрецами. Скоро начали поговаривать, что она, как и ее отец, не в своем уме. Через полгода после того как Аделаида осталась одна на свете, унаследовав состояние, делавшее ее богатой невестой, разнесся слух, что она вышла замуж за огородника по фамилии Ругон, неотесанного мужика, родом из Нижних Альп. Последний из Фуков нанял его на лето; Ругон остался работать у дочери умершего, и вот батрак неожиданно занял завидное положение мужа хозяйки. Замужество Аделаиды было событием, поразившим общественное мнение; никто не мог понять, почему она избрала грубого, неуклюжего, нескладного бедняка, который с трудом говорил по-французски, а не кого-нибудь из сынков зажиточных землевладельцев, уже давно увивавшихся вокруг нее. В провинции ничто не может оставаться без объяснения, и все решили, что здесь скрывается какая-то тайна, утверждали даже, что свадьба была вызвана неотложной необходимостью. Но факты опровергли клевету. Аделаида родила сына через год после свадьбы. Кумушки были недовольны: они не хотели сознаться, что ошиблись, и решили во что бы то ни стало раскрыть пресловутую тайну. Начали следить за Ругонами и скоро получили обильную пищу для пересудов. Через год и три месяца после женитьбы Ругон скоропостижно скончался от солнечного удара, полученного в жаркий полдень, когда он полол морковь на огороде.
Не прошло и года, как поведение молодой вдовы вызвало неслыханную шумиху в предместье. Стало известно, что Аделаида завела любовника; да она, видимо, и не скрывала этого. Многие слышали, как она открыто говорила «ты» преемнику несчастного Ругона. Как не пробыть вдовой даже года и уже завести себе любовника! Такое пренебрежение всеми приличиями казалось чудовищным безрассудством, бесстыдством. Но возмутительнее всего был странный выбор Аделаиды. В те времена в конце тупика св. Митра, в лачуге, которая выходила задней стеной на участок Фуков, жил человек, пользовавшийся дурной славой, известный по прозвищу «Маккар-бродяга». Маккар исчезал иногда на целые недели и в один прекрасный день снова появлялся как ни в чем не бывало, шел, засунув руки в карманы, насвистывал, как будто возвращался с прогулки. Женщины, сидя у дверей, оглядывали его, когда он проходил мимо, и перешептывались: «Смотри-ка! Маккар-бродяга объявился. Наверно, припрятал ружье и мешок где-нибудь в яме на Вьорне». Все знали, что Маккар, не имея никаких доходов, ел, пил и пребывал в блаженной праздности во время своих недолгих побывок в городе. Пил он с каким-то остервенением; все вечера проводил в кабаке, сидя в одиночестве за столиком, тупо уставившись глазами в стакан, ничего не видя и не слыша кругом. Когда трактирщик запирал двери, Маккар уходил твердым шагом, смело подняв голову, как будто хмель придавал ему бодрость. «Маккар что-то уж чересчур прямо идет, должно быть, пьян мертвецки», – говорили прохожие, глядя, как он возвращается домой. В трезвом виде он шел согнувшись и с какой-то угрюмой застенчивостью избегал любопытных взглядов.
После смерти отца, рабочего с кожевенного завода, оставившего в наследство сыну только домишко в тупике св. Митра, у Маккара не оказалось ни друзей, ни родных. Близость границы и Сейльских лесов превратила этого ленивого, чудаковатого парня в контрабандиста и браконьера – в одну из тех подозрительных личностей, о которых прохожие говорят: «Не хотел бы я встретить такую рожу ночью в лесу». Женщинам предместья этот высокий бородатый человек с испитым лицом казался страшилищем; они утверждали, что он живьем пожирает младенцев. В тридцать лет ему можно было дать пятьдесят. На лице его, заросшем бородой, из-под длинных волос, кудлатых, как шерсть у пуделя, блестели карие бегающие глаза, печальные глаза прирожденного бродяги, ожесточенного пьянством и жизнью отверженного. Никто не мог бы сказать, в чем же его преступление, но стоило случиться краже или убийству, как первое подозрение тотчас же падало на него. И этот людоед, разбойник, бродяга Маккар оказался избранником Аделаиды! За год и восемь месяцев у них родилось двое детей – сын и дочь. Вопрос о женитьбе даже и не поднимался. Никогда еще предместье не видывало такого наглого бесстыдства. Общее удивление было так велико, а сама мысль о том, что Маккару удалось найти себе молодую, богатую любовницу, до того перевернула представления кумушек, что они почти жалели Аделаиду. «Бедняжка, она совсем рехнулась, – говорили они. – Будь у нее родственники, они уже давно свезли бы ее в сумасшедший дом». Никто не знал истории этой странной связи, поэтому опять-таки обвинили «негодяя Маккара»: ясно, что он воспользовался слабоумием Аделаиды, чтобы завладеть ее деньгами.
Законный сын Аделаиды, Пьер Ругон, рос вместе с ее внебрачными детьми. Мать оставила у себя обоих «волчат», как называли в предместье Урсулу и Антуана, и относилась к ним не лучше и не хуже, чем к ребенку от первого брака. По-видимому, она не совсем ясно представляла себе, какая участь ожидает этих двух несчастных детей. Она не делала различия между ними и своим первенцем. Иногда она появлялась, ведя за одну руку Пьера, за другую Антуана, не замечая, что уже сейчас к малышам относятся далеко не одинаково.
Это был странный дом. В продолжение двадцати лет каждый жил в нем как ему вздумается. Дети росли на полной свободе. В замужестве Аделаида как будто осталась все той же высокой странной девушкой, которая в пятнадцать лет уже слыла чудачкой. Она не была сумасшедшей, как считали в предместье, но какое-то отсутствие уравновешенности, какое-то расстройство умственной деятельности и сердца заставляли ее жить не обычной жизнью, не так, как все. Она была непосредственна и по-своему вполне последовательна, но в глазах соседей эта последовательность была чистейшим безумием. Казалось, Аделаида нарочно подает повод к сплетням, нарочно старается, чтобы у нее все шло как можно хуже, тогда как она лишь бесхитростно, простодушно следовала требованиям своего темперамента.
После первых родов у нее начались нервные припадки, ее сводили страшные судороги. Припадки повторялись периодически каждые два-три месяца. Обращались к докторам, те отвечали, что ничем помочь нельзя, что с годами припадки пройдут, и прописали ей непрожаренное мясо и хинную настойку. От постоянных припадков Аделаида окончательно помешалась.
Она жила день за днем, как ребенок, как ласковое, смирное животное, покорное своим инстинктам. Когда Маккар исчезал из города, она проводила целые дни в праздности, в мечтах, обращая внимание на детей только для того, чтобы приласкать их, поиграть с ними. Но лишь только любовник возвращался, она покидала их.
За домиком Маккара был небольшой двор, отделенный стеной от участка Фуков. Как-то утром, к великому удивлению соседей, в этой стене оказалась калитка, которой не было еще накануне вечером. В течение часа все предместье успело осмотреть ее. Любовники, очевидно, трудились всю ночь, чтобы сделать пробоину и навесить калитку. Теперь они свободно могли ходить друг к другу. Это был новый вызов. На этот раз к Аделаиде отнеслись менее снисходительно. Поистине она стала позорищем предместья. Эта калитка, это спокойное бесстыдное признание любовной связи вызвало больше возмущения, чем двое внебрачных детей. «Хоть бы видимость соблюли», – говорили самые снисходительные из женщин. Но Аделаида не понимала, что значит «соблюдать видимость». Она была очень довольна, очень гордилась калиткой; она помогала Маккару вынимать камни из стены и даже замешивала известку, чтобы работа шла поскорее. Наутро она с детской радостью пришла полюбоваться на дело своих рук, и две-три кумушки, видевшие, как она рассматривала еще не просохшую кладку, сочли это пределом бесстыдства. С тех пор, каждый раз как Маккар появлялся в предместье, считалось, что молодая вдова, которая в такие дни нигде не показывалась, перебирается к нему в лачугу в тупике св. Митра.
Контрабандист возвращался через разные промежутки времени и почти всегда неожиданно. Никто не знал, как жили любовники в те два-три дня, которые Маккар иногда проводил в городе. Дверь была на запоре, и домик их казался необитаемым. Жители предместья, решившие, что Маккар соблазнил Аделаиду единственно для того, чтобы ее обобрать, удивлялись, что годы идут, а Маккар, все такой же оборванный, по-прежнему скитается по горам и лесам. Может быть, чем реже они встречались, тем сильнее любила его молодая женщина, а может быть, он не поддавался ее просьбам, чувствуя неодолимую тягу к жизни, полной приключений. Ходили разные слухи, но никто не мог сколько-нибудь разумно объяснить эту связь, возникшую и продолжавшуюся так странно. Жилище в тупике св. Митра всегда было наглухо заперто и хранило свою тайну. Догадывались, что Маккар бьет Аделаиду, хотя никогда из домика не доносилось ни малейшего шума. Не раз она появлялась с синяками, растерзанная, с растрепанными волосами, но никогда у нее не было страдальческого или хотя бы печального вида. Она и не пыталась скрыть следы побоев, она улыбалась и казалась счастливой. Очевидно, она безропотно подчинялась любовнику, и так они жили более пятнадцати лет.
Аделаида, возвращаясь домой, находила там полный разгром, но это ее ничуть не трогало. У нее совершенно отсутствовал всякий практический смысл. Она не знала цены вещам, не понимала необходимости порядка.
Дети ее росли, как растут дикие сливы при дороге, по воле солнца и дождя. И дички, нетронутые ножом садовника, не подрезанные, не привитые, принесли свои естественные плоды. Никогда природные наклонности не встречали меньше стеснения, никогда маленькие, зловредные создания не вырастали, так свободно следуя своим инстинктам. Они катались по грядам с овощами, проводили время на улице в играх и драках. Они воровали съестные припасы в доме, ломали фруктовые деревья в саду, как хищные и крикливые злые духи, они завладели всем домом, где царило безумие. Когда мать исчезала на целые дни, дети поднимали такой гам, придумывали такие дьявольские проделки, чтобы досадить окружающим, что соседи унимали их, грозя розгами. Аделаиду же дети ничуть не боялись, и если становились менее невыносимыми для окружающих, когда мать бывала дома, то только потому, что они избирали ее своей жертвой. Они пропускали уроки в школе пять-шесть раз в неделю и как будто нарочно старались навлечь на себя наказание, чтобы поднять рев на всю улицу. Но Аделаида их никогда не била, даже никогда не сердилась на них; она не замечала ни шума, ни криков, вялая, безразличная, отсутствующая. В конце концов, отчаянный гам трех озорников стал для нее потребностью, он заполнял ее пустую голову. Когда при ней говорили: «Скоро дети начнут ее бить, и поделом», – она кротко улыбалась. Что бы ни случилось, ее равнодушный вид, казалось, говорил: «Не все ли равно!» О делах она заботилась еще меньше, чем о детях. Участок Фуков за долгие годы этой безалаберной жизни превратился бы в пустырь, но, к счастью, Аделаида поручила дело опытному огороднику. По договору он участвовал в доходах и безбожно обкрадывал ее, о нем Аделаида не догадывалась. Но тут была и своя хорошая сторона: чтобы побольше украсть, огородник старался извлечь больше прибыли из участка и почти удвоил его доходность. Законный сын, Пьер, с самых ранних лет главенствовал над братом и сестрой, – потому ли, что им руководил смутный инстинкт, или же потому, что он заметил, как относятся к ним посторонние. В ссорах он по-хозяйски колотил Антуана, хотя и был слабее его. Урсуле же, хилой, жалкой, бледной девочке, одинаково доставалось от обоих. Впрочем, лет до пятнадцати-шестнадцати все трое тузили друг друга по-братски, не отдавая себе отчета в глухой взаимной ненависти, не понимая, насколько они чужды друг другу. И только достигнув юношеского возраста, они столкнулись как сознательные, сложившиеся личности.
В шестнадцать лет Антуан вытянулся и стал долговязым малым, в котором воплотились все недостатки Аделаиды и Маккара, как бы слитые воедино; все же преобладали задатки Маккара, его страсть к бродяжничеству, наклонность к пьянству, вспышки скотской злобы; но под влиянием нервной натуры Аделаиды пороки, проявлявшиеся у отца с какой-то полнокровной откровенностью, у сына превратились в трусливую и лицемерную скрытность.
От матери он унаследовал полное отсутствие достоинства и силы воли, эгоистичность чувственной женщины, не брезгающей самым гнусным ложем, лишь бы понежиться вволю, лишь бы поспать в тепле. Об Антуане говорили: «Какой мерзавец! У отца хоть храбрость была, а этот и убьет-то исподтишка, иголкой». Физически Антуан унаследовал от матери только чувственные губы; остальные черты были отцовские, но смягченные, более расплывчатые и подвижные.
В Урсуле, наоборот, преобладало физическое и моральное сходство с матерью. Правда, и здесь было глубокое смешение обоих начал, но несчастная девочка родилась в те дни, когда Аделаида по-прежнему любила страстно, а Маккар уже пресытился ею, и дочери передалось вместе с полом клеймо материнского темперамента. В ней натуры родителей не сливались воедино, а скорее противопоставлялись в тесном сближении. Урсула была своевольна, неуравновешенна, порой всех дичилась, порой впадала в уныние или же возмущение парии; но чаще всего она смеялась нервным смехом или только мечтала как женщина с сумасбродным сердцем, с сумасбродной головой. Взгляд ее иногда блуждал растерянно, как у Аделаиды, глаза были прозрачны, как хрусталь; такие глаза бывают у молодых кошек, умирающих от сухотки.
Рядом с обоими незаконнорожденными детьми Пьер всякому, кто не проник в сущность его натуры, мог бы показаться чужим, глубоко отличным от них. А между тем мальчик представлял собою точное среднее породивших его людей – мужика Ругона и нервозной девицы Аделаиды. В нем черты отца были отшлифованы чертами матери. Скрытое столкновение темпераментов, которым с течением времени определяется улучшение или упадок породы, принесло в Пьере свои первые плоды. Он был крестьянином, но не таким толстокожим, как отец, с менее топорным лицом, с умом более широким и гибким. В Пьере начала отца и матери усовершенствовали друг друга. Натура Аделаиды, утонченная постоянным нервным возбуждением, противодействовала полнокровной тяжеловесности Ругона и отчасти смягчала ее, а грузная сила отца давала отпор сумасбродным причудам матери и не позволяла им отразиться на ребенке. У Пьера не было ни вспышек гнева «маккаровских волчат», ни их болезненной задумчивости; он был плохо воспитан, распущен, как все дети, не знающие узды, но все же некоторое благоразумие удерживало его от бессмысленных поступков. Его пороки – любовь к праздности, жажда наслаждений – были не так явны и бурны, как у Антуана. Пьер лелеял их, рассчитывая в будущем удовлетворять их открыто, с достоинством. Во всей его толстой, приземистой фигуре, в длинной бесцветной физиономии, в которой черты отца смягчались тонкостью линий материнского лица, сквозило расчетливое, затаенное честолюбие, жадное стремление удовлетворить его, черствость и завистливая злоба мужицкого сына, из которого богатство и нервозность матери сделали буржуа.
В семнадцать лет, когда Пьер узнал и понял распущенность Аделаиды, двусмысленное положение Антуана и Урсулы, он не огорчился и не возмутился, а только встревожился, не зная, какой линии держаться, чтобы лучше оградить свои интересы. Не в пример брату и сестре он более или менее аккуратно посещал школу. Крестьянин, сознав необходимость образования, становится свирепо расчетлив. В школе товарищи своими насмешками и оскорбительной манерой обращения с Антуаном внушили Пьеру первые подозрения. Позднее ему стали понятны многие взгляды, многие намеки. Наконец он увидел, что в доме царит полный разгром. С тех пор он стал смотреть на Антуана и Урсулу как на бессовестных дармоедов, на приживалов, пожирающих его достояние. Аделаиду он, как и все жители предместья, считал сумасшедшей, которую давно следовало бы посадить под замок и которая растратит все его состояние, если он не примет мер. Но окончательно потрясло его воровство огородника. Озорной мальчишка сразу превратился в расчетливого эгоиста. Та странная, бесхозяйственная жизнь, которой он уже не мог видеть без боли в сердце, преждевременно развила в нем инстинкты собственника. Овощи, приносившие огороднику большие барыши, принадлежали ему, Пьеру; ему же принадлежало вино, выпитое незаконнорожденными детьми его матери, хлеб, съеденный ими. Весь дом, все имущество принадлежали ему. По его крестьянской логике все должен был наследовать он, законный сын. А дела шли все хуже, каждый жадно отрывал куски от его будущего состояния, и Пьер стал искать способа, как вышвырнуть за дверь и мать, и сестру, и брата, чтобы одному завладеть наследством.
Борьба была жестокой. Пьер понял, что первый удар надо нанести матери. Он терпеливо, упорно, шаг за шагом выполнял план, который заранее обдумал до мельчайших подробностей. Его тактика заключалась в том, чтобы стоять перед Аделаидой живым укором. Он не выходил из себя, не осыпал ее горькими словами, не упрекал в дурном поведении, – нет, он только пристально смотрел на нее, не произнося ни слова, и это приводило ее в ужас. Когда Аделаида возвращалась от Маккара, она с трепетом поднимала глаза на сына и чувствовала на себе его взгляд, холодный, острый, как стальное лезвие, которое медленно, безжалостно вонзалось ей в сердце. Суровое молчание Пьера, сына человека, так скоро ею забытого, смущало ее бедный больной мозг. Ей казалось, что Ругон воскрес для того, чтобы покарать ее за распутство. Теперь с нею каждую неделю делались нервные припадки, после которых она чувствовала себя совершенно обессиленной. Никто не обращал на нее внимания, когда она билась в судорогах. Придя в себя, она оправляла платье, вставала обессиленная, еле волоча ноги. Она часто плакала по ночам, сжимая голову руками, принимая обиды Пьера, как удары карающего божества. Но порой она отрекалась от сына; она не узнавала своей крови в этом бессердечном человеке, невозмутимость которого мучительно охлаждала ее возбуждение. Зачем он смотрел на нее своим упорным взглядом, уж лучше бы бил ее. Беспощадный взгляд сына преследовал ее повсюду и так истерзал, что она не раз принимала решение расстаться с любовником. Но стоило появиться Маккару, она забывала все свои клятвы и бежала к нему. А когда возвращалась домой, снова начиналась борьба, еще более молчаливая, еще более страшная. Прошло несколько месяцев, и Аделаида подпала под власть сына. Она дрожала перед ним, как маленькая девочка, неуверенная в себе и боящаяся розги. Ловкий Пьер связал ее по рукам и ногам, превратил в покорную рабу; он достиг этого, не раскрывая рта, не пускаясь в сложные и неприятные объяснения.
Когда молодой Ругон почувствовал, что мать в его власти, что с нею можно обращаться, как с рабыней, он сумел извлечь выгоду из ее слабоумия и безграничного ужаса, который ей внушал один его взгляд. Став хозяином в доме, он тотчас же прогнал огородника и заменил его верным человеком. Он взял на себя управление всеми делами, покупал, продавал, забирал всю выручку. Впрочем, он не пытался ни обуздать Аделаиду, ни бороться с ленью Антуана и Урсулы. Какое все это могло иметь значение, раз он решил при первой же возможности отделаться от них. Он ограничился тем, что начал учитывать и хлеб и воду. Потом, захватив в свои руки все состояние, он стал выжидать случая, который позволил бы ему распорядиться деньгами по своему усмотрению. События ему благоприятствовали. Как старший сын вдовы, он не подлежал призыву. Два года спустя Антуан вытянул жребий. Неудача его не огорчила – он рассчитывал, что мать поставит за него рекрута. Аделаида действительно хотела избавить сына от военной службы, но деньги были у Пьера, а Пьер молчал. Отъезд брата был для него слишком счастливой случайностью. Когда мать заговорила с ним об Антуане, Пьер посмотрел на нее так, что она умолкла на полуслове. Его взгляд ясно говорил: «Так вы что же, хотите разорить меня ради вашего ублюдка!» И Аделаида эгоистично отреклась от Антуана, желая только спокойствия и свободы. Пьер, не любивший крутых мер, радуясь, что ему удалось выжить брата без всякой ссоры, принялся жаловаться на безвыходное положение: урожай плохой, денег в доме нет, пришлось бы продать участок земли, а это первый шаг к разорению. Он дал Антуану слово, что выкупит его на будущий год, хотя твердо решил этого не делать. Антуан поверил ему и уехал, почти успокоенный.









































