Текст книги "Жизнь без морали. Искусство дипломатии"
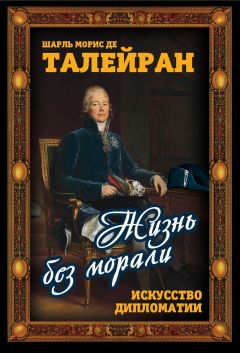
Автор книги: Епископ Екатеринбургский и Ирбитский Ириней
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В просвещенные эпохи литературой, науками и искусствами занимаются люди, большинство которых принадлежит по своим личным достоинствам к наиболее высокому кругу, но связано по рождению и состоянию с самыми низкими слоями гражданского общества. Тайный инстинкт побуждает их стремиться к расширению принадлежащих им преимуществ до уровня тех прав, которых они лишены, если не выше. Кроме того, их цель заключается в достижении известности. Для этого надо прежде всего понравиться и заинтересовать, что достигается всего вернее лестью господствующим вкусам и преобладающим взглядам, которые укрепляются таким потворством. Нравы и взгляды устремлялись тогда к равенству, и эти люди стали его апостолами.
В те времена, когда не существовало другого богатства, кроме земельного, а оно находилось в руках дворянства, промышленным же трудом и торговлей занимались люди низшего происхождения, дворяне их презирали; а так как, презирая их когда-то, они считали своим правом и даже обязанностью презирать их постоянно (даже вступая с ними в родство, что представляло оскорбительную непоследовательность), то тем самым они раздражали самолюбие людей низкого происхождения, которые понимали, что нельзя презирать их занятия, не презирая их самих.
Среди обломков своих старинных прав дворянство сохранило некоторые привилегии, представлявшие в основе лишь вознаграждение за обязанности, которые оно когда-то несло, но от которых освободилось. Так как основ этих привилегий больше не существовало, то они казались несправедливыми, но не это делало их ненавистными. Прежде всего по своей форме, а не по распределению, налоги устанавливали такие различия, в которых плебейский класс видел не столько изъятие в пользу благородных, сколько оскорбление для себя. Эти чувства низшего сословия проистекали из сознания равенства и укрепляли его. Тот, кто не желает, чтобы с ним обращались как с низшим, претендует быть равным или во всяком случае стремится к этому.
Я должен еще сказать, что та часть армии, которая была так неосторожно послана на помощь английским колониям, боровшимся со своей метрополией, прониклась в Новом Свете доктринами равенства. Она вернулась, преисполненная восхищения ими и, возможно, желания осуществить их во Франции. Роковым образом маршал Сегюр105 решил как раз в этот момент предоставить все офицерские места в армии одному дворянству. Множество памфлетов высказалось против распоряжения, закрывавшего всем не дворянам карьеру, которую Фабер106, Шевер107, Катина108 и другие подобные им плебеи прошли со славой. Так как бедному дворянству было запрещено занимать доходные должности, то считали нужным дать ему это удовлетворение. Лишь одна эта сторона вопроса привлекла к себе внимание. Но вся мера, явно заменявшая личные достоинства рождением как раз в той области, в которой личные качества играют наибольшую роль, оскорбляла как разум, так и общественное мнение. Для вознаграждения дворян за потерю преимуществ, существование которых плебейский класс считал уже пережитком, ему причиняли несправедливость и наносили обиду. Солдат, уже восстановленных против существующей системы, окончательно отталкивали введением иностранной дисциплины, подвергавшей их такому обращению, которое во Франции всегда109 считалось за тяжелое оскорбление. Могло казаться, что затаенная цель сводилась к тому, чтобы в момент величайшей опасности наших храбрых солдат не оказалось на посту, что действительно и произошло.
Таким образом, все было во вред благородным: то, что у них отняли, то, что им оставили и что хотели им дать, бедность одной их части, богатство другой, пороки и даже самые добродетели.
Но все это, о чем я ясно сказал, говоря о втором министерстве Неккера, являлось в такой же степени результатом действий правительства, как и общего хода событий. Это отнюдь не было делом низших классов, которые лишь извлекали из них выгоду. Можно сказать, что равенство шло им навстречу. Для противодействия ему требовалось, чтобы масса людей обладала такой умеренностью и таким даром предусмотрительности, к которым едва способны лишь некоторые особо одаренные лица.
Равенство обоих классов, уже введенное новыми нравами и общественными воззрениями, неизбежно должно было быть установлено законами, как только представился бы к этому случай. Тотчас после открытия Генеральных штатов представители третьего сословия начали нападение на два других. Его главными вождями были люди, которые, не принадлежа к третьему сословию, были брошены в его ряды обидами оскорбленного честолюбия или желанием открыть себе при помощи популярности дорогу к богатству. Возможно, что их не трудно было бы подчинить должному руководству, но потребность в этом ощутили лишь тогда, когда это не могло уже ни к чему повести.
Всякий призванный войти в какую-либо корпорацию должен подвергнуть проверке права, в силу которых он сделался ее членом, и основания, по которым он в нее вошел. Но перед лицом кого должен он доказывать свои права? Очевидно, перед теми, кто заинтересован исключительно в том, чтобы никто не проник в это собрание на основании вымышленных или недостаточных прав, то есть только перед самой корпорацией, если она уже образована, а если нет, то перед большинством тех, кто призван в нее войти. Так требует разум, и политика всех народов во все время следовала этому правилу.
Между тем представители третьего сословия считали, что члены других сословий должны узаконить свои полномочия перед тремя сословиями и должны вследствие этого собраться в одном помещении, иначе говоря, что проверка полномочий должна происходить совместно. Как только такое притязание было бы допущено, представители третьего сословия сказали бы представителям двух других: признав следствие, вы неизбежно признали и самый принцип; подобная проверка полномочий предполагает, что представители всех трех сословий образуют одно собрание; единое собрание допускает лишь общее обсуждение и индивидуальное голосование; так как представители всех трех сословий образуют одно собрание, то сословий больше нет, ибо сословия могут существовать лишь в виде отдельных и разделенных корпораций; там, где не существует сословий, должны прекратиться права и привилегии, образующие их. Этого хотели достичь представители третьего сословия, но, не дерзая идти к этому открыто, они избрали окольный путь.
Они продолжают настаивать на своих притязаниях, не предвидя всех их последствий и не отвергая их. В то время как продолжаются споры и обсуждение вопроса, представители третьего сословия объявляют себя Национальным собранием, придавая тем самым представителям двух других сословий характер как бы простых сборищ и предавая их народной ненависти, как чуждых нации и враждебных ей.
Я входил в состав представителей духовного сословия. Мое мнение сводились к тому, что Генеральные штаты следует распустить и, исходя из существующего положения, созвать их заново, следуя одному из тех способов, которые я раньше указал. Я дал этот совет графу д’Артуа, который был тогда ко мне расположен и, если бы я смел воспользоваться употребленным им выражением, чувствовал ко мне дружбу. Мой совет был найден слишком рискованным. Это означало бы действовать силой, а вокруг короля не было никого, кто мог бы ее применить. Я имел ночью в Марли несколько свиданий, которые были все бесполезны и показали мне, что я не в состоянии ничего сделать и потому должен, не будучи безумным, позаботиться о самом себе.
Так как состав Генеральных штатов явно сводил первые два сословия к нулю, то оставалось лишь одно разумное решение: уступать до того, как к этому принудят силой, и пока еще можно было поставить себе это в заслугу. Таким путем можно было воспрепятствовать крайностям и сразу принудить третье сословие к осторожности, сохранить влияние на общие прения и выиграть время, что часто означает выигрыш всего. Если еще оставался шанс восстановить свои позиции, то только таким путем. Поэтому я, не колеблясь, присоединился к числу тех, которые стояли за него.
Борьба продолжается, король вмешивается в нее в качестве посредника и терпит неудачу. Он отдает приказания представителям третьего сословия, но его не слушают; для того чтобы они не могли собираться, запирают залу заседаний. Они переходят в здание для игры в мяч и клянутся не расходиться, не создав конституции, иначе говоря, не разрушив конституции королевства. Тогда начинают помышлять насильственно остановить движение, которое не умели предвидеть, но сила выпадает из рук желающих ее применить. В один день вся Франция – города, села, деревушки – оказывается под ружьем. На Бастилию производится нападение, она взята или сдана в течение двух часов, а ее комендант убит. Народной ярости приносятся еще и другие жертвы. Тогда все сдается, Генеральные штаты больше не существуют, они уступают место единому и всемогущему собранию, и принцип равенства освящается. Все, кто советовал применить силу, кто привел ее в движение, кто возглавлял ее, помышляют лишь о своей безопасности. Часть принцев покидает королевство, и начинается эмиграция.
Граф д’Артуа первый подал к ней сигнал. Его отъезд причинил мне чрезвычайное огорчение, так как я любил его. Мне потребовались все силы разума, чтобы не последовать за ним и противостоять госпоже Кариньян, которая настаивала от его имени, чтобы я отправился вслед за ним в Турин. Было бы ошибочно выводить из моего отказа, что я осуждал эмигрантов. Почти всеми ими руководило благородное чувство и большое самоотвержение, но эмиграция основывалась на ошибочных предположениях. Лежали ли в ее основании страх перед опасностью, оскорбленное самолюбие, желание вернуть силой оружия потерянное или представление о долге, который должен быть выполнен, – со всех этих точек зрения мне представлялось, что она основывается на неправильном расчете. Необходимость эмигрировать могла возникнуть лишь в том случае, если бы Франция не давала вообще убежища от личной опасности или убежища достаточно верного, то есть в случае общей опасности для дворянства. Но такой опасности тогда не существовало; ее можно было предупредить, в то время как эмиграция прежде всего ее создала. Ни все дворянство в целом, ни его большинство не могло покинуть королевство. Возраст, пол, болезни, недостаток денег и другие не менее важные причины создавали для многих непреодолимое препятствие. Поэтому выехать могла лишь часть, и эта отсутствующая часть сословия неизбежно должна была скомпрометировать остальных. Подвергаясь подозрениям, а вскоре и ненависти, оставшиеся, которые не могли бежать, должны были из страха присоединиться к господствующему движению или сделаться его жертвой.
Дух равенства грозил тогда дворянству лишь одной потерей, именно титулов и привилегий. Эмиграция не предохранила от этой потери, но, напротив, эмигрировавшие французские дворяне подвергались опасности потерпеть еще более значительную утрату, именно имущества. Как бы ни была тяжела для дворянства потеря титулов и привилегий, все же она была несравненно легче, чем положение, в которое его ставил простой секвестр доходов. Сама по себе горечь от потери титулов могла быть смягчена уверенностью, что это поправимо, и даже надеждой на их восстановление. В великой и древней монархии дух равенства во всей его непреклонности представляет неизбежно временную болезнь, тем менее бурную и тем более короткую, чем слабее оказываемое ему сопротивление. Но имущества уже потерянные не так легко восстановить, как титулы; они могут быть отчуждены, переходить столько раз из рук в руки, что становится невозможным вернуть их и даже опасно пытаться это сделать. Тогда потеря их превращается в непоправимую беду не только для дворянства, но и для всего государства, которое не в состоянии полностью восстановить свою естественную организацию, когда один из его основных элементов уже не существует. Но дворянство, представляя основной элемент монархии, отнюдь не является простым ее элементом, так как одно рождение без состояния или состояние без рождения ни в коем случае не создают, с политической точки зрения, полного дворянства.
Нельзя было питать на этот счет иллюзии и верить, что все то, что благородное сословие в целом при всей сохранившейся еще у него силе и влиянии не могло защитить и удержать, может быть возвращено одними лишь силами той части сословия, которая покинула отечество. Таким образом вся его надежда сводилась к помощи иностранцев. Но разве эта помощь не представляла никакой опасности? Можно ли было ее принять без недоверия, если бы она была предложена, или взывать к ней без колебания? Размер полученного оскорбления не мог оправдать тех, кто призывал в свою страну иностранные силы. Для оправдания таких действий требовалось бы сочетание многих обстоятельств; они должны были бы вызываться большой и очевидной пользой для страны, невозможностью действовать каким-либо другим способом, уверенностью в успехе и в том, что как существование страны, так и ее целостность и будущая независимость не потерпят никакого ущерба. Но какая же могла быть уверенность в том, что сделают иностранцы, оказавшись победителями? Какая могла быть уверенность, что они ими будут? Была ли уверенность в получении от них настоящей помощи, и следовало ли полагаться на простые надежды? Зачем забегать вперед в расчете на помощь, которая, может быть, не придет, в то время как даже при уверенности в ней разум требовал, чтобы все оставались спокойны и ждали ее? Если бы того требовала общественная польза, то, спокойно ожидая эту помощь, можно было достигнуть лучших результатов путем совместного действия с иностранцами; это увеличило бы шансы на успех и не скомпрометировало бы ничего; вместо этого, призывая их, компрометировали все – родных, друзей, богатство и вместе с тем трон, и даже не только трон, но и жизнь государя и его семьи, которая, очутившись на краю пропасти или уже в пропасти, могла бы воскликнуть, поняв причину своих бедствий:
«Вот куда нас привела эмиграция!». (Я могу указать, что в прочтенных мною Воспоминаниях Клермон-Галлеранда110 имеется по этому поводу определенное мнение Людовика XVI. Они написаны рукой Клермона и находятся сейчас у маркиза Фонтенель. Клермон сообщает о возложенной на него королем миссии отправиться в Кобленц. Ему было поручено описать братьям короля личную опасность, которой подвергалась его жизнь благодаря эмиграции. Примечание Талейрана.)
Таким образом, эмиграция, которая далеко не может рассматриваться как исполнение долга, нуждается в оправдании, а его могла дать лишь огромная личная опасность, которой нельзя было бы избегнуть иным путем. Если когда-либо установится другой порядок вещей, то эти взгляды получат, как я надеюсь, распространение среди тех, которым, может быть, еще придется бороться с революционным потоком.
Итак, я решил не покидать Франции, пока меня к этому не принуждала личная опасность, не делать ничего, чтобы ее вызвать, не бороться с потоком, которому надо было дать пройти, но поставить себя в такое положение, чтобы иметь возможность спасать то, что еще можно было спасти, не мешать счастливому случаю и сохранить себя для него.
Еще прежде чем представители третьего сословия одержали победу над двумя другими, они занялись составлением декларации прав в подражание составленной английскими колониями, когда они провозгласили свою независимость. Ею продолжали заниматься и после слияния сословий. Эта декларация была не чем иным, как теорией равенства, сводившейся к следующему:
«Между людьми не существует никакого действительного различия и не должно быть никаких постоянных разделений, кроме тех, которые вызываются личными достоинствами. Различия, проистекающие из должностей, должны быть случайными и временными, чтобы право каждого претендовать на них не было иллюзорным. Народ является источником всякой политической власти, и он же ставит ей предел. Ему одному принадлежит суверенитет. То, что он желает, является законом, и ничто не может быть законом кроме того, что он желает. Если он не может сам осуществлять суверенитет, что бывает, когда он слишком многочислен для объединения в одном собрании, то он предоставляет его осуществление выбранным им представителям, которые могут делать все то, что мог бы делать он сам, и власть которых, вследствие этого, неограничена».
Несовместимость наследственной монархии с подобной теорией была очевидна. Тем не менее Национальное собрание добросовестно желало сохранить монархию и применить к ней республиканскую теорию, которая овладела всеми умами. Оно даже не подозревало о трудности их примирения, настолько невежество самонадеянно и страсти слепы. Путем самой дерзкой и самой наглой узурпации Национальное собрание присваивает себе право осуществления того суверенитета, который оно признает за народом; оно объявляет себя Учредительным собранием, то есть наделяет себя правом разрушать все то, что существует, и заменять его всем, чем ему будет угодно.
Тогда же сложилась печальная уверенность, что если бы его захотели распустить, то оно бы не подчинилось, и что нет способов принудить его к послушанию. Спор с ним не привел бы ни к чему. Ограничиваясь оспариванием у него права, которое оно себе приписывало, нельзя было воспрепятствовать его действиям; протест против них был преисполнен опасностей, которые ничему не помешали бы. Но король мог ему сказать: «Вы возводите в принцип, что суверенитет принадлежит народу. Вы утверждаете, что он передал вам полноту его осуществления. У меня есть на этот счет сомнения, чтобы не сказать больше. Необходимо до перехода к дальнейшему разрешить этот вопрос. Я не притязаю на то, чтобы стать его судьей, вы также не можете им быть, но народ является судьей, которого вы не вправе отвергнуть: я его опрошу, и его ответ будет для нас законом».
Более чем вероятно, что при проявлении хотя бы небольшого умения в период, когда революционные идеи еще не заразили массу и когда то, что позже было названо революционными интересами, еще не существовало, народ отрекся бы от доктрин собрания и осудил его притязания. Тогда было бы очень легко его распустить. После такого осуждения этих доктрин и притязаний с ними было бы раз навсегда покончено, но если бы народ, напротив, одобрил их своим голосованием, то он должен был бы подвергнуться их последствиям и подвергнуться по справедливости, так как у него была возможность предохранить себя от них, но он этого не пожелал; на монарха не легла бы тогда никакая ответственность. Из обращения к народу вытекала, правда, необходимость признать его за верховного владыку, если бы он объявил себя таковым; может быть, скажут, что этого следовало избежать любой ценой. Но в тот период обращение к народу не вызвало бы такой необходимости; напротив, оно представляло тогда единственный шанс ее избегнуть, превратив ее из уже наличной и безусловной в условную и просто возможную. Собрание присваивало себе власть, в основание которой оно клало суверенитет народа и которая не могла иметь другого оправдания. Признание этой власти вело, таким образом, тотчас же к признанию суверенитета народа и к абсолютной необходимости такого признания. Избегнуть этого можно было, лишь побудив собрание к отказу от своих притязаний, распустив его (два одинаково неисполнимых условия) или же призвав народ к голосованию против него, для чего надо было взять его в судьи. Тогда он либо осуществил бы, как мне кажется, возложенные на него надежды, либо же обманул бы их. В первом случае он пресек бы зло в момент его возникновения и обрек бы революцию на неудачу, во втором он сделал бы неизбежным то, что могло быть избегнуто только при его помощи, а это не увеличило бы зла, но лишь обнаружило бы его размеры. Отсутствие иллюзий относительно природы этого зла было бы даже полезно; была бы оставлена мысль победить мерами, способными лишь вызвать бедствие. Все почувствовали бы, что прежде, чем движение не пройдет всех стадий своего развития, нельзя рассчитывать ни на какие внутренние лекарства; поняли бы, насколько оно заразительно, и Европа не почила бы, как это случилось в действительности, в ложном и гибельном сознании своей безопасности. Таким образом, даже в самом худшем случае обращение к народу было бы весьма полезным шагом, не представляющим никаких неудобств. Почему же его не сделали? Может быть, вследствие предубеждений или страстей, так как предубеждения и страсти владели не только одною из борющихся сторон; может быть, потому, что такая мысль не явилась никому из лиц, входивших тогда в королевский совет.
После нескольких попыток применения силы их оставили почти тотчас же, как они были задуманы. Начали действовать исключительно интригой и стали пытаться разрушить власть, которой позволили приобрести такую силу, что ее уже нельзя было сдерживать или даже направлять столь слабым орудием.
Национальное собрание было таким образом предоставлено более или менее самому себе. Среди волновавших его страстей оно быстро потеряло из виду все принципы, лежащие в основе общества. Оно забыло, что гражданское общество не может существовать без определенной организации.
Зачарованное химерическими идеями равенства и суверенитета народа, собрание совершило тысячи ошибок.
Короля наделили званием первого представителя и уполномоченного народа и главы исполнительной власти, то есть такими полномочиями, которые ему не принадлежали и из которых ни одно не определяло функций, присущих ему в качестве монарха.
Право созывать, отсрочивать и распускать Законодательное собрание было у него отнято.
Это собрание, ставшее уже властью, было сделано постоянным и должно было в определенные сроки выбираться заново. Оно должно было состоять лишь из одной палаты.
Каждый совершеннолетний француз, не служащий по найму и не приговоренный к уголовным или к позорящим наказаниям, имел право быть выбранным или выбирать, если он уплачивал пятьдесят франков или три франка прямых налогов.
Выборы должны были происходить при полном смешении всех профессий.
Избрание епископов, судей и администрации было передано избирательным собраниям.
Король мог лишь временно отстранять представителей администрации. Право отрешения от должностей было передано тем же собраниям. Судьи назначались лишь на срок. Королю оставалась лишь инициатива мира или войны, но право формально объявлять войну или утверждать мир было предоставлено законодательной власти.
В армии ввели такую систему прохождения чинов, которая лишала короля двух третей его права назначения.
Король мог отвергать предложения Законодательного собрания, но с тем ограничением, что проекты, последовательно принятые тремя Законодательными собраниями, превращались в закон, несмотря на отказ короля в их утверждении.
Таков был основной закон, навязанный собранием политическому и гражданскому обществу во Франции; он сохранил лишь пустой призрак монархии.
Те, кто горячее других стремились к разрушению монархии, заметили, наконец, сами, что зашли слишком далеко, и попытались повернуть назад, но при этом они только утратили свою популярность. Поток, созданный невежеством и страстями, был так бурен, что его было невозможно остановить. Кто лучше предчувствовал связанные с ним опустошения, был вынужден ограничиться пассивной ролью, поскольку это допускалось осторожностью.
Я усвоил в общих чертах именно такое поведение. Тем не менее я счел нужным выступить по нескольким вопросам, относящимся к государственным финансам. Я возражал против выпуска ассигнаций и против понижения процентов по государственному долгу. Я установил довольно хорошо разработанные принципы, на которых, по моему мнению, должен был быть построен государственный банк. Я предложил декретировать единообразие мер и весов и взял на себя доклад о народном образовании от имени комитета по выработке конституции.
Для выполнения этой большой работы я обращался за указаниями к самым образованным лицам и самым видным ученым той эпохи, в которую жили Лагранж111, Лавуазье112, Лаплас113, Монж114, Кондорсе115, Вик д’Азир, Лагарп, и они все помогли мне. Я должен упомянуть о них, так как эта работа приобрела некоторую известность.
Возникло одно обстоятельство, при котором я счел нужным выступить, несмотря на всю свою неохоту. Меня побудили к этому следующие доводы. Учредительное собрание претендовало на то, чтобы регулировать самостоятельно одними лишь гражданскими законами все то, что до того регулировалось совместно духовными и светскими властями при помощи как канонических, так и гражданских законов. Оно составило для духовенства особую конституцию116 и потребовало от всех исправляющих свою должность церковнослужителей принесения ей присяги под угрозой объявления неподчинившихся отрешенными от должностей.
Почти все епископы отказались присягнуть; их кафедры были объявлены вакантными, и избирательные собрания назначили им заместителей. Новоизбранные были склонны отказаться от утверждения их римским престолом, но им невозможно было обойтись без посвящения на епископство, которое могло быть совершено лишь теми, кто носил этот сан. Если бы не нашлось никого для посвящения в епископский сан, то следовало бы сильно опасаться даже не упразднения культа, как это случилось несколько лет спустя, а иного. Меня сильнее пугала эта другая опасность, потому что она могла стать более длительной. Учредительное собрание могло при помощи своих доктрин толкнуть страну к пресвитерианству, которое более соответствовало господствовавшим тогда взглядам, и Франция могла отпасть от католичества, иерархия и формы которого гармонируют с монархической системой. Поэтому я воспользовался своим саном для посвящения одного из вновь избранных епископов, который в свою очередь посвятил других.
Исполнив это, я отказался от епископства Отенского и помышлял лишь об удалении от первого пройденного мною жизненного поприща. Я отдал себя во власть событий и мирился со всем, лишь бы только оставаться французом. Революция предвещала народу новые судьбы; я следовал за ее ходом и за ее превратностями. Я отдал ей в дар все свои способности, решив служить своей стране ради нее самой, и возложил все свои надежды на конституционные принципы, которые казались так близки к осуществлению. Этим объясняется, почему и как я несколько раз брал на себя государственные дела, оставлял их и снова возвращался к ним, а также роль, которую я в них играл.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































