Текст книги "Три товарища и другие романы"
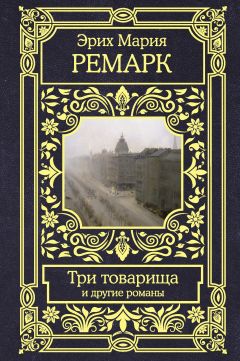
Автор книги: Эрих Мария Ремарк
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Она прильнула головой к моему плечу. Я почувствовал, что она устала.
– Проводить тебя домой? – спросил я.
– Сейчас. Прилягу только немного.
Она лежала на постели спокойно и молча, как будто спала. Но глаза ее были открыты, и порой в них пробегал отблеск рекламы, скользившей по потолку и стенам наподобие северного сияния. За окном все стихло. Только в квартире временами было слышно, как Хассе возится с остатками своих надежд, своего брака и своей жизни.
– Оставайся сразу здесь, – сказал я.
Она приподнялась на постели.
– Только не сегодня, милый…
– А мне бы хотелось, чтобы ты осталась…
– Завтра…
Она встала и бесшумно прошлась по темной комнате. Я вспомнил о том дне, когда она осталась у меня впервые. Тогда она вот так же бесшумно бродила по комнате и одевалась в серых сумерках рассвета. Не знаю почему, но мне показалось, что в этом есть что-то поразительно трогательное и естественное, что-то почти потрясающее, словно отзвук каких-то далеких, канувших в Лету времен, словно немое повиновение закону, которого никто больше не знает.
Она вернулась ко мне из темноты и взяла мое лицо в ладони.
– Хорошо мне было у тебя, милый. Очень хорошо. Я так рада, что ты есть.
Я ничего не ответил. Я не мог ничего ответить.
Я проводил ее домой и снова пошел в бар. Там был Кестер.
– Садись, – сказал он. – Как дела?
– Да не особенно, Отто.
– Выпьешь чего-нибудь?
– Если я начну пить, то выпью много. А этого я не хочу. Обойдется и так. Лучше бы мне заняться чем-нибудь еще. Готфрид сейчас на такси?
– Нет.
– Отлично. Тогда я покатаюсь несколько часиков.
– Я провожу тебя, – сказал Кестер.
Я взял в гараже машину и простился с Отто. Потом поехал на стоянку. Впереди меня уже были две машины. Позже подъехали Густав и Томми, актер. Вот обе передние машины ушли. Вскоре зафрахтовали и меня – некая девица пожелала в «Винету».
«Винетой» именовался популярный дансинг с телефонами на столах, пневматической почтой и прочими штучками для провинциалов. Помещался он на темной улице, в стороне от других увеселительных заведений.
Мы остановились. Девушка порылась в сумочке и протянула мне пятидесятимарковую бумажку. Я пожал плечами:
– К сожалению, у меня нет сдачи.
Подошел швейцар.
– Сколько я вам должна? – спросила девушка.
– Марку семьдесят.
Она обратилась к швейцару:
– Вы не заплатите за меня? Я рассчитаюсь с вами у кассы. Пойдемте.
Швейцар распахнул дверь и прошел с ней к кассе. Потом вернулся.
– Вот…
Я пересчитал деньги.
– Здесь марка пятьдесят…
– Не мели чепухи. Или у тебя еще молоко на губах не обсохло? Двадцать пфеннигов полагаются швейцару. Так что катись!
Бывало, что таксисты давали швейцарам на чай. Но это бывало, когда те приводили им выгодных клиентов, а не наоборот.
– Молоко-то как раз обсохло. Поэтому я получу марку семьдесят.
– Ты получишь в рыло! – рявкнул он. – Мотай, раз сказано! Я здесь не первый год и порядки знаю.
Дело было не в двадцати пфеннигах. Просто я не люблю, когда меня надувают.
– Не пой мне арии, – сказал я. – Отдавай остальные.
Швейцар ударил так резко, что я не успел прикрыться. Увернуться мне в машине и вовсе было некуда. Я врезался головой в баранку. В шоке отпрянул назад. Голова гудела, как барабан, из носа текло. Передо мной маячил швейцар.
– Навесить тебе еще, ты, труп кикиморы?
Я в долю секунды взвесил свои шансы. Ничего нельзя было сделать. Он был сильнее. Чтобы поймать такого на удар, нужно действовать неожиданно. Бить, сидя в машине, нельзя – удар не будет иметь силы. А пока вылезу, он трижды собьет меня с ног. Я смотрел на него. Он дышал мне в лицо пивным перегаром.
– Еще разок врежу – и жена твоя овдовеет.
Я смотрел на него. Только смотрел, не шевелясь, в это широкое, сытое мурло, пожирая его глазами. Я понимал, куда нужно бить, я был от ярости как стальная пружина. Но я не двигался. А только рассматривал эту харю, как в увеличительное стекло, – близко, отчетливо, крупным планом, каждый волосок щетины, каждую пору красной, обветренной кожи…
Блеснула каска полицейского.
– Что здесь происходит?
Швейцар придал лицу угодливое выражение.
– Ничего, господин вахмистр.
Полицейский посмотрел на меня.
– Ничего, – сказал я.
Он переводил взгляд с меня на швейцара.
– Ведь у вас кровь идет.
– Ударился.
Швейцар отступил на шаг. В его глазах играла усмешка. Он решил, что я просто побоялся донести на него.
– Тогда проезжайте, – сказал полицейский.
Я дал газ и поехал обратно на стоянку.
– Ну и видок у тебя, – сказал Густав.
– Пустяки, только нос, – ответил я и рассказал, как все было.
– Пойдем-ка в трактир, – сказал Густав. – Недаром я был санитаром на фронте. Какое, однако, свинство бить человека, когда он сидит.
Он отвел меня на кухню, потребовал льда и с полчаса возился со мной.
– Ну вот, – заявил он наконец, – теперь не останется и следа. Ну а как черепок? Не беспокоит? Тогда не будем терять времени.
Подошел Томми.
– Это такой верзила из «Винеты»? Бузила известный. Куражится, потому что ни разу не проучили.
– Ну, теперь он схлопочет, – сказал Густав.
– Да, но только от меня, – сказал я.
Густав недовольно взглянул на меня.
– Пока ты вылезешь из машины…
– А я кое-что придумал. Не получится – ты успеешь вмешаться.
– Ладно.
Я надел фуражку Густава, к тому же мы сели в его машину, чтобы усыпить внимание швейцара. Да и не разглядит он много в такой-то темноте.
Мы подъехали. На улице не было ни души.
Густав выскочил из машины, помахивая двадцатимарковой купюрой.
– Проклятие, опять нет мелких денег! Швейцар, разменяете? Сколько нужно? Марку семьдесят? Отдайте же ему, а я сейчас.
Он сделал вид, будто направился к кассе. Швейцар покашливая приблизился ко мне и протянул марку пятьдесят. Я продолжал держать вытянутую руку.
– Катись! – буркнул он.
– Гони монету, пес шелудивый! – рявкнул я.
На секунду он остолбенел. Потом слегка облизнул губы и вкрадчиво произнес:
– Пеняй на себя. Запомнишь надолго!
Он размахнулся. Он наверняка нокаутировал бы меня, но я был начеку: отклонился, пригнувшись, и его кулак со свистом пришелся на острые грани стальной заводной ручки, которую я незаметно держал наготове в левой руке. Швейцар взвыл и отскочил, тряся в воздухе рукой. Он шипел от боли, как паровая машина, и стоял совершенно открыто.
Я вылетел из машины.
– Узнал, скотина? – выдохнул я и ударил его в живот.
Он свалился.
– Один… два… три… – стоя у кассы, начал считать Густав.
При счете «пять» швейцар поднялся, глядя на меня остекленевшими глазами. Я снова до мельчайших деталей видел перед собой его физиономию, эту здоровую, широкую, глупую, подлую харю, видел его всего, этакого здорового, крепкого вахлака, этого борова, у которого никогда не будут болеть легкие; и я вдруг почувствовал, как багровая пелена застилает мне мозг и глаза, и я рванулся вперед и ударил, еще и еще, я бил и бил, вколачивая все, что накопилось во мне за эти дни и недели, в это здоровое, широкое, мычащее рыло, пока меня не оттащили…
– Опомнись, ты убьешь его!.. – кричал мне Густав.
Я пришел в себя, огляделся. Швейцар, истекая кровью, барахтался у стены. Вот он будто надломился, упал на четвереньки и, напоминая в своей сверкающей ливрее гигантское насекомое, пополз в сторону входа.
– Ну, теперь у него надолго пропадет охота драться, – сказал Густав. – Однако пора давать деру, пока никого нет. Это уже называется нанесением тяжелых телесных повреждений.
Мы бросили деньги на мостовую, сели в машину и уехали.
– А что, у меня тоже идет кровь? – спросил я. – Или это его?
– Опять нос, – сказал Густав. – У него прошел один красивый удар слева.
– А я даже не заметил.
Густав рассмеялся.
– А знаешь, – сказал я, – на душе как-то полегчало.
XVIII
Наше такси стояло перед баром. Я зашел туда, чтобы сменить Ленца, взять у него ключ и документы. Готфрид вышел со мной на улицу.
– Как с выручкой сегодня? – спросил я.
– Так себе, – ответил он. – То ли слишком много развелось такси, то ли слишком мало людей стало, которые ездят на такси. А у тебя как?
– Плохо. Простоял почти всю ночь, не наскреб и двадцати марок.
– Печальные времена! – Готфрид вскинул брови. – Ну так ты сегодня, видимо, не очень торопишься?
– Нет, а почему ты спрашиваешь?
– Может, подбросишь меня тут неподалеку…
– Лады. – Мы сели. – А куда тебе? – спросил я.
– К собору.
– Куда, куда? – переспросил я. – Я, вероятно, ослышался? Мне померещилось, будто ты сказал к собору.
– Нет, сын мой, ты не ослышался. Именно к собору!
Я удивленно посмотрел на него.
– Ничему не удивляйся, а поезжай, – сказал Готфрид.
– Ну-ну.
Мы поехали.
Собор находился в старой части города, на просторной площади, сплошь окруженной домами духовных особ. Я остановился у главного портала.
– Дальше, – сказал Готфрид. – Вокруг.
Он велел остановить у небольшого входа с тыловой стороны собора и вылез из машины.
– Ты, кажется, хочешь исповедаться, – сказал я. – Желаю успеха.
– Пойдем-ка со мной, – ответил он.
Я рассмеялся.
– Только не сегодня. С утра уже помолился. Обычно мне этого хватает на весь день.
– Не болтай глупости, детка! Пойдем со мной. Сегодня я щедрый, покажу тебе кое-что.
Меня разобрало любопытство, и я последовал за ним. Мы вошли через какую-то маленькую дверь и сразу же очутились в крытой галерее внутреннего монастырского двора. Длинные ряды арок, опиравшихся на серые гранитные колонны, образовывали большой прямоугольник с садиком внутри. В середине помещался большой полуразрушенный от времени крест с фигурой Спасителя. По сторонам были каменные барельефы с изображением мучительных страстей Господних. Перед каждым изображением стояла старая скамья для молящихся. Сад одичал и цвел буйным цветом.
Готфрид показал мне рукой на несколько могучих кустов белых и красных роз.
– Вот что я хотел тебе показать! Узнаешь?
Я остановился в изумлении.
– Конечно, узнаю, – сказал я. – Так вот где ты снял урожай, старый потрошитель церквей!
Неделю назад Пат переехала в пансион фрау Залевски, и в тот же день вечером Ленц прислал ей с Юппом огромный букет роз. Их было столько, что Юппу пришлось дважды спускаться к машине, каждый раз возвращаясь с полной охапкой. Я уже тогда ломал себе голову, гадая, где Готфрид мог их раздобыть, я ведь знал его принцип – цветов не покупать. А в городских парках я таких роз не видел.
– Идея стоящая! – признал я. – До этого надо было додуматься!
Готфрид заулыбался:
– Здесь не сад, а золотая жила! – Он торжественно положил мне руку на плечо. – Беру тебя в долю! Я полагаю, теперь тебе это будет особенно кстати.
– Почему именно теперь? – спросил я.
– Потому что городские насаждения как-то заметно опустели в последнее время. А ведь они были единственным пастбищем, на котором ты пасся, не так ли?
Я кивнул.
– Кроме того, – продолжал Готфрид, – ты теперь вступаешь в период, когда сказывается разница между мещанином и благородным кавалером. Мещанин чем дольше знает женщину, тем меньше оказывает ей знаков внимания. Кавалер действует противоположно. – Он сделал широкий жест рукой. – А с этаким-то садом ты можешь переплюнуть всех кавалеров!
Я рассмеялся.
– Все это хорошо, Готфрид, – сказал я. – Но каково, если поймают? Удирать отсюда непросто, а люди набожные, чего доброго, квалифицируют мои действия как осквернение святыни.
– Юный друг мой, – произнес Ленц, – разве ты здесь кого-нибудь зришь? После войны люди предпочитают ходить на политические собрания, а не в церковь.
Это было верно.
– Ну а как же пасторы? – спросил я.
– Пасторам нет дела до цветов, иначе они ухаживали бы за садом. А Господу Богу сие будет только угодно, ежели ты порадуешь кого-нибудь цветами. Он-то не из скряг. Это старый солдат.
– Тут ты прав! – Я окинул взором огромные старые кусты. – На ближайшие недели я обеспечен, Готфрид.
– Больше чем на недели. Тебе повезло. Это очень устойчивый и долгоцветущий сорт роз. Их тебе хватит по меньшей мере до сентября. А там пойдут астры и хризантемы. Идем, я тебе заодно покажу.
Мы пошли по саду. Розы источали дурманящий аромат. Тучами с цветка на цветок перелетали гудящие рои пчел.
– Посмотри-ка на них, – сказал я, останавливаясь. – Они-то как попали сюда? В самый центр города? Ведь поблизости не может быть никаких ульев. Разве что пасторы держат их на крыше?
– Нет, брат мой, – ответил Ленц. – Могу побиться об заклад, что они прилетают с какого-нибудь крестьянского хутора. Просто они хорошо знают свой путь. – Он прищурил глаза. – В отличие от нас, не так ли?
Я пожал плечами:
– Может, и знаем. Хоть какой-то отрезок. Насколько нам это дано. А ты не знаешь?
– Нет. Да и не хочу знать. Всякие там цели делают жизнь буржуазной.
Я взглянул на башню собора. Она отливала зеленым шелком на фоне небесной голубизны, бесконечно старая и безмятежная, в подвижном венчике ласточек.
– Как здесь тихо, – сказал я.
Ленц кивнул.
– Да, старичок, здесь-то и понимаешь, что тебе, в сущности, всегда не хватало одного-единственного, чтобы стать хорошим человеком, – времени. Не так ли?
– Времени и покоя, – ответил я. – Покоя не хватало тоже.
Он засмеялся.
– Теперь слишком поздно! Теперь никакого покоя мы бы не вынесли. Поэтому – вперед! То бишь назад к привычной сутолоке!
Высадив Ленца, я вернулся на стоянку. По пути проехал и кладбище. Я знал, что Пат в это время лежит в своем шезлонге на балконе, и, проезжая мимо, несколько раз посигналил. Никто, однако, не показался, и я поехал дальше. Зато там я увидел фрау Хассе, плывшую по улице в своей напоминавшей фату шелковой пелерине. Она повернула за угол. Я поехал за ней, чтобы спросить, не нужно ли ее куда-нибудь подвезти. Но, добравшись до перекрестка, я увидел, как она садится в машину, стоявшую за углом. Это был довольно-таки обшарпанный лимузин образца тысяча девятьсот двадцать третьего года, который немедленно затарахтел и тронулся. За рулем сидел мужчина с утиным носом в броском клетчатом костюме.
Я довольно долго смотрел вслед машине. Вот что, значит, бывает, когда женщина подолгу сидит дома одна. Я в глубокой задумчивости поехал на остановку, где присоединился к веренице ожидающих клиентов такси.
Солнце накалило крышу машины. Очередь двигалась медленно. Я подремывал, пытался даже уснуть. Однако «умыканье» фрау Хассе не давало мне покоя. Конечно, у нас все по-другому, но ведь Пат в конце концов тоже весь день сидит дома одна.
Я вылез из машины и направился вперед, к Густаву.
– На-ка, выпей, – предложил он мне, протягивая термос. – Напиток холодный, просто чудо! Собственное изобретение! Кофе со льдом. Держится в таком виде часами при любой жаре. Да, Густав – человек практичный!
Я выпил стаканчик.
– Раз уж ты такой практичный, – сказал я, – то подскажи мне, чем занять женщину, которая много времени проводит одна.
– Нет ничего проще! – Густав взглянул на меня с видом превосходства. – Чудило ты, Роберт! Ребенок или собака! Спросил бы что-нибудь посложнее!
– Собака! – опешил я от изумления. – Черт побери, конечно, собака! Ты прав! У кого есть собака, тот не одинок.
Я предложил ему сигарету.
– Послушай, а ты, случайно, не в курсе, где их берут? Вряд ли такое добро теперь дорого.
Густав укоризненно покачал головой:
– Нет, Роберт, ты и в самом деле не представляешь, кого имеешь в моем лице. Ведь мой будущий тесть – второй секретарь ферейна, объединяющего владельцев доберман-пинчеров! Разумеется, ты получишь щенка самых лучших кровей, и даже бесплатно. Есть у нас как раз один помет, четыре плюс два, бабушка – медалистка Герта фон дер Тоггенбург.
Густав был из тех, кто родился в рубашке. Отец его невесты не только разводил доберманов, но и содержал трактир – «Новую келью»; а невеста его, помимо всего прочего, была владелицей плиссировочной мастерской. Позиции Густава благодаря этому были самые первоклассные. У тестя он столовался на дармовщинку, а невеста стирала и гладила ему рубашки. Он не торопился с женитьбой. Ведь тогда у него прибавилось бы забот.
Я объяснил Густаву, что доберман – это не совсем то, что нужно. Слишком уж крупен, да и характер ненадежный. Густав недолго раздумывал. Как бывалый вояка, он привык действовать немедленно.
– Пойдем со мной, – сказал он. – На разведку. Есть у меня кое-что на примете. Только ты не встревай в мои переговоры.
– Ладно.
Он привел меня к небольшой лавке. В витрине были выставлены аквариумы с водорослями. Тут же в ящике сидели две понурые морские свинки. По бокам висели клетки, в которых неутомимо резвились чижики, зяблики, канарейки.
К нам вышел небольшой кривоногий человечек в коричневой вязаной жилетке. Водянистые глаза, поблекшая кожа лица и целый фонарь вместо носа – видать, заядлый поклонник пива и шнапса.
– Скажи-ка, Антон, как поживает Аста? – спросил Густав.
– Второй приз и почетная грамота в Кёльне, – ответил Антон.
– Какая подлость! – воскликнул Густав. – Отчего же не первый?
– Первый они сунули Удо Бланкенфельзу, – буркнул Антон. – Оборжаться можно! Жулики!
Где-то в глубине лавки слышалось тявканье и скулеж. Густав прошел туда. И тут же вернулся, держа за шиворот двух маленьких терьеров – в левой руке черно-белого, в правой – красновато-бурого. Он незаметно встряхнул того, что был в правой. Я взглянул на него: да, подходящий.
Щенок был красив на загляденье. Лапки прямые, тельце квадратное, головка прямоугольная. Вид лихой и смышленый. Густав выпустил щенков из рук.
– Смешной метис, – сказал он, показывая на красновато-бурого. – Откуда он у тебя?
Антон сказал, что ему оставила его одна дама, уехавшая в Южную Америку. Густав разразился недоверчивым смехом. Антон, обидевшись, полез за родословной, восходившей аж к Ноеву ковчегу. Густав только махнул рукой и стал выказывать интерес к черно-белому щенку. Антон потребовал сто марок за бурого. Густав предложил пять. Его не устраивал прадедушка. Да и хвост вызывал сомнения. Уши тоже были не вполне. Вот черно-белый – тот был на все сто.
Я стоял в углу и слушал. Вдруг кто-то дернул меня за шляпу. Я с удивлением обернулся. В углу на шесте сидела маленькая сгорбленная обезьянка с рыжеватой шерстью и грустной мордочкой. У нее были черные круглые глазки и рот в озабоченных старушечьих складках. Она была опоясана кожаным ремнем, соединенным с цепью. Маленькие черные руки ее до ужаса походили на человечьи.
Я стоял спокойно, не шевелясь. Обезьянка медленно приблизилась ко мне по шесту. При этом она неотрывно смотрела на меня, без недоверия, но каким-то странным, отрешенным взглядом. Наконец она осторожно протянула лапу. Я подставил ей палец. Она сначала отпрянула назад, но потом взяла его. Было так странно ощущать эту прохладную детскую ручку, стиснувшую мой палец. Казалось, что в этом жалком тельце заключен несчастный, немотствующий человек, который хочет выйти наружу. Его взгляд, полный смертельной тоски, нельзя было вынести долго.
Отдуваясь, Густав выбрался тем временем из леса родословных дерев.
– Стало быть, по рукам, Антон, получишь за него щенка добермана от Герты. Лучшая сделка за всю твою жизнь! – Потом он обратился ко мне: – Возьмешь его сразу?
– А сколько он стоит?
– Нисколько. Я выменял его на добермана, которого подарил тебе раньше. Да, брат, Густав умеет обделывать дела! Густав – золото, а не парень!
Мы договорились, что я заеду за щенком попозже, когда буду возвращаться из рейса.
– Ты хоть представляешь себе, что заполучил? – спросил Густав, когда мы вышли. – Это же ирландский терьер! Большая редкость! Чистейших кровей, без единого изъяна! Да еще родословная такая, что ты, раб Божий, должен кланяться этой скотине в пояс, когда захочешь поговорить с ней.
– Густав, – сказал я, – ты оказал мне великую услугу. Пойдем-ка выпьем за это дело лучшего коньяку, который только найдется.
– Только не сегодня! – заявил Густав. – Сегодня у меня должна быть твердая рука. Иду вечером в наш кегельбан. Обещай, что ты как-нибудь сходишь со мной! Там очень приличные люди, есть даже один обер-постсекретарь.
– Как-нибудь схожу, – сказал я. – Даже если там не будет обер-постсекретаря.
Около шести я вернулся в мастерскую. Кестер поджидал меня.
– Сегодня днем звонил Жаффе. Просил тебя позвонить.
Я обомлел.
– Он сказал что-нибудь, Отто?
– Нет, ничего особенного. Сказал только, что принимает до пяти у себя, а потом поедет в больницу Святой Доротеи. Так что тебе надо звонить туда.
– Хорошо.
Я пошел в контору. Там было тепло и душно, но меня бил озноб, и телефонная трубка дрожала в моей руке.
– Не дури, – сказал я самому себе и покрепче уперся локтем в стол.
Я дозвонился не скоро.
– У вас есть время? – спросил Жаффе.
– Да.
– В таком случае не откладывая приезжайте. Я буду здесь еще в течение часа.
Я хотел спросить его, не случилось ли чего с Пат. Но так и не решился.
– Хорошо, – сказал я, – через десять минут я буду у вас.
Я нажал на рычаг и тут же позвонил домой. Сняла трубку Фрида. Я попросил позвать Пат.
– Не знаю, дома ли, – последовал недовольный ответ. – Сейчас гляну.
Я ждал. Голову распирало от горячего дурмана. Время тянулось бесконечно. Наконец в трубке послышался шорох, а за ним голос Пат:
– Робби?
На миг я закрыл глаза.
– Как дела, Пат?
– Хорошо. Сижу на балконе, читаю. Книжка интересная – не оторвешься.
– Книжка интересная, вот оно что… – сказал я. – Это прекрасно. Я только хотел сказать, что сегодня приду чуточку позже. Ты уже дочитала свою книгу?
– Нет, я на самой середине. На несколько часов еще хватит.
– А, ну я буду значительно раньше. А ты читай пока.
Я посидел еще немного в конторе. Потом поднялся.
– Отто, – сказал я, – можно взять «Карла»?
– Конечно. Если хочешь, я поеду с тобой. Мне здесь нечего делать.
– Не стоит. Ничего не случилось. Я уже звонил домой.
«Какое небо, – думал я, когда „Карл“ пулей летел по улице, – какое чудесное небо вечерами над крышами! Как богата и прекрасна жизнь!»
Мне пришлось немного подождать Жаффе. Сестра провела меня в маленькую комнату, где можно было занять себя старыми журналами. На подоконнике выстроились цветочные горшки с вьющимися растениями. Вечные журналы в коричневых обложках и вечно унылые вьющиеся растения – неизбежная принадлежность приемных врачей и больниц.
Вошел Жаффе. На нем был белоснежный халат, на котором еще не разгладились складки от утюжки. Но когда он подсел ко мне, я заметил на внутренней стороне правого рукава маленькое алое пятнышко крови.
Я немало повидал крови в своей жизни, но это крохотное пятнышко подействовало на меня куда более угнетающе, чем все пропитанные кровью повязки. И моей уверенности как не бывало.
– Я обещал вам рассказать, как обстоят дела у фройляйн Хольман, – сказал Жаффе.
Я кивнул, глядя на пеструю плюшевую скатерть. Я не мог оторвать глаз от переплетения шестиугольников на ней, про себя идиотски решив, что все оборвется, если только я не моргну до тех пор, пока Жаффе заговорит снова.
– Два года назад она шесть месяцев провела в санатории. Вы знаете об этом?
– Нет, – сказал я, по-прежнему глядя на скатерть.
– После этого ее состояние улучшилось. Теперь я ее тщательно исследовал. Этой зимой ей непременно следует снова поехать туда. Ей нельзя оставаться в городе.
Я все еще смотрел на шестиугольники. Они уже начали расплываться и танцевать у меня перед глазами.
– Когда нужно ехать? – спросил я.
– Осенью. Самое позднее – в конце октября.
– Значит, кровотечение не было случайным?
– Нет.
Я оторвал глаза от скатерти.
– Вероятно, мне не нужно рассказывать вам о том, – продолжал Жаффе, – что эта болезнь непредсказуема. Год назад казалось, что процесс остановился, произошло инкапсулирование, и можно было предположить, что очаг закрылся. И так же, как недавно процесс неожиданно возобновился, он может в любой момент столь же внезапно прекратиться. Это не просто слова – так действительно бывает. Я сам наблюдал случаи удивительного исцеления.
– Но и ухудшения тоже?
Он посмотрел на меня.
– И это тоже, конечно.
Он стал входить в детали. Оба легкие были поражены, правое меньше, левое больше. Потом, прервавшись, он позвонил в звоночек. Появилась сестра.
– Принесите-ка мой портфель.
Сестра принесла то, что требовали. Жаффе вынул из портфеля два огромных похрустывающих конверта с фотоснимками. Он извлек их и поднес к окну.
– Так виднее. Это рентгеновские снимки.
На прозрачной серой пластинке я увидел сплетения позвоночника, лопатки, ключицы, плечевые суставы и плоские сабли ребер. Но я увидел больше – я увидел скелет. Он как темный призрак проступал на фоне бледных, расплывающихся пятен снимка. Я увидел скелет Пат. Скелет Пат.
Взяв пинцет, Жаффе стал указывать мне на отдельные линии и пятна, объясняя, что они значат. Педантизм ученого овладел им настолько, что он даже не заметил, что я не смотрю на снимок. Наконец он обратился ко мне:
– Вы поняли?
– Да, – сказал я.
– А что же у вас такой вид?
– Нет, нет, ничего, – сказал я, – просто я плохо вижу.
– Ах вот что. – Он поправил очки. Потом снова засунул снимки в конверты и испытующе посмотрел на меня. – Не забивайте себе голову бесполезными размышлениями.
– Я этого и не делаю. Но что за напасть проклятая! Миллионы людей здоровы! Почему именно она должна быть больна?
Жаффе помолчал.
– На этот вопрос вам никто не ответит, – сказал он потом.
– Да, – воскликнул я в порыве горького и слепого бешенства, – на этот вопрос никто не ответит! Разумеется! Кто в ответе за людские страдания и смерть! Вот ведь проклятие! Главное – ничего нельзя сделать.
Жаффе долго смотрел на меня.
– Простите, – сказал я. – Но я не умею обманывать себя. Вот в чем весь ужас.
Он продолжал смотреть на меня.
– У вас есть немного времени? – спросил он.
– Да, – сказал я. – Времени у меня достаточно.
Он встал.
– У меня сейчас вечерний обход. Мне хотелось бы, чтобы вы пошли со мной. Сестра даст вам белый халат. Пациенты посчитают вас моим ассистентом.
Я не мог понять, чего он хочет, но покорно взял халат, который протянула мне сестра.
* * *
Мы шли длинными коридорами. Сквозь широкие окна в них проникал розовый закат. Свет был мягкий, приглушенный, призрачный и парящий. Некоторые окна были открыты. В них лился запах цветущих лип.
Жаффе открыл одну из дверей. Навстречу нам ударил удушливый, гнилостный запах. Женщина с чудесными волосами цвета старинного золота, испещренными солнечными бликами, с усилием подняла руку. Чистый лоб, по-благородному узкая голова. Однако под самыми глазами начиналась повязка, доходившая до рта. Жаффе осторожно снял ее. Я увидел, что у женщины не было носа. На месте носа зияла кроваво-красная рана, покрытая струпьями, с двумя дырочками посередине. Жаффе снова наложил повязку.
– Все хорошо, – мягко сказал он женщине и повернулся к выходу.
Он прикрыл за собой дверь. В коридоре я задержался, уставившись на вечереющее небо за окном.
– Пойдемте же! – сказал Жаффе и первым вошел в следующую палату.
Нас встретили тяжелое дыхание и стоны метавшегося в жару человека. То был мужчина с лицом оловянного цвета, на котором странно выделялись яркие алые пятна. Его рот был широко раскрыт, глаза повылезали из орбит, а руки беспокойно бегали по одеялу. Он был без сознания. На доске с отметками температуры устойчиво держалась цифра сорок. У его постели сидела сестра и читала. Когда вошел Жаффе, она отложила книгу и встала. Он бросил взгляд на доску и покачал головой:
– Двустороннее воспаление легких плюс плеврит. Вот уже неделю сражается за свою жизнь, как бык. Рецидив. Слишком рано вышел на работу. Жена и четверо детей. Безнадежен.
Он прослушал легкие больного и проверил его пульс. Сестра помогала ему. При этом она уронила на пол свою книгу. Я поднял ее и увидел, что это была поваренная книга. Руки больного непрерывно, как пауки, елозили по одеялу, издавая царапающий звук – единственный в тишине комнаты.
– Останьтесь здесь на ночь, сестра, – сказал Жаффе.
Мы вышли в коридор. Розовый закат за окном сгустился. Теперь он плавал в окнах, как облако.
– Ну и свет, будь он неладен, – сказал я.
– Почему? – спросил Жаффе.
– Очень уж это все не сочетается. Одно с другим.
– Почему же? – сказал Жаффе. – Сочетается.
В следующей палате хрипела женщина. Ее доставили днем с тяжелым отравлением вероналом. Накануне случилось несчастье с ее мужем. Он сломал позвоночник, и его, орущего от боли и в полном сознании, принесли домой, где он и умер ночью.
– Она выживет? – спросил я.
– Вероятно.
– А зачем ей жить?
– За последние годы у меня было пять подобных случаев, – сказал Жаффе. – И только одна попыталась покончить с собой вторично. Газом. Она умерла. Остальные живы, а две так и вовсе вышли замуж вторично.
В следующей палате лежал мужчина, который был парализован уже двенадцать лет. У него была восковая кожа, жидкая черная борода и огромные тихие глаза.
– Как дела? – спросил Жаффе.
Мужчина сделал неопределенный жест рукой. Потом показал на окно.
– Взгляните, какое небо. Будет дождь. Я это чувствую. – Он улыбнулся. – Когда идет дождь, лучше спится.
Перед ним на одеяле лежала кожаная шахматная доска с дырочками для фигур. Тут же кипа газет и несколько книг.
Мы пошли дальше. Я видел совершенно истерзанную родами молодую женщину с синими губами и глазами, в которых застыл ужас; видел ребенка-калеку с недоразвитыми вывернутыми ножками и водянкой головы; мужчину, у которого вырезали желудок; похожую на сову старушку, горько плакавшую оттого, что родные не желали заботиться о ней, ибо она, по их мнению, слишком уж зажилась на свете; слепую, истово верившую в то, что снова прозреет; пораженного сифилисом ребенка с кровоточащей сыпью и его отца, сидевшего у постели; женщину, у которой утром отняли вторую грудь, и другую, скрюченную ревматизмом суставов; и третью, у которой вырезали яичники; рабочего с раздавленными почками… Палата сменялась палатой, и в каждой палате было одно и то же – почти безжизненные лица, стонущие, изуродованные тела, сведенные судорогой или парализованные, какой-то клубок, какая-то нескончаемая цепь страданий, страха, покорности, боли, отчаяния, надежды, горя; и всякий раз, когда мы закрывали дверь в палату, нас внезапно снова окутывал розовый свет этого нездешнего вечера, всякий раз ужасы больничных казематов сменяло это нежное облако из мягкого, отливающего пурпуром сияния, о котором нельзя было определенно сказать, чего в нем заключено больше – убийственной насмешки или непостижного человеческому уму утешения.
Жаффе остановился у входа в операционный зал. В матовое стекло двери бил яркий свет. Две сестры вкатили в зал плоскую каталку. На ней лежала женщина. Я встретился с ней взглядом. Но она меня словно не видела. Ее взгляд был устремлен куда-то неизмеримо дальше меня. Но я даже вздрогнул от этого взгляда – столько в нем было твердой решимости и спокойствия.
Теперь вдруг лицо Жаффе показалось мне страшно усталым.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































