Текст книги "Три товарища и другие романы"
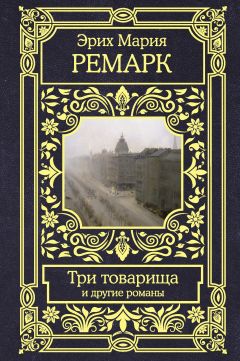
Автор книги: Эрих Мария Ремарк
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– А вам что, тоже захотелось в больницу? – бросил нам Фогт.
Кестер, ни слова не говоря, подошел к разбитой машине. Три остальных Фогта выпрямились и встали плотнее друг к другу.
– Дайте-ка буксирный трос, – сказал нам Кестер.
– Да ты что? – сказал здоровяк, который был на голову выше Кестера.
– Весьма сожалею, – сказал Кестер, – но машину заберем мы.
Мы с Ленцем придвинулись еще ближе, держа руки в карманах. В тот же миг Фогт отшвырнул его ударом ноги в сторону. Отто был к этому готов: падая, он успел схватить Фогта за ногу и повалить его. Быстро вскочив затем на ноги, он ударил головой в живот следующего Фогта, замахнувшегося на него ручкой от домкрата. Тот пошатнулся и тоже упал. В ту же секунду мы с Ленцем бросились на двоих оставшихся. Я напоролся на прямой удар – не сильный, но из носа пошла кровь, а я свой удар смазал: кулак скользнул по жирному подбородку противника. Тут же я получил удар в глаз и упал, да так неудачно, что подвернулся под руку тому Фогту, которого сбил ударом головы Отто. Теперь он, схватив меня за горло, прижал мою голову к асфальту. Я напряг мускулы шеи, не давая себя задушить, а сам пытался вывернуться, сбросить его с себя с помощью ног. Но, на мою беду, мои ноги придавили своими телами Ленц с его Фогтом: сцепившись, они рухнули наземь как раз на меня. Высвободиться не удавалось. Дышать становилось все труднее – на шею давили, а из носа шла кровь. Постепенно перед глазами моими все поплыло, физиономия Фогта затряслась, как желе, замелькали какие-то тени. Почти теряя сознание, я вдруг заметил рядом с собой Юппа; стоя на коленях в кювете, он спокойно и внимательно следил за нашей судорожной борьбой и, дождавшись мига, когда оба мы замерли, ударил Фогта молотком по запястью. После второго удара Фогт выпустил меня и с яростным воплем, приподнимаясь с земли, бросился на Юппа, который ловко уклонился и еще раз смачно ударил его молотком по пальцам, а потом и по голове. Я вскочил на ноги, навалился на Фогта и, в свою очередь, стал душить его за горло. В эту секунду воздух содрогнулся от звериного вопля, а затем раздался жалобный стон: «Отпусти! Да отпусти же!»
То был Фогт-старший. Поймав его руку, Кестер резко завел ее за спину. Фогт ткнулся головой в землю, а Кестер, упершись коленом ему в спину, продолжал закручивать руку. Одновременно он придвигался коленом к его затылку. Фогт уже просто выл, но Кестер знал, что кончать этого малого нужно по-настоящему, иначе покоя не будет. Он рывком вывихнул ему руку и лишь после этого отпустил. Фогт не поднимался. Я оглядел поле сражения. Один из Фогтов еще держался на ногах, но вопли старшего брата буквально парализовали его.
– Убирайтесь, а не то добавим, – сказал ему Кестер.
Напоследок я еще раз стукнул своего Фогта головой об асфальт и после этого отпустил его. Ленц уже стоял около Кестера. Куртка его была порвана, из угла рта текла кровь. В его поединке не было победителя, так как противник, хоть и был весь в крови, тоже еще держался на ногах. Однако поражение старшего брата решило все. Младшие братья не смели теперь и пикнуть. Они помогли старшему встать на ноги и пошли к своей машине. Потом менее всех пострадавший вернулся за домкратом. Он покосился на Кестера с таким ужасом, будто перед ним был сам дьявол. Затем «мерседес» затарахтел и отъехал.
Как из-под земли вырос кузнец.
– Они свое схлопотали, – сказал он. – Давно с ними такого не приключалось. Старший-то уже отсидел за убийство.
Никто ему не ответил. Кестер вдруг весь передернулся.
– Свинство есть свинство, – сказал он. Потом повернулся: – А теперь за дело!
– Я уж при деле, – заявил Юпп, подтаскивая буксирный трос.
– Поди-ка сюда, – сказал я ему. – С сегодняшнего дня ты у нас унтер-офицер и можешь начинать курить сигары.
Мы приподняли остов разбитой машины и, поставив ее передними колесами на задний бампер «Карла», закрепили тросом.
– А не повредит ли это «Карлу», как ты думаешь? – спросил я Кестера. – В конце концов, «Карл» – скаковая лошадь, а не вьючный осел.
Отто покачал головой:
– Тут ведь недалеко. И дорога ровная.
Ленц сел в пострадавшую машину, и мы медленно тронулись в путь. Прижимая платок к носу, я поглядывал на вечереющие поля и закатывающееся солнце. На всем лежала печать неправдоподобного, ничем не смущаемого покоя, и ясно чувствовалось, что природе глубоко безразлично, чем занят на свете злобный муравейник, именуемый человечеством. Куда больше важности было в том, что облака сгрудились теперь, как златоглавые горы, что с горизонта не торопясь наплывали лиловые тени сумерек, что жаворонки, падая с безграничных небесных высот, приникали к земным своим норам и что постепенно опускалась на землю ночь.
Мы въехали в наш двор. Ленц выбрался из развалины и снял перед ней шляпу.
– Будь благословен, убогий странник! Тебя привело сюда несчастье, однако ж нам ты, если мерить на самый первый, но преисполненный любви глазок, принесешь от трех до трех с половиной тысяч. А теперь попрошу стакан доброй вишневки да кусок мыла – надо ведь покончить с воспоминаниями о досточтимом семействе Фогтов!
Мы все выпили по стакану, а потом сразу же приступили к разборке машины на возможно большее количество деталей. Дело было в том, что заказа самого владельца машины зачастую оказывалось недостаточно – являлись представители страхового общества и забирали ее в одну из своих мастерских. Поэтому чем больше мы разберем, тем лучше. Расходы на сборку будут тогда столь высоки, что выгоднее оставить машину у нас. Вот мы и работали до полной темноты.
– Ты еще поедешь сегодня на такси? – спросил я Ленца.
– Исключено, – сказал Готфрид. – Ни в коем случае нельзя преувеличивать значение заработка. На сегодня с меня вполне достаточно этой страдалицы.
– А с меня нет, – сказал я. – Раз ты не едешь, то я сам пощиплю тогда травку у ночных заведений между одиннадцатью и двумя.
– Оставь, – сказал Ленц улыбаясь. – Посмотри лучше на себя в зеркало. Что-то не везет тебе с носом в последнее время. А к человеку с таким фонарем, как у тебя, никто и не сядет. Ступай-ка домой да сделай компресс.
Он был прав. С таким носом действительно нельзя было ехать. Поэтому я вскоре простился со всеми и отправился домой. По дороге я встретил Хассе и до самого дома шел с ним. Вид у него был неряшливый и несчастный.
– Что-то вы похудели, – сказал я.
Он кивнул и рассказал мне, что практически перестал толком ужинать. Жена что ни день пропадает у приятельниц, которых с недавних пор себе завела, домой возвращается поздно. Он, конечно, рад, что она нашла себе развлечение, но самому готовить еду вечерами не хочется. Да и устает он за день так, что пропадает охота даже к еде.
Я искоса поглядывал на него, пока он, опустив плечи, вышагивал рядом. Может, он и вправду верил в то, что говорил, но все равно слушать все это было ужасно. Ведь всего толики прочности и толики денег хватило бы, чтобы поддержать, спасти этот брак и эту кроткую, неприметную жизнь. Я думал о том, что таких людей, которые нуждаются в толике прочности и толике денег, миллионы. Вся жизнь человека каким-то чудовищным образом скукожилась, испоганилась, превратилась в жалкую борьбу за голое выживание. Я вспомнил о сегодняшней драке, вспомнил о том, что видел и что сам делал в последнее время, а потом вспомнил о Пат и вдруг с ужасающей ясностью осознал, что одно с другим никак не совместимо. Разница была слишком велика, жизнь стала слишком дрянной и грязной для счастья, оно не могло длиться долго, в него нельзя было верить, оно – временная стоянка, а не пристань.
Мы поднялись по лестнице и открыли дверь. В прихожей Хассе остановился.
– Ну что ж, тогда до свидания.
– Вы хоть сегодня поешьте чего-нибудь, – сказал я.
Он покачал головой и слабо улыбнулся, словно прося за что-то прощения. Потом прошел в свою пустую, темную комнату. Я посмотрел ему вслед и двинулся дальше по коридорной кишке. Вдруг послышалось пение. Я остановился, прислушался. То был вовсе не патефон Эрны Бениг, как я сначала подумал, то был голос Пат. Она была одна в комнате и пела. Я взглянул на дверь, за которой скрылся Хассе, потом снова подался вперед, прислушался и невольно, борясь с внезапным ознобом, сжал руки – да, черт возьми, пускай это лишь временная стоянка, а не пристань, пускай расхождений будет в тысячу раз больше, чтобы невозможно было в счастье поверить, – как раз потому в него и невозможно было поверить, – именно поэтому-то оно так ошеломляюще ново и с такой силой захватывает!
Пат не слышала, как я вошел. Она сидела на полу перед зеркалом и примеряла маленькую черную шляпку. Рядом на ковре стояла лампа. Вся комната тонула в теплом, золотистых тонов полумраке, и только ее лицо было ярко освещено. Она придвинула к себе стул, с которого свисал кусок шелка. На сиденье стула поблескивали ножницы.
Я застыл в дверях, наблюдая, с какой серьезностью она возится со своей шляпкой. Она любила сидеть на полу, и я нередко, возвращаясь вечером, находил ее прикорнувшей где-нибудь в углу с книгой в руках, а рядом собака.
Собака, и теперь лежавшая рядом с ней, слегка заворчала. Пат подняла глаза и увидела меня в зеркале. Она улыбнулась, и мне сразу же показалось, что в мире стало светлее. Я прошел через комнату, опустился за ней на колени и наконец-то – после всей этой грязи, которую нанесло за день, – прижался губами к ее теплому, мягкому затылку.
Она повертела в воздухе своей черной шляпкой.
– Я тут кое-что переделала, милый. Тебе нравится?
– Не шляпа, а верх совершенства, – сказал я.
– Но ведь ты даже не взглянул на нее! Видишь, я срезала поля сзади, а спереди подвернула их наверх.
– Все я вижу, – сказал я, зарываясь лицом в ее волосы. – Шляпа такая, что парижские модельеры умерли бы от зависти, если б могли ее видеть.
– Ах, Робби! – Она, смеясь, отодвинула меня своим затылком. – Ты в этом ничего не смыслишь! Ты хоть замечаешь вообще, как я одета?
– Я замечаю каждую мелочь, – заявил я, устраиваясь к ней поближе, однако же так, чтобы нос оставался в тени.
– Вот как? Тогда скажи, в чем я была вчера вечером?
– Вчера? – Я задумался. Я и в самом деле не помнил.
– Так я и думала, милый! Ты вообще почти ничего не знаешь обо мне.
– Это верно, – сказал я. – Но ведь в этом вся прелесть. Чем больше люди знают друг друга, тем меньше они друг друга понимают. И чем ближе они знакомятся друг с другом, тем более чужими они становятся. Возьми хоть семейство Хассе для примера: они знают друг о друге все и ненавидят друг друга больше, чем любые чужие люди.
Она водрузила на голову свою черную шляпку и стала примерять ее перед зеркалом.
– Все это верно только наполовину, Робби.
– Ну, это касается любой истины, – возразил я. – Дальше половины нам никогда не удается продвинуться. На то мы и люди. Мы и с половинными-то истинами умудряемся делать столько глупостей. А знай мы истину целиком, мы вообще не могли бы жить.
Она сняла шляпку и отложила ее в сторону. Потом повернулась ко мне и увидела мой нос.
– Что это с тобой? – спросила она испуганно.
– Ничего страшного. Распухло немного, только и всего. Работал под машиной, и что-то брякнулось мне прямо на нос.
Она недоверчиво посмотрела на меня.
– И где ты опять пропадал? Ты ведь никогда ничего не рассказываешь мне. Я о тебе знаю так же мало, как и ты обо мне.
– Оно и к лучшему, – сказал я.
Она принесла тазик с водой и полотенце и сделала мне компресс. Потом присмотрелась к моему лицу внимательнее.
– Похоже на удар. И шея у тебя поцарапана. Опять у тебя было какое-то приключение, милый.
– Самое большое приключение сегодня мне еще предстоит, – сказал я.
Она с удивлением посмотрела на меня.
– Так поздно, Робби? Что же ты собираешься делать?
– Я собираюсь остаться здесь! – сказал я и, отбросив компресс, обнял ее. – Я остаюсь на весь вечер с тобой!
XX
Август был теплый и ясный, да и в сентябре погода держалась еще почти летняя; но потом, с конца сентября, зарядили дожди, тучи надолго обложили город. С крыш текло, ветер усилился, и когда я однажды проснулся ранним воскресным утром и подошел к окну, то увидел, что листва на кладбищенских деревьях покрылась пятнами охры и перепрела кое-где так, что проступили голые ветви.
Я какое-то время постоял у окна. Странное это было состояние в последние месяцы – с тех пор как мы вернулись из нашей поездки к морю, я постоянно, всякий час помнил, что осенью Пат надо уехать, но помнил об этом так, как мы помним о многом: о том, что годы проходят, что мы стареем и что мы не будем жить вечно. Настоящее всегда оказывалось сильнее, оно поглощало все мысли, и пока Пат была здесь, а деревья вовсю зеленели, такие слова, как «осень», и «отъезд», и «прощание», были не более чем бледные тени на горизонте, которые лишь подчеркивали счастье близости и пока еще длящейся совместной жизни.
Я смотрел на мокрое, залитое дождем кладбище, на покрытые опавшими темными листьями надгробия. Туман, как бледный вампир, высосал за ночь всю зелень из листьев; пожухлые и безжизненные, они бессильно повисли на ветках, и каждый порыв то и дело набегавшего ветра срывал все новые и новые листья и гнал их перед собой, – и, как острая, режущая боль, накатило на меня внезапное чувство предстоящей разлуки, которая была близка, которая была реальна, так же реальна, как эта вот осень, дохнувшая на деревья и оставившая на них свои охряные следы.
Я подошел к двери в смежную комнату, остановился, прислушался. Пат еще спала. Она спала спокойно, не кашляла. На миг меня пронзила надежда – мне представилось, как не сегодня завтра позвонит Жаффе и скажет, что уезжать ей не нужно; но тут же вспомнились ночи, когда я слышал тихий посвист ее дыхания и эти просевшие регулярные хрипы – вжик, вжик! – как звуки тонкой далекой пилы, и надежда моя как вспыхнула, так и угасла.
Я вернулся к окну и стал снова смотреть на дождь. Потом подсел к письменному столу и принялся пересчитывать деньги, которые у меня там лежали. Я начал было прикидывать, на сколько дней их хватит Пат, но только расстроился и снова запер их в ящик.
Я посмотрел на часы. Было около семи. Пат будет спать еще часа два. Я быстро оделся, чтобы еще немного поездить. Все лучше, чем торчать здесь наедине со своими мыслями.
Я пошел в мастерскую, выкатил такси и не торопясь поехал по улицам. Было безлюдно. Бесконечные и унылые ряды казарм на рабочих окраинах походили на колонны понурых, сгорбившихся под дождем проституток. Стены домов покрылись грязью и облупились, мутные окна хмуро поблескивали в сереньком утреннем свете, а штукатурка обветшалых каменных оград, словно изъеденная язвами, была вся в глубоких желтовато-серых дырах.
Я проехал в старую часть города, к собору. Остановив машину у небольшого заднего входа, я вышел. Сквозь тяжелую дубовую дверь донеслись приглушенные звуки органа. Было время утренней мессы, и по органной мелодии я понял, что освящение святых даров едва началось и, таким образом, будет длиться еще минут двадцать, а раньше этого времени никто из собора не выйдет.
Я прошел в сад, расположенный внутри галереи. Свет здесь был совсем тусклый. С кустов непрерывно текло, но на многих из них еще были цветы. Мой плащ был довольно широк, под ним легко было прятать срезанные ветки. Несмотря на воскресный день, никого поблизости не было, и я без помех отнес в машину первую охапку роз. Потом вернулся в сад за второй. И когда ее уже набрал, услышал в галерее чьи-то шаги. Крепко прижав к себе локтем букет, спрятанный под плащом, я застыл в молитвенной позе перед одним из святых изображений.
Шаги приблизились, но не проследовали дальше, а замерли. Мне вдруг стало жарко. Я постоял перед каменным изваянием в задумчивой созерцательной позе, перекрестился и медленно перешел к следующему, подальше от галереи. Шаги последовали за мной и снова замерли. Я не знал, что делать. Сразу двигаться дальше я теперь не мог – надо было по крайней мере выждать время, необходимое для прочтения молитвы «Отче наш» и десятка молитв «Аве Мария», иначе я тут же выдал бы себя. Поэтому я остался на месте, но позволил себе слегка оглянуться, как бы выражая сдержанно горестное сожаление по поводу неуместного посягательства на благоговение минуты.
Увидев перед собой благодушное округлое лицо пастора, я вздохнул с облегчением. Я почел себя уже спасенным, ибо знал, что он не прервет моих молитв, как вдруг я с ужасом обнаружил, что достиг конца барельефа с изображением страстей Господних. Как бы истово я теперь ни молился, через несколько минут я должен был закончить, чего он, по-видимому, ожидал. Тянуть дальше не имело смысла. Поэтому я медленно и с безразличным видом двинулся к выходу.
– Доброе утро, – произнес священник. – Хвала Господу Иисусу Христу!
– Во веки веков, аминь! – ответствовал я, как подобает благочестивому католику.
– Редко кого встретишь здесь в эту пору, – ласково сказал он, глядя на меня голубыми детскими глазами.
Я пробормотал что-то невнятное.
– К сожалению, теперь это редко, – продолжал он с легким вздохом. – И почти не видно мужчин, молящихся в этом месте. Потому-то возрадовался я и заговорил с вами. Должно быть, какая-нибудь особая нужда привела вас сюда в столь ранний час и в такую погоду, какое-нибудь особое пожелание…
«Желание у меня одно – чтобы ты поскорее шел отсюда», – подумал я, испытывая все же некоторое облегчение. Было очевидно, что цветы он пока не заметил. Теперь нужно было поскорее отделаться от него, пока он не успел обратить на них внимание.
Он снова улыбнулся мне.
– Я сейчас буду служить мессу и охотно включу вашу просьбу в свои молитвы.
– Спасибо, – пролепетал я в изумленном смущении.
– Итак, должен ли я молиться за упокой души усопшего человека?
Я растерянно посмотрел на него и чуть не выронил цветы.
– Нет, – сказал я, прижимая их под плащом покрепче.
Он продолжал выжидательно смотреть на меня своими прозрачными глазками, не ведавшими злого умысла. Вероятно, ждал, что я объясню наконец, чего желаю от Бога. Но мне на ум не приходило ничего путного да и не хотелось еще больше втягиваться в обман. Поэтому я молчал.
– Стало быть, я помолюсь о помощи неизвестному человеку, нуждающемуся в ней, так? – сказал он наконец.
– Да, – ответил я, – если вы будете так добры. Очень вам благодарен.
Он махнул рукой, улыбнувшись:
– Не стоит благодарности. Все мы в руце Божьей. – Он еще посмотрел на меня, склонив голову как-то набок, и мне почудилось, что по лицу его пробежала тень. – Главное, верьте, – сказал он. – И Отец Небесный поможет. Всенепременно. Он помогает и тогда, когда мы этого не понимаем. – Затем он кивнул мне и ушел.
Я смотрел ему вслед до тех пор, пока не услышал, как за ним захлопнулась дверь. «Ах, – думал я, – если б все было так просто! Он поможет, всенепременно! А помог он Бернхарду Визе, когда тот валялся с простреленным животом и орал на весь Хоутхольстерский лес, помог Качинскому, погибшему в Хандзееме, оставив больную жену и ребенка, которого он ни разу не видел, помог Мюллеру, и Лееру, и Кеммериху, помог малышу Фридману, и Юргенсу, и Бергеру, и миллионам других? Нет, черт возьми, многовато пролито крови на этой земле, чтобы можно было сохранить веру в Отца Небесного!»
Я отвез цветы домой, потом отогнал машину в мастерскую и пошел обратно. Из кухни доносился запах свежезаваренного кофе, и было слышно, как там возится Фрида. Как ни странно, но запах кофе придал мне бодрости. Я и по фронту помнил – лучше всего утешают не какие-нибудь значительные вещи, а сущие пустяки и мелочи.
Едва за мной щелкнула входная дверь, как в коридор пулей вылетел Хассе. Лицо его было опухшим и желтым, воспаленные глаза покраснели, он выглядел так, будто спал прямо в костюме. Увидев меня, он не смог скрыть на своем лице величайшее разочарование.
– Ах, это вы, – пробормотал он.
Я с удивлением посмотрел на него.
– А вы что, поджидаете кого-нибудь в такую рань?
– Да, – тихо сказал он. – Жену. Она еще не вернулась. Вы ее не видели?
Я покачал головой.
– Я только час как ушел.
Он кивнул.
– Я подумал – вдруг вы ее где-нибудь видели…
Я пожал плечами.
– Придет, видимо, позже. Вы не пробовали звонить?
Он взглянул на меня как-то робко.
– Она ушла с вечера к своим знакомым, а я не знаю точно, где они живут.
– А их фамилию вы знаете? Адрес можно было узнать через справочное бюро.
– Я запрашивал. В справочнике такой фамилии не оказалось.
У него был вид как у побитой собаки.
– Она вечно делала тайну из своих знакомств, а стоило мне о ком-нибудь спросить, как она сразу злилась. Ну, я перестал и спрашивать. Я был рад, что у нее есть куда пойти. Она же все время говорила, что я хочу лишить ее и этой маленькой радости.
– Может, она придет еще, – сказал я. – То есть я даже уверен, что она скоро придет. А вы позвонили на всякий случай в «скорую помощь» и в полицию?
Он кивнул:
– Звонил. Они тоже ничего не знают.
– Вот видите, – сказал я. – В таком случае вам нечего волноваться. Может быть, она неважно почувствовала себя вечером и решила остаться на ночь. Такое ведь часто бывает. А часа через два или три она скорее всего будет дома.
– Вы думаете?
Кухонная дверь отворилась, и показалась Фрида с подносом.
– А это для кого? – спросил я.
– Для фройляйн Хольман, – ответила она, сразу же раздражаясь от одного моего вида.
– А что, она уже встала?
– Да уж, должно быть, встала, – ехидно заметила Фрида, – раз позвонила, чтобы ей несли завтрак.
– Благослови вас Господь, Фрида, – сказал я. – По утрам вы иногда бываете просто сахар! Не могли бы вы преодолеть себя и заодно уж и мне сварить кофе?
Она что-то буркнула и двинулась по коридору, вихлянием бедер выказывая все свое презрение. Это она умела. Никто из моих знакомых не мог с ней в этом сравниться.
Хассе застыл в ожидании. Мне вдруг стало стыдно, когда я, обернувшись, увидел, что он преданно и безмолвно стоит рядом.
– Через час-полтора, вот увидите, вы уже забудете обо всех своих тревогах, – сказал я и протянул ему руку.
Он не взял ее, а как-то странно посмотрел на меня.
– Может, нам поискать ее? – тихим голосом спросил он.
– Но ведь вы не знаете, где она.
– Может, все-таки попробовать? – повторил он. – На вашей машине? Я, разумеется, все оплачу, – быстро выпалил он.
– Речь не об этом, – сказал я. – Но только это совершенно безнадежно. Ну куда мы поедем? В какую сторону? Да ведь и не на улице же она в это время.
– Не знаю, – так же тихо сказал он. – Я только думал, что можно попробовать ее поискать.
Фрида с пустым подносом проследовала обратно.
– Мне нужно идти, – сказал я. – Кроме того, я думаю, что вы тревожитесь понапрасну. Несмотря на это, я охотно помог бы вам, но фройляйн Хольман должна скоро уехать, и я хотел бы провести этот день с ней. Вероятно, это ее последнее воскресенье здесь. Вы ведь понимаете?
Он кивнул.
Мне было жалко смотреть на него, но я торопился к Пат.
– Если вы все же хотите немедленно ехать на поиски, – продолжал я, – вы можете взять такси на улице, но я вам этого не советую. Подождите лучше еще немного. А потом я позвоню своему другу Ленцу, и он отправится с вами на поиски.
Мне казалось, что он ничего не слышит.
– А вы не видели ее сегодня утром? – внезапно спросил он.
– Нет, – удивился я. – А то бы я сразу вам об этом сказал.
Он снова кивнул и, не говоря больше ни слова, с отсутствующим видом ушел к себе в комнату.
Пат уже побывала у меня и нашла розы. Она рассмеялась, когда я вошел.
– Робби, – сказала она, – меня тут Фрида лишила наивности. Она утверждает, что свежие розы по воскресеньям в это время наверняка попахивают воровством. Кроме того, она говорит, что этот сорт не водится в окрестных магазинах.
– Думай что хочешь, – сказал я. – Главное, что они доставляют тебе радость.
– Теперь еще большую, милый. Раз ты добыл их, подвергая себя опасности!
– Еще какой! – Я вспомнил о пасторе. – Но почему ты так рано встала?
– Не могла больше спать. Снились такие ужасы, что продолжать не хотелось.
Я внимательно посмотрел на нее. Вид у нее был усталый, под глазами – тени.
– С каких это пор тебе снятся кошмары? – спросил я. – До сих пор я думал, что это по моей части.
Она покачала головой.
– Ты уже заметил, что на дворе осень?
– У нас это называли «бабьим летом», – сказал я. – Ведь еще цветут розы. Просто идет дождь, вот все, что я вижу.
– Идет дождь, – повторила она. – Он идет уже слишком долго, милый. Иногда проснусь по ночам и мне кажется, что я уже потонула под потоками дождя.
– Ты должна приходить ко мне по ночам. Тогда у тебя не будет таких мыслей. Да и как приятно быть вместе, когда в комнате темно, а за окном идет дождь.
– Возможно, – сказала она, прижимаясь ко мне.
– Люблю, когда по воскресеньям идет дождь, – сказал я. – Тогда больше ценишь то, что у тебя хорошо. Мы вместе, у нас теплая красивая комната – и целый день впереди; по-моему, это немало.
Ее лицо прояснилось.
– Да, у нас все хорошо, не правда ли?
– На мой взгляд, просто чудесно. Как вспомню, что было раньше, – Боже мой! Вот уж не думал, что мне будет когда-нибудь так хорошо.
– Как хорошо, что ты это говоришь. Я тогда в это верю. Говори это чаще.
– Разве я не часто это говорю?
– Нет.
– Может быть, – сказал я. – По-моему, я не очень-то нежен. Не знаю почему, но я просто не способен на это. А ведь я бы очень хотел быть нежным.
– Тебе это и не надо, милый. Я ведь и так понимаю тебя. Только иногда вдруг так захочется, чтобы ты это сказал.
– Я теперь буду повторять это часто, все время. Как бы по-дурацки это ни выглядело.
– Что значит по-дурацки? – сказала она. – В любви нет ничего дурацкого.
– И слава Богу, что нет, – сказал я. – Иначе она бог знает во что превратила бы человека.
Мы позавтракали вместе, а потом Пат снова легла в постель. Такой режим установил Жаффе.
– Ты побудешь со мной? – спросила она из-под одеяла.
– Если хочешь, – ответил я.
– Я-то хочу, но ты же не обязан…
Я сел к ней на кровать.
– Я не то имел в виду. Ты ведь говорила, что не любишь спать, когда на тебя смотрят.
– Раньше так оно и было, но теперь, знаешь, мне иногда страшно одной…
– И со мной такое бывало, – сказал я. – В госпитале, после операции. Я тогда боялся спать по ночам. Держался до самого утра, не смыкая глаз, – читал или думал о чем-нибудь, и только когда наступал рассвет, я засыпал. Но это проходит.
Она прижалась лицом к моей ладони.
– Это от страха, что заснешь и не проснешься, Робби…
– Да, – сказал я, – но поскольку все-таки просыпаешься, то это проходит. Можешь убедиться в этом на моем примере. Мы всегда просыпаемся, всегда возвращаемся назад – хотя и не на то самое место.
– В том-то и дело, – сказала она уже несколько сонным голосом и закрывая глаза. – Этого-то я и боюсь. Но ведь ты последишь, чтобы я вернулась куда надо, правда?
– Послежу, – сказал я и провел рукой по ее лбу и волосам, которые тоже казались усталыми. – Я ведь солдат бывалый и бдительный.
Дыхание ее сделалось глубже, она слегка повернулась на бок. Через минуту она уже крепко спала.
Я опять сел к окну и уставился на дождь. Это был сплошной серый ливень, в мутной бесконечности которого наш дом казался маленьким островком. На душе у меня скребли кошки – редко случалось, чтобы Пат с утра предавалась унынию и печали. Но потом я стал думать о том, что еще на днях она была веселой и оживленной и, может быть, снова будет такой, когда проснется. Я знал, что она много думает о своей болезни, знал я от Жаффе и о том, что ее состояние пока не улучшилось, – но я столько видел на своем веку мертвых, что любая болезнь была для меня все-таки жизнью и надеждой. Я знал, что можно умереть от ранения, этого я повидал немало, но именно поэтому мне было трудно поверить, что человека может унести и болезнь, при которой человек внешне остается невредимым. Вот почему минуты растерянности и тревоги никогда не длились у меня подолгу.
В дверь постучали. Я прошел через комнату и открыл. На пороге стоял Хассе. Приложив палец к губам, я тихонько вышел в коридор.
– Простите, – пробормотал он.
– Зайдите ко мне, – сказал я и открыл дверь в свою комнату.
Хассе в комнату не вошел. Его побелевшее как мел лицо все как-то ужалось.
– Я только хотел сказать вам, что нам не нужно никуда ехать, – произнес он, едва шевеля губами.
– Зайдите же, – пригласил я его, – фройляйн Хольман спит, у меня есть время.
В руках он держал какое-то письмо. Вид у него был как у человека, которого ранили из ружья, но который еще надеется, что его просто толкнули.
– Лучше прочитайте сами, – сказал он и протянул мне письмо.
– Вы уже пили кофе? – спросил я.
Он покачал головой.
– Читайте письмо…
– Хорошо. А вы тем временем пейте кофе.
Я вышел на кухню и попросил Фриду принести кофе. Потом прочел письмо. Оно было от фрау Хассе и состояло всего из нескольких строк. Она сообщала ему, что хочет еще получить кое-что от жизни и поэтому не вернется. Есть человек, который понимает ее лучше, чем Хассе. Пусть он ничего не предпринимает, это бесполезно, она все равно не вернется. Да и для него самого так будет лучше. Отпадут заботы о том, хватит или не хватит жалованья. Часть своих вещей она взяла с собой, за остальными она кого-нибудь пришлет.
Письмо было ясное и деловое. Я сложил его и вернул Хассе. Он смотрел на меня с таким видом, будто все теперь зависело от меня.
– Что же теперь делать? – спросил он.
– Для начала выпейте эту чашку и съешьте чего-нибудь, – сказал я. – Не стоит суетиться и убиваться. Сейчас все обдумаем. Постарайтесь прежде всего успокоиться, иначе вы не сможете принять толковое решение.
Он послушно выпил кофе. Рука его дрожала, есть он не мог.
– Что же теперь делать? – снова спросил он.
– Ничего, – сказал я. – Надо подождать.
Он махнул рукой.
– А что бы вы хотели сделать? – спросил я.
– Не знаю. Сам не могу сообразить.
Я помолчал. Трудно было что-нибудь посоветовать. Я мог только попытаться его успокоить, а уж решить он должен был сам. Он больше не любил жену, о чем нетрудно было догадаться, но он привык к ней, а привычка для бухгалтера значит подчас больше, чем даже любовь.
Через некоторое время он заговорил, но так сбивчиво и путано, что сразу стало ясно, насколько он растерян. Потом стал упрекать себя. По ее адресу он не сказал ни слова худого. Он все пытался внушить себе, что сам во всем виноват.
– Хассе, – сказал я, – вы говорите глупости. В таких вещах не бывает ни правых, ни виноватых. Жена ушла от вас, а не вы от нее. Вы не должны себя упрекать.
– Нет, я виноват, – возразил он, разглядывая свои руки. – Виноват, что ничего не добился в жизни.
– Чего не добились?
– Ничего не добился. А значит, и виноват.
Я с удивлением взглянул на маленькую жалкую фигурку, утонувшую в плюшевом кресле.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































