Читать книгу "Праздник, который всегда с тобой. За рекой, в тени деревьев"
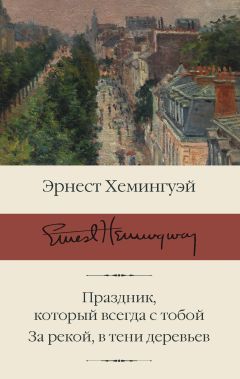
Автор книги: Эрнест Хемингуэй
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
6
Конец одной страсти
В тот год и в последующие мы часто ходили на скачки, когда я успевал поработать рано утром; Хэдли ходила с удовольствием, а иногда и с энтузиазмом. Но скачки совсем не то, что подниматься по горным лугам выше границы леса, или поздно вечером возвращаться в шале, или с нашим лучшим другом Чиком через высокий перевал спускаться в другую страну. Мы в скачках не были участниками. Мы играли на деньги. А говорили: сегодня у нас скачки.
Скачки никогда не вставали между нами – это было под силу только людям, – но долгое время присутствовали в нашей жизни как близкий требовательный друг. Это если выразиться деликатно: я, такой моралист в том, что касалось людей и их разрушительных способностей, терпел существо, самое неверное, самое красивое, самое волнующее, порочное и требовательное, потому что оно могло приносить доход. Чтобы сделать его доходным, полного рабочего дня было мало, а у меня для этого не было времени. Я оправдывал себя тем, что пишу о нем. Но в конце концов все написанное мною пропало, и сохранился только один рассказ – тот, что я отправил почтой.
Теперь я чаще ходил на скачки один, я пристрастился, меня засосало. При всякой возможности в течение сезона я посещал два ипподрома – в Отейе и в Энгиене. Чтобы толково ставить, надо было посвящать этому все время, а расчеты по прежним результатам выручки не приносили. Гладко получалось на бумаге. Для такой игры хватило бы и газет.
Барьерную скачку в Отейе надо было наблюдать с верха трибун – быстро взобраться туда и смотреть, как работает каждая лошадь, смотреть на лошадь, которая могла бы выиграть и не выиграла, и соображать, почему и каким образом или из-за чего не сделала того, что могла. Ты следил за коэффициентами, за тем, как меняются ставки каждый раз, когда стартует интересующая тебя лошадь, и надо было знать, как она работает, и в конце концов понять, когда ее выпустит конюшня. Она всегда могла проиграть, но по крайней мере ты уже понимал, каковы ее шансы. Это была серьезная работа, но чудесно было наблюдать весь день за скачками в Отейе, когда удавалось туда выбраться, видеть честные состязания превосходных лошадей и знать круг не хуже любого другого места в мире из тебе известных. В конце концов, ты узнавал много людей – наездников, тренеров, владельцев, – и слишком много лошадей, и вообще всего слишком много.
В принципе ты ставил, когда знал лошадь, на которую надо ставить, но иногда открывал и таких, в которых никто не верил, кроме тех людей, которые их тренировали и ездили на них, и они выигрывали тебе заезд за заездом. Следить надо было очень внимательно, чтобы в самом деле что-то понимать. В конце концов я перестал, потому что это отнимало слишком много времени, я слишком втянулся, слишком много знал о том, что делается в Энгиене, да и на гладких скачках.
Я бросил играть на скачках и был рад, но после них осталась пустота. Я знал уже, что, если с чем-то расстаешься, плохим или хорошим, остается пустота. После плохого пустота заполняется сама собой. После хорошего ты заполнишь ее, только найдя что-то лучшее. Скаковой фонд я с облегчением присоединил к общему капиталу, и стало лучше.
В тот день, когда я решил покончить с игрой на скачках, я пошел на другой берег Сены, в банк «Гаранти траст», помещавшийся тогда на углу Итальянского бульвара и Итальянской улицы, и встретил там приятеля, Майка Уорда. Я пришел, чтобы положить на счет скаковые деньги, но никому об этом не говорил. Я не вписал их в чековую книжку, но сумму помнил.
– Пойдем пообедаем? – спросил я Майка.
– Это можно. Давай. А что случилось? Ты не идешь на ипподром?
– Нет.
Мы пообедали с отличным вином в очень хорошем простом бистро на площади Лувуа. На другой стороне площади была Национальная библиотека.
– Ты, Майк, не часто ходишь на ипподром.
– Да, довольно давно уже не был.
– Почему перестал?
– Не знаю, – сказал Майк. – Да нет. Знаю. Если состязание тебя волнует только потому, что ты поставил деньги, то и смотреть его не стоит.
– И никогда не смотришь?
– Иногда смотрю хорошие скачки. С выдающимися лошадьми.
Мы мазали паштет на вкусный хлеб этого бистро и пили белое вино.
– Но ты следил за скачками, Майк?
– О да.
– И что же ты увидел лучше?
– Велогонки.
– Серьезно?
– Там не надо ставить. Увидишь.
– Скачки отнимают много времени.
– Слишком много. Все время. И народ мне не нравится.
– Я сильно увлекался.
– Ну да. Оправдывалось?
– Вполне.
– Главное – вовремя бросить.
– Я бросил.
– Это трудно. Слушай, сходим как-нибудь на гонки.
Это был новый, прекрасный спорт, о котором я почти ничего не знал. Но мы пристрастились к нему не сразу. Это пришло позже. Заняло большое место в нашей жизни позже, когда рассыпалась первая часть парижской жизни.
А пока что было вполне довольно осесть в нашей части Парижа, забросив скачки, и ставить на собственную жизнь и работу, на художников, которых ты знал, и не строить свою жизнь на азартной игре, придумав для нее другое название. Я начинал много рассказов о велогонках и так и не написал ни одного, достойного самих гонок на закрытых и открытых треках и на шоссе. Но я еще покажу и зимний велодром в дымчатом свете на исходе дня, и чашу трека, и шуршание шин по деревянному настилу, усилия и тактику слившихся с машинами гонщиков, въезжающих наверх и низвергающихся вниз; еще ухвачу волшебство гонки за лидером, треск мотоциклов с роликами позади, откинувшихся назад мотоциклистов в тяжелых защитных шлемах и громоздких кожаных костюмах, заслоняющих гонщика от встречного воздушного потока, и гонщиков в более легких шлемах, пригнувшихся к рулю и бешено вращающих большие ведущие звездочки, передним колесом касаясь роликов на мотоциклах, которые везут их за собой, расталкивая воздух; и дуэли, более волнующие, чем любая скачка, – шум мотоциклов и гонщики, локоть к локтю, колесо к колесу, вверх и вниз на убийственной скорости, а потом один из них, не выдержав темпа, отстает от мотоцикла, налетает на плотную стену воздуха, которую прорывал перед ним лидер.
Было много видов гонок. Гонки по очкам и простой спринт, когда два соперника по много секунд балансируют почти на месте, дожидаясь, чтобы соперник вышел вперед, потом медленно кружат по треку, выбирая момент для финишного спурта, чистого взрыва скорости. Во второй половине дня были командные двухчасовые гонки с рядом промежуточных спринтов, и часовые гонки на скорость, когда единственный соперник гонщика – часы, и страшно красивые и опасные стокилометровые гонки на пятисотметровом деревянном открытом треке стадиона «Буффало» в Монруже, где гонщики мчались за большими мотоциклами и знаменитый бельгийский чемпион Линар, прозванный Сиу из-за его профиля, перед финишем наращивая и без того несусветную скорость, опускал голову и через резиновую трубку сосал черри-бренди из грелки, спрятанной под рубашкой, и чемпионаты Франции по гонкам за лидером на 660-метровом цементном треке Парк-дю-Пренс около Отейя, самом опасном из всех, где мы с Полиной видели, как упал знаменитый гонщик Гане, и слышали, как треснул его череп под шлемом, словно крутое яйцо при ударе о камень, перед тем как облупишь его на пикнике. Я должен изобразить необычный мир шестидневных гонок и чудеса шоссейных гонок в горах. Что-то приличное написано об этом только по-французски, все термины французские – вот почему об этом так трудно писать. Но Майк был прав: ставить деньги там не надо, и пришло это уже в другой части парижской жизни.
7
«Une Géneration Perdue»[13]13
Потерянное поколение (фр.).
[Закрыть]
Как-то само собой вошло в привычку заходить под конец дня на улицу Флерюс, 27, ради тепла, прекрасных картин и разговора. Зачастую у мисс Стайн не было гостей, она всегда была очень дружелюбна и долгое время относилась ко мне с большой теплотой. Она обожала говорить о людях и местах, о еде и всякой всячине. Когда я возвращался из поездок на политические конференции, или на Ближний Восток, или в Германию, будучи корреспондентом канадской газеты, она просила меня рассказывать о случившихся там забавных происшествиях. Забавные случались всегда, она любила их и любила истории с тем, что у немцев называется юмором висельника. Она не любила слушать о тяжелых и трагических случаях, но этого никто не любит; мне приходилось их видеть, но я о них не рассказывал, если только она сама не выражала желания узнать, что творится в мире. Она желала знать веселую сторону того, что творилось в мире, но отнюдь не все, отнюдь не плохое.
Я был молодой и не мрачный, и даже в самое плохое время всегда происходило что-нибудь смешное или странное, и мисс Стайн любила о таком слушать. А о другом я не говорил, но писал в одиночестве.
Если я приходил на улицу Флерюс не после поездок, а после работы, то иногда затевал разговор с мисс Стайн о книгах. После работы мне необходимо было читать, чтобы отвлечься от мыслей о рассказе, над которым я работал. Если продолжишь думать о нем, упустишь то, о чем писал, и не от чего будет оттолкнуться завтра. Необходима была физическая нагрузка, чтобы устало тело, и очень хорошо соединиться с той, кого любишь. Это было лучше всего. Но потом, когда ты опустошен, необходимо было читать, чтобы не думать и не беспокоиться о работе, пока не усядешься за нее снова. Я уже научился не вычерпывать полностью колодец моего письма, но непременно останавливаться, пока что-то есть еще на дне – и пусть он за ночь вновь наполнится от питающих его ключей.
Чтобы отвлечься от написанного, я иногда читал современных писателей, таких как Олдос Хаксли, Д. Г. Лоуренс, или еще кого-нибудь, кто печатался и его можно было взять в библиотеке Сильвии Бич или найти на набережных.
– Хаксли мертвец, – сказала мисс Стайн. – Почему вы хотите читать мертвеца? Неужели вы не чувствуете, что он мертвец?
Я не чувствовал, что он мертвец, и сказал, что его книги занимательны и отвлекают меня от мыслей.
– Читать надо либо отменно хорошее, либо откровенно плохое.
– Я всю зиму читал отменно хорошие книги, и прошлой зимой читал, и будущей буду читать, а откровенно плохих книжек не люблю.
– Зачем вы читаете эту ерунду? Это напыщенная ерунда, Хемингуэй. Написанная мертвецом.
– Мне интересно, что они пишут, – сказал я. – Чтобы не писать то же самое.
– Кого еще вы сейчас читаете?
– Д. Г. Лоуренса, – сказал я. – Он написал несколько очень хороших рассказов, один под названием «Прусский офицер».
– Я пробовала читать его романы. Он невозможен. Он нелеп и жалок. Он пишет как больной человек.
– Мне понравились «Сыновья и любовники» и «Белый павлин». Этот, пожалуй, меньше, – сказал я. – А «Влюбленных женщин» не смог прочесть.
– Если не хотите читать плохих книг, а хотите читать такие, которые вам не наскучат и в своем роде великолепны, вам надо почитать Мари Беллок Лаундс.
Я никогда о ней не слышал, и мисс Стайн дала мне почитать «Жильца», отличную историю о Джеке Потрошителе, и другой роман – об убийстве где-то под Парижем, судя по всему, в Энгиен-ле-Бэн. Прекрасное чтение после работы, характеры убедительные, действие и ужасы правдоподобны. Когда поработал, ничего лучше и пожелать нельзя, и я прочел всю миссис Беллок Лаундс, какая была в наличии. Правда, книг ее было не так много и все не такие хорошие, как первые две, но ничего лучше для пустых часов дня или ночи я не нашел, пока не появились первые прекрасные книги Сименона.
Думаю, мисс Стайн понравились бы хорошие книги Сименона – первой я прочел «L’Ecluse Numero 1»[14]14
«Шлюз номер 1» (фр.).
[Закрыть] или «La Maison du Canal»[15]15
«Дом на канале» (фр.).
[Закрыть]. Впрочем, не уверен, потому что мисс Стайн не любила читать по-французски, хотя разговаривать обожала. Первые две книги Сименона мне дала Джанет Фланер. Она любила читать по-французски и читала Сименона, когда он был еще уголовным хроникером.
За три или четыре года, что мы были добрыми друзьями, не припомню, чтобы Гертруда Стайн хорошо отозвалась хотя бы об одном писателе, который не похвалил ее прозу или тем или иным образом не способствовал ее литературной карьере; исключениями были Рональд Фэрбенк и, позже, Скотт Фицджеральд. Когда я с ней познакомился, она восторженно говорила о Шервуде Андерсоне, но не как о писателе, а как о человеке – о его больших теплых итальянских глазах, о его доброте и обаянии. Большие теплые итальянские глаза меня не так волновали, но некоторые его рассказы очень нравились. Они написаны были просто, иногда красиво написаны, он знал людей, о которых пишет, и любил их искренне. Мисс Стайн не хотела говорить о его рассказах, а только о нем как о человеке.
– А что его романы? – спросил я ее.
Она желала говорить о произведениях Андерсона не больше, чем о Джойсе. Если вы заговорили о Джойсе вторично, вас больше не пригласят. Это было все равно что похвалить генералу другого генерала. Сделав такую ошибку, ты ее больше не повторял. Упомянуть генерала можно, но только в том случае, если его разгромил тот, с которым ты говоришь. Этот, с которым ты говоришь, сам похвалит разбитого генерала и с удовольствием, в подробностях опишет, как он его разбил.
Рассказы Андерсона были слишком хороши, чтобы послужить темой приятной беседы. Я готов был сказать мисс Стайн, что романы его на удивление плохи, но это тоже было бы неправильно – критикую одного из самых верных ее поклонников. В конце концов, когда он написал роман «Темный смех», совершенно ужасный, глупый и претенциозный, я не удержался и высмеял его в пародии[16]16
«Вешние воды».
[Закрыть]. Мисс Стайн очень рассердилась. Я напал на кого-то из ее аппарата. Но до этого она долгое время не сердилась. И сама начала обильно восхвалять Шервуда, когда он сломался как писатель.
На Эзру Паунда она рассердилась за то, что он слишком быстро опустился на маленький, хлипкий и, без сомнения, неудобный стул, предложенный ему, по всей вероятности, с умыслом, и стул не то треснул, не то сломался. Это был финал Эзры на улице Флерюс, 27. Что он замечательный поэт, мягкий и щедрый человек и вполне мог поместиться на стуле нормального размера, не было принято во внимание. Причины ее нелюбви к Эзре, излагавшиеся убедительно и злобно, были придуманы несколькими годами позже.
Мисс Стайн произнесла свою фразу о потерянном поколении, когда мы вернулись из Канады, жили на улице Нотр-Дам-де-Шан и я еще был с ней в дружбе. У нее случилась неисправность с зажиганием в ее старом «Форде-Т», и молодой механик, который провел последний год войны на фронте и теперь работал в гараже, оказался недостаточно умелым или, может быть, не стал чинить машину мисс Стайн вне очереди. Может быть, он не понял, насколько важно починить машину мисс Стайн без промедления. Словом, он оказался не sérieux[17]17
Серьезным (фр.).
[Закрыть], и после протеста мисс Стайн получил нахлобучку от хозяина. Хозяин сказал ему: «Все вы generation perdue[18]18
Потерянное поколение (фр.).
[Закрыть]».
– Вот вы кто. Вы все, – сказала мисс Стайн. – Все вы, молодые люди, воевавшие на фронте. Вы – потерянное поколение.
– В самом деле? – сказал я.
– Да, – настаивала она. – У вас ни к чему нет уважения. Вы спиваетесь до смерти…
– Молодой механик был пьян? – спросил я.
– Нет, конечно.
– Меня вы когда-нибудь видели пьяным?
– Нет. Но ваши друзья – пьяницы.
– Я напивался, – сказал я. – Но сюда пьяным не приходил.
– Конечно, нет. Я этого не говорила.
– Вероятно, хозяин гаража бывает пьян в одиннадцать часов утра, – сказал я. – Вот почему он произносит такие красивые фразы.
– Не спорьте со мной, Хемингуэй, – сказала мисс Стайн. – Это бессмысленно. Все вы – потерянное поколение, как правильно сказал хозяин гаража.
Позже, когда я написал свой первый роман, мне захотелось уравновесить цитату из хозяина гаража цитатой из Екклесиаста. А в тот вечер, возвращаясь домой, я думал о парне из гаража, не везли ли его тоже на легковой машине, переоборудованной под санитарную. Я помнил, как у них горели тормоза, когда, набитые ранеными, они спускались по горным дорогам, тормозя двигателем и в конце концов включая обратную передачу, и как последние машины гнали через горы пустыми, чтобы заменить их большими «фиатами» с надежными трехскоростными коробками передач и мощными тормозами. Я думал о мисс Стайн и Шервуде Андерсоне, о самомнении, о разнице между умственной ленью и дисциплиной и думал: это кто кого называет потерянным поколением? Между тем я подошел к «Клозери де Лила»; на моего старого друга – памятник маршала Нея с обнаженной саблей – падал свет, на бронзе лежали тени ветвей, он был там один, никого за спиной, и я подумал, как он оплошал при Ватерлоо, и что все поколения были потеряны из-за чего-то, всегда были потерянными и всегда будут, и зашел в «Клозери», чтобы статуе не было одиноко, и выпил холодного пива, перед тем как вернуться домой, в квартиру над лесопилкой. Но пока сидел там с пивом, смотрел на статую, вспоминая, сколько долгих дней Ней сражался один в арьергарде при отступлении из Москвы, когда Наполеон уехал с Коленкуром в карете, я подумал, каким душевным и добрым другом была мисс Стайн и как прекрасно она говорила об Аполлинере и о его смерти в день перемирия в 1918 году, когда толпа кричала «à bas Guillaume»[19]19
«Долой Гийома» – так звучит по-французски имя Вильгельм. Выкрики толпы относились к императору Германии Вильгельму II.
[Закрыть], а он в бреду принял это на свой счет, и я подумал: пока могу, сделаю все, чтобы послужить ей и чтобы ее хорошие вещи получили признание, и да поможет мне Бог и Майк Ней. Но к черту ее разговоры о потерянном поколении и ее дешевые нечестные ярлыки.
Когда я вошел в наш двор, поднялся по лестнице и увидел жену, и сына, и его кота Ф. Мура, счастливых, и огонь в камине, я сказал жене:
– Знаешь, все-таки Гертруда милая.
– Конечно, Тэти.
– Но иногда несет ужасный вздор.
– Я ее никогда не слышу, – сказала жена. – Я – жена. Со мной разговаривает ее подруга.
8
Голод был хорошим воспитателем
В Париже, если недоедаешь, становишься очень голоден: в витринах булочных выставлены вкусные вещи, на тротуарах за столами сидят люди, и ты видишь и обоняешь еду.
Когда ты отказался от журналистики и пишешь то, что никто в Америке не хочет покупать, и поэтому должен пропускать еду и объяснять дома, что пообедал с кем-то в городе, тогда лучше всего отправиться в Люксембургский сад, где не увидишь и не унюхаешь ничего съестного от площади Обсерватории до улицы Вожирар. Можно зайти в Люксембургский музей, и все картины становятся выразительнее, ярче, прекраснее, когда смотришь их натощак, с пустым брюхом. Голодным я научился понимать Сезанна гораздо лучше и видеть, как он строит свои пейзажи. И порой задумывался: не был ли он тоже голоден, когда писал, – но вряд ли, думал я, разве что забыл поесть. Такие бывают нездоровые озарения, когда живешь впроголодь или недосыпаешь. Позже я решил, что Сезанн, вероятно, был голоден в другом смысле.
Выйдя из Люксембурга, ты мог прогуляться по узкой улице Феру до площади Сен-Сюльпис, где тоже не было ресторанов, а только тихая площадь с деревьями и скамьями. Был еще фонтан со львами, по тротуару расхаживали голуби и сидели на статуях епископов. Была церковь и на северном краю площади – лавки с религиозными принадлежностями и облачением.
От этой площади уже нельзя было пойти к реке, не встретив фруктовых, овощных, винных лавок, булочных и кондитерских. Но если выбрать дорогу осмотрительно, пройти направо вокруг бело-серой каменной церкви до улицы Одеон и опять свернуть направо, к книжному магазину Сильвии Бич, то можно дойти до него, минуя не слишком много заведений, где продается съестное. На улице Одеон нет кафе, и только там, где она выходит на площадь, есть три ресторана.
К тому времени, когда ты доходил до дома 12 по улице Одеон, голод удавалось обуздать, зато все восприятия снова обострялись. По-другому выглядели фотографии, и на глаза попадались книги, которых прежде совсем не видел.
– Вы очень похудели, Хемингуэй, – говорила Сильвия. – Вы хорошо питаетесь?
– Конечно.
– Что вы ели на обед?
В животе происходил бунт, и я отвечал:
– Как раз иду домой обедать.
– В три часа?
– Я не знал, что уже так поздно.
– На днях Адриенна сказала, что хочет пригласить вас на ужин. И позовем Фарга. Вы ведь любите Фарга? Или Ларбо. Он вам нравится. Нравится, я знаю. Или еще кого-нибудь, кто вам нравится. Поговорите с Хэдли?
– Она с удовольствием придет.
– Я пошлю ей pneu[20]20
Письмо по пневматической почте.
[Закрыть]. Раз вы мало едите, так и работайте поменьше.
– Хорошо.
– Идите-ка домой, а то к обеду опоздаете.
– Мне оставят.
– И холодное не ешьте. Пообедайте как следует, горячим.
– У меня не было почты?
– По-моему, нет. Но дайте посмотрю.
Она посмотрела, нашла записку и радостно подняла голову. Потом открыла дверцу письменного стола.
– Принесли, пока меня не было, – сказала она.
Это было письмо, а на ощупь – с деньгами.
– Веддеркоп, – сказала Сильвия.
– Должно быть, из «Квершнитта». Вы видели Веддеркопа?
– Нет. Но он был здесь с Джорджем. Он с вами встретится. Не волнуйтесь. Может быть, хотел сначала заплатить.
– Тут шестьсот франков. Пишет, что будут еще.
– Ужасно рада, что напомнили мне посмотреть, мой приятнейший друг.
– Чертовски странно, что единственное место, где я могу что-то продать, – Германия. Покупает только он да «Франкфуртер цайтунг».
– Действительно. Но вы не беспокойтесь. Всегда можете продать рассказы Форду, – дразнила она.
– Тридцать франков страница. Скажем, в три месяца один рассказ в «Трансатлантик». Рассказ в пять страниц – сто пятьдесят франков в квартал. Шестьсот в год.
– Хемингуэй, не думайте о том, сколько они приносят сейчас. Главное, что вы можете их писать.
– Знаю. Писать могу. Но их не покупают. С тех пор как я бросил журналистику, никаких доходов.
– Продадутся. Слушайте. Вот же получили сейчас деньги.
– Простите меня, Сильвия. Извините, что я об этом заговорил.
– За что простить? Всегда говорите – и об этом, и о чем угодно. Вы разве не знаете: все писатели только и говорят что о своих неприятностях. Но обещайте мне, что не будете волноваться и будете есть как следует.
– Обещаю.
– Тогда идите сейчас же домой обедать.
Я вышел на улицу Одеон с отвращением к себе от того, что стал жаловаться. То, что я делал, я делал по собственной воле – и делал глупо. Вместо того чтобы пропустить обед, надо было купить хлеб и съесть. Я ощущал во рту вкус коричневой корочки. Но его трудно есть всухомятку. Жалобщик чертов. Фальшивый, паршивый святой мученик, говорил я себе. Ты бросил журналистику по собственному желанию. Тебе верят, и Сильвия одолжила бы тебе денег. Сколько раз одалживала. Разве нет? А теперь еще чем-то должен будешь поступиться. Голодать полезно, и картины смотрятся лучше, когда ты голоден. Еда – тоже чудесное занятие, и знаешь, где ты поешь прямо сейчас?
У Липпа, вот где ты поешь – и выпьешь тоже.
До «Липпа» было недалеко, и каждое место, которое мой желудок замечал так же быстро, как глаза и нос, удваивало удовольствие от ходьбы. В brasserie[21]21
Пивная (фр.).
[Закрыть] было мало народу, я сел на лавку спиной к стене с зеркалом, и когда официант спросил, подать ли мне пива, заказал distinque – большую стеклянную кружку, вмещавшую литр, и картофельный салат.
Пиво было очень холодное и чудесное. Картофель плотный, с уксусом и вкуснейшим оливковым маслом. Я намолол на картошку черного перца и обмакнул хлеб в масло. После первого жадного глотка я пил и ел очень медленно. Салат кончился, я заказал еще порцию и cervelas. Это большая сарделька, разрезанная вдоль, под особым горчичным соусом.
Я собрал хлебом все масло и весь соус и пил пиво медленно, пока оно не согрелось; тогда я его прикончил, заказал demi[22]22
Полулитровая кружка пива.
[Закрыть] и посмотрел, как ее наливают. Она показалась мне холоднее, чем distinque, и я выпил половину.
Я подумал, что не беспокоюсь. Я знал, что рассказы хорошие и рано или поздно кто-нибудь в Америке их напечатает. Когда я перестал писать в газету, я был уверен, что рассказы напечатают. Но все, которые я посылал, мне возвращали. А уверен я был потому, что «Моего старика» Эдвард О’Брайен взял в сборник «Лучшие рассказы года» и посвятил этот выпуск мне. Я засмеялся и отпил пива. Рассказ ни в каком журнале не выходил, и О’Брайен взял его в сборник против всех правил. Я опять засмеялся, официант посмотрел на меня. Смешно было то, что после всех дел он напечатал мою фамилию неправильно. Это был один из двух рассказов, уцелевших после того, как все написанное мной было украдено в чемодане Хэдли на Лионском вокзале: она хотела сделать мне сюрприз и повезла все рукописи ко мне в Лозанну, чтобы я мог поработать над ними, пока мы отдыхаем в горах. И оригиналы, и машинописные экземпляры, и копии – все разложила по картонным папкам. Рассказ сохранился только потому, что Линкольн Стеффенс послал его какому-то издателю, а тот вернул его обратно. Он путешествовал по почте, когда остальные украли. Другой уцелевший назывался «У нас в Мичигане», написан был до того, как мисс Стайн пришла к нам в гости, и его я не копировал, потому что она объявила его inacrochable. Он завалялся в каком-то ящике стола.
Когда мы уехали из Лозанны в Италию, я показал рассказ о скачках О’Брайену, мягкому, застенчивому человеку, бледному, голубоглазому, с прямыми длинными волосами, которые он сам подстригал. Он квартировал тогда в монастыре над Раппало. Это было тяжелое время, я думал, что больше не смогу писать, и показал рассказ как что-то курьезное – как показывал бы тупо нактоуз со своего судна, потерянного нелепым образом, или свою ногу в ботинке, отнятую после крушения, и шутил бы на этот счет. Потом, когда он прочел рассказ, я увидел, что он огорчился гораздо больше меня. Я никогда не видел, чтобы человек так огорчался из-за чего-то, кроме смерти и невыносимых страданий, – разве только Хэдли, когда она мне рассказывала о пропаже. Она плакала, плакала и ничего не могла выговорить. Я сказал ей, что, какое бы несчастье ни случилось, таким ужасным оно быть не может, и, что бы там ни случилось, все как-нибудь обойдется, не волнуйся. Как-нибудь справимся. Тогда она наконец сказала. Я был уверен, что копии она не могла прихватить, и, попросив кого-то писать за меня в газету – я тогда хорошо зарабатывал журналистикой, – поехал на поезде в Париж. Но оказалось, так оно и есть, и я помню, что я делал в ту ночь, когда вошел в квартиру и увидел, что так оно и есть. Все это теперь было позади, а Чинк научил меня никогда не обсуждать боевые потери, поэтому я попросил О’Брайена не так сильно огорчаться. Может, это было к добру, что я потерял ранние произведения, и я наговорил ему все, чем положено потчевать солдат. Я намерен писать рассказы дальше, сказал я – соврал ему, чтобы он не так огорчался, но, когда это сказал, понял, что это правда.
Потом стал вспоминать в «Липпе», когда я снова смог написать рассказ, после того как все потерялось. Это было в Кортина-д’Ампеццо, когда я вернулся к Хэдли после весеннего катания на лыжах, которое мне пришлось прервать, потому что надо было ехать по заданию в Рейнланд и Рур. Это был очень простой рассказ под названием «Не в сезон», и я отбросил настоящий финал, где старик повесился. Я отбросил его, исходя из своей новой теории, что можно опустить что угодно, если опускаешь сознательно, и опущенный кусок усилит рассказ, заставит людей почувствовать больше того, что они поняли.
Ну вот, думал я, они у меня такие, что их не понимают. В этом почти нет сомнения. И уж точно на них нет спроса. Но их поймут, так же как это всегда бывает с живописью. Нужно только время, и еще нужна уверенность.
Когда экономишь на еде, необходимо лучше владеть собой, иначе погрязнешь в голодных мыслях. Голод – хороший воспитатель, на нем учишься, но можешь и что-нибудь придумать. И пока они не понимают, ты опередил их. Ну да, подумал я, уже настолько опередил, что не можешь питаться регулярно. Хорошо бы, они слегка тебя нагнали.
Я знал, что должен написать роман. Но это казалось непосильным делом, когда с большим трудом высиживаешь абзац, который мог быть выжимкой того, что хватило бы на роман. Необходимо было писать более длинные рассказы, как тренируются для более длинных дистанций. Когда я писал прошлый роман, тот, что пропал с украденным чемоданом на Лионском вокзале, у меня была юношеская лирическая легкость, такая же обманчивая и хрупкая, как юность. Я понимал, что, может быть, и к лучшему эта потеря, но понимал также, что должен написать роман. Буду откладывать, пока потребность не станет сильнее меня. Будь я неладен, если примусь писать роман только для того, чтоб мы могли регулярно обедать.
Я примусь за него тогда, когда невозможно станет заниматься ничем другим, когда у меня не будет выбора. Пусть он набухает. Я пока напишу длинный рассказ о чем-нибудь таком, что лучше всего знаю.
Тем временем я заплатил по счету, вышел, повернул направо и пересек улицу Рен, чтобы не соблазниться чашкой кофе в «Де Маго», и кратчайшей дорогой, по улице Бонапарта, направился к дому.
А что я знал лучше всего, о чем не писал и что упустил? О чем знал по-настоящему и что волновало больше всего? Тут и выбирать не приходилось. Выбрать надо было только улицы, которые быстрей всего приведут тебя к рабочему месту. Я пошел по улице Бонапарта к Гинеме, потом к улице Аса и через улицу Нотр-Дам-де-Шан в «Клозери де Лила».
Я сел в углу, так что предвечерний свет падал из-за моего плеча, и стал писать в блокноте. Официант принес мне café crème[23]23
Кофе со сливками (фр.).
[Закрыть], я дал ему остыть, выпил половину, отставил чашку и продолжал писать. Когда писать перестал, мне еще не хотелось расставаться с рекой, где я видел форелей в бочаге и воду, вздувавшуюся от напора на деревянные сваи моста. Рассказ был о возвращении с войны, хотя война в нем не упоминалась.
Но утром снова будет река, и я должен создать ее, и окрестность, и все, что произойдет. Впереди дни, когда это надо будет делать каждый день. Все остальное не имело значения. У меня в кармане деньги из Германии, с этой стороны все в порядке. Кончатся они – придут какие-нибудь другие.
Надо только сохранить ясную голову до завтрашнего утра, когда снова примусь за работу. В те дни нам даже не приходило в голову, что с чем-нибудь могут возникнуть трудности.









































