Читать книгу "Праздник, который всегда с тобой. За рекой, в тени деревьев"
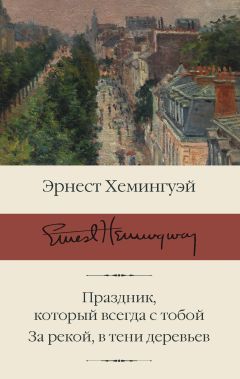
Автор книги: Эрнест Хемингуэй
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
15
Посланец Зла
Последнее, что сказал мне Эзра, перед тем как уехать с Нотр-Дам-де-Шан в Рапалло:
– Хем, возьмите эту банку опиума и отдайте Даннингу только тогда, когда она будет ему необходима.
Это была большая банка из-под крема; когда я отвинтил крышку, внутри оказалась темная липкая масса, пахшая плохо очищенным опиумом. Эзра, по его словам, купил ее у повара-индуса на авеню Опера около Итальянского бульвара, и она стоила дорого. Я подумал, что она происходит из «Дыры в стене», пристанища дезертиров и торговцев наркотиками во время Первой мировой войны и после. «Дыра в стене» была узким баром, почти коридором, с красным фасадом на Итальянской улице, а черным ходом она когда-то соединялась с коллектором, по которому якобы можно было добраться до катакомб. Даннинг же был Ральф Чивер Даннинг, поэт, который курил опиум и забывал есть. Когда он курил слишком много, он мог только пить молоко и писал terza rima[40]40
Терцины (ит.).
[Закрыть], за что его полюбил Эзра, находивший в его поэзии и другие достоинства. Даннинг жил в том же дворе, что и Эзра, и за несколько недель до отъезда из Парижа Эзра вызвал меня на помощь к умиравшему Даннингу.
«Даннинг умирает, – значилось в записке. – Пожалуйста, приходите сейчас же».
Даннинг, похожий на скелет, лежал на матрасе и в конце концов несомненно умер бы от недоедания, но мне удалось убедить Эзру, что мало кто умирает, разговаривая закругленными фразами, и я еще не видел человека, чтобы умер, разговаривая терцинами, и сомневаюсь, что даже Данте это удалось бы. Эзра возразил, что Даннинг не разговаривает терцинами, и я сказал, что, может быть, терцины мне послышались, поскольку я спал, когда Эзра меня вызвал. В общем, просидев ночь в ожидании смерти Даннинга, мы препоручили дело врачу, и Даннинг был увезен в частную клинику для дезинтоксикации. Эзра гарантировал оплату счетов и заручился содействием, не знаю каких уж там поклонников поэзии Даннинга. Мне же была поручена только доставка опиума в случае чрезвычайной ситуации. Это была священная обязанность, возложенная Эзрой, и я только надеялся, что смогу оказаться достойным и правильно определить момент возникновения этой чрезвычайной ситуации. Она возникла однажды воскресным утром, когда во дворе лесопилки появилась консьержка Эзры и крикнула наверх, в открытое окно, где я изучал программу скачек:
– Monsieur Dunning est monté sur le toit et refuse catégoriquement de descendre[41]41
Месье Даннинг залез на крышу и категорически отказывается спускаться (фр.).
[Закрыть].
Пребывание Даннинга на крыше и категорический отказ спуститься представлялись ситуацией чрезвычайной, я достал банку с опиумом и пошел с консьержкой, маленькой нервной женщиной, которая была очень взволнована происходящим.
– У месье есть то, что требуется? – спросила она меня.
– Безусловно, – сказал я. – Не будет никаких сложностей.
– Месье Паунд думает обо всем, – сказала она. – Он сама доброта.
– Согласен, – сказал я. – И я скучаю по нему каждый день.
– Будем надеяться, что месье Даннинг поведет себя разумно.
– У меня для этого все необходимое, – заверил я ее.
Когда мы подошли к их двору, консьержка сказала:
– Он спустился.
– Должно быть, знал, что я иду.
Я поднялся по наружной лестнице к квартире Даннинга и постучался. Он открыл. Он был худ и казался необычно высоким.
– Эзра просил принести вам это, – сказал я и отдал ему баночку. – Он сказал, вы поймете, что это.
Он взял баночку и посмотрел на нее. Потом бросил ее в меня. Она попала мне в грудь или в плечо и покатилась по лестнице.
– Сволочь, – сказал он. – Мерзавец.
– Эзра сказал, что она вам может понадобиться, – сказал я.
В ответ он бросил в меня молочную бутылку.
– Вы уверены, что она вам не нужна? – спросил я.
Он бросил еще одну молочную бутылку.
Я ретировался, и он запустил мне в спину еще одной бутылкой. И захлопнул дверь.
Я подобрал баночку, слегка треснувшую, и положил в карман.
– По-моему, он не захотел подарка от месье Паунда, – сказал я консьержке.
– Может быть, он теперь успокоится, – сказала она.
– Может быть, у него был свой, – сказал я.
– Бедный месье Даннинг, – сказала она.
Любители поэзии, организованные Эзрой, в конце концов снова пришли на выручку к Даннингу. Мое и консьержки вмешательство оказалось безуспешным. Треснувшую банку с предполагаемым опиумом я завернул в пергамент и тщательно упаковал в старый сапог для верховой езды. Через несколько лет, когда мы с Эваном Шипменом освобождали квартиру от моего имущества, сапоги нашлись, но банки не было. Не знаю, когда на самом деле умер Даннинг и умер ли – и почему бросался в меня молочными бутылками: то ли потому, что я с недоверием отнесся к его первому умиранию той ночью, то ли моя личность была ему неприятна. Но помню, какое ликование вызвала у Эвана Шипмена фраза: «Monsieur Dunning est monté sur le toit et refuse catégoriquement de descendre». Он считал, что в ней есть что-то символическое. Не знаю. Может быть, Даннинг счел меня агентом Зла или полиции. Знаю только, что Эзра старался помочь Даннингу, как помогал многим людям, и надеюсь, что Даннинг в самом деле был таким хорошим поэтом, каким его считал Эзра. Для поэта он довольно метко бросал молочные бутылки. Впрочем, Эзра, великолепнейший поэт, при этом отлично играл в теннис. А Эван Шипмен, который был прекраснейшим поэтом и искренне безразличным к тому, будут ли когда-нибудь опубликованы его стихи, считал, что это должно остаться тайной.
– Нам в нашей жизни, Хем, нужно больше настоящей тайны, – сказал он мне однажды. – Писателя, полностью лишенного честолюбия, и действительно хорошего неопубликованного стихотворения – вот чего нам больше всего не хватает сегодня. Есть еще, конечно, проблема прокорма.
Я не видел ничего написанного об Эване Шипмене, об этой части Парижа и о его неопубликованных стихах, поэтому и счел важным включить его в свою книгу.
16
Зимы в Шрунсе
Когда нас стало трое, а не двое, холод и непогода в конце концов выгнали нас зимой из Парижа. Одному вполне можно было привыкнуть. Я всегда мог пойти писать в кафе и все утро проработать за чашкой café crème, пока официанты протирали столы и подметали и в помещении постепенно становилось теплее. Жена могла пойти упражняться за фортепьяно, надев побольше свитеров, чтоб не замерзнуть за игрой, а потом вернуться домой и ухаживать за Бамби. Но брать маленького ребенка в кафе зимой не годилось – даже такого ребенка, который никогда не плачет, за всем наблюдает и никогда не скучает. Тогда бебиситтеров не было, и Бамби лежал счастливый в своей кроватке с высокой сеткой в обществе большого чудесного кота по имени Ф. Мур. Некоторые говорили, что опасно оставлять младенца с котом. Темные и суеверные говорили, что кошка может высосать дух из младенца и убить его. Другие – что может лечь на ребенка и задушить своей тяжестью. Ф. Мур лежал рядом с Бамби, в кроватке с высокой сеткой, желтыми глазами следил за дверью и никого не подпускал, когда нас не было дома, а Мари, femme de ménage[42]42
Приходящая домашняя работница (фр.).
[Закрыть], тоже надо было уйти. Нянька для малыша не требовалась – нянькой был Ф. Мур.
Но если вы действительно бедны – а мы были вправду бедны, когда вернулись из Канады, и я бросил журналистику, и рассказов моих никто не печатал, – зимой в Париже с маленьким ребенком тяжело, даже с таким, как Бамби, который в возрасте трех месяцев пересек январскую Атлантику за двенадцать дней на маленьком пароходе компании «Кьюнард», шедшем из Нью-Йорка через Галифакс, и ни разу не заплакал за все плавание, а только радостно смеялся, когда на его койке строили баррикаду, чтобы он не свалился во время сильной качки.
Мы отправились в Шрунс в земле Форарльберг в Австрии. Проехав Швейцарию, вы подъезжаете к австрийской границе у Фельдкирхе. Поезд пересек Лихтенштейн, сделал остановку в Блуденце, а оттуда по ветке, проложенной по лесистой долине с фермами, вдоль речки с галечным дном, где водилась форель, мы приехали в Шрунс, солнечный торговый городок с лесопилками, складами, трактирами и хорошей, круглый год открытой гостиницей «Таубе», где мы и поселились.
Комнаты в «Таубе» были просторные и удобные, с большими печами, большими окнами и большими кроватями с хорошими одеялами и перинами. Кормили просто, но вкусно; в столовой и в баре, обшитом деревом, было тепло и уютно. Широкая долина была открыта солнцу. Пансион стоил около двух долларов в день за троих, но австрийский шиллинг падал из-за инфляции, и комната с едой обходилась все дешевле. Такой отчаянной инфляции и нищеты, как в Германии, здесь не было. Курс шиллинга колебался, но, в общем, шел вниз.
В Шрунсе не было ни лыжных подъемников, ни фуникулеров, зато сверху по долинам шли трелевочные и скотопрогонные дороги. Ты поднимался пешком с лыжами, а наверху, где начинался глубокий снег, взбирался на лыжах с прикрепленными к ним тюленьими шкурами. Наверху долин стояли большие хижины Альпийского клуба, предназначенные для летних альпинистов; там ты мог поспать и оставить плату за использованные дрова. В некоторые ты должен был сам приносить дрова, а если отправлялся надолго в высокогорье, нанимал кого-то нести вместе с тобой дрова и провизию и устраивал базу. Самыми знаменитыми из этих высокогорных хижин были Линдауэр-Хютте, Мадленер-Хаус и Висбаденер-Хютте.
Позади гостиницы «Таубе» был своего рода тренировочный склон, где ты скатывался среди фруктовых садов и полей, и еще один хороший склон за Чаггунсом, на другой стороне долины, где был красивый трактир с прекрасной коллекцией рогов серны на стенах питейного зала. От поселка лесорубов Чаггунса на дальней стороне долины хорошие склоны для катания тянулись до самого верха, а перевалив через хребет Сильвретта, ты попадал в район Клостерса.
Шрунс был чудесным местом для Бамби, которого вывозила в санках на солнышко молоденькая красивая черноволосая няня; Хэдли и я тем временем знакомились с новой страной, новыми деревнями и очень дружелюбными горожанами. Герр Вальтер Лент, пионер горнолыжного спорта и в прошлом партнер великого арльбергского лыжника Ханнеса Шнайдера, составлявший лыжные мази для подъема и разных температур и видов снега, открыл горнолыжную школу, и мы оба записались. Система Вальтера Лента состояла в том, чтобы как можно быстрее уйти с учебных склонов в высокогорье. Горнолыжный спорт отличался от сегодняшнего, спиральные переломы еще не стали обыденностью, перелом ноги был слишком дорогим удовольствием. Не было лыжных патрулей. Откуда ты хотел скатиться, туда ты должен был подняться и скатиться мог лишь столько раз, сколько взобрался на своих двоих. И ноги становились такими, какие не подведут при спуске.
Вальтер Лент считал, что самое интересное в лыжном спорте – забраться в горы как можно выше, где никого нет, где никто не прокладывал лыжню, и переходить из одной хижины Альпийского клуба в другую через высокие перевалы и альпийские ледники. Крепления должны быть такие, чтобы ты не сломал ногу, если упадешь. Лыжа должна слетать легко, чтобы дело не дошло до перелома. А больше всего он любил спуск на ледниках без страховочной веревки, но с этим надо было подождать до весны, когда трещины надежно закроет снег.
Мы с Хэдли полюбили лыжи сразу, впервые встав на них в Швейцарии, а потом в Кортина-д’Ампеццо в Доломитовых Альпах, – там ожидалось рождение Бамби, и врач в Милане разрешил ей продолжать кататься, если я пообещаю, что она не будет падать. Поэтому надо было тщательно выбирать рельеф и трассу и ездить очень аккуратно, но у нее были удивительно сильные красивые ноги, она прекрасно держалась на лыжах и ни разу не упала. Так же как не падала потом, когда спускалась по ледникам без страховки. Снег в любом состоянии стал нам привычен, и мы научились ездить по глубокому рассыпчатому снегу.
Мы полюбили Форарльберг и полюбили Шрунс. Уезжали туда около Дня благодарения и оставались почти до Пасхи. Кататься на лыжах можно было постоянно; правда, Шрунс располагался низко и снега там хватало только в самую снежную зиму, а в остальное время надо было подниматься наверх. Подъем тоже был удовольствием, никто на это не сетовал. Выбираешь определенный темп, меньше того, на какой ты способен, – и тебе легко, сердце работает ровно, ты гордишься весом своего рюкзака. Часть подъема к Мадленер-Хаусу была крутая и очень неровная. Но уже во второй раз восхождение давалось легче, а потом ты легко поднимался с вдвое более тяжелым рюкзаком.
Нам все время хотелось есть, и каждая еда была большим событием. Пили светлое или темное пиво и молодые вина, иногда прошлогодние. Белые были лучше всего. Кроме того, был чудесный кирш, который гнали в долине, и шнапс из корней горечавки – Enzian Schnapps. Иногда на ужин мы ели тушеного зайца в соусе из красного вина, иногда оленину с каштановым соусом. С ней мы пили красное вино, хотя оно было дороже белого, и самое лучшее стоило двадцать центов литр. Ординарное красное было гораздо дешевле, и мы брали с собой бочонок в Мадленер-Хаус.
У нас был запас книг, которые Сильвия Бич позволила нам взять на зиму; мы играли с местными в кегли в коридоре, выходившем к летнему саду гостиницы. Раз или два в неделю в столовой с зашторенными окнами, за запертой дверью играли в покер. Тогда в Австрии азартные игры были запрещены, и я играл с герром Нельсом, хозяином гостиницы, герром Лентом, директором горнолыжной школы, с городским банкиром, прокурором и капитаном жандармерии. Играли серьезно, все были основательными игроками, кроме герра Лента, который излишне рисковал, поскольку горнолыжная школа не приносила дохода. Услышав, что перед дверью остановилась пара патрульных жандармов, капитан подносил палец к уху, и мы замолкали, дожидаясь, когда они уйдут.
Морозным утром, чуть свет, в комнату входила горничная, закрывала окна и затапливала большую изразцовую печь. Комната согревалась, и давали завтрак – свежий хлеб или тост, с вкусными консервированными фруктами, большие чашки кофе и, если ты хотел, свежие яйца и прекрасную ветчину. Был песик по имени Шнауц, который спал у нас в ногах, любил ходить со мной в лыжные походы и ехать у меня на спине или лежа через плечо, когда я скатывался вниз. Притом он был другом Бамби, отправлялся на прогулку вместе с ним и с няней и шел рядом с санками.
В Шрунсе хорошо работалось. Это я достоверно знаю, потому что зимой 1925/26 года проделал там самую трудную работу в жизни, переписав «И восходит солнце», написанный одним рывком за шесть недель, и превратив в роман. А какие рассказы я там написал, не помню. Но несколько было удачных.
Помню, как морозными ночами хрустел снег, когда ты шел по дороге к поселку с лыжами и палками на плече, и видел сначала огоньки, а потом и сами здания, и как все прохожие говорили «Grüss Gott»[43]43
Здравствуйте (нем., диал.).
[Закрыть]. В Weinstube[44]44
Винный ресторанчик (нем.).
[Закрыть] всегда были деревенские в горской одежде и башмаках с шипами, в воздухе висел дым и дощатые полы были выщерблены шипами. Из молодых многие отслужили в австрийских горнострелковых полках, и один из них, по имени Ганс, работавший на лесопилке, был знаменитым охотником и моим приятелем, потому что когда-то мы оказались с ним в одном и том же горном районе Италии. Мы выпивали с ним и пели тирольские песни.
Помню трассы между садами и фермерскими полями на склонах над деревнями и натопленные фермерские дома с большими печами и громадными поленницами в снегу. Женщины работали в кухнях, чесали и пряли серую и черную шерсть. Прялки были с ножным приводом, шерсть не красили. Черная пряжа была из шерсти черных овец. Шерсть не обезжиривали, шапки, свитера и длинные шарфы из нее никогда не намокали от снега.
Однажды в Рождество поставили пьесу Ганса Сакса, режиссировал директор школы. Это был хороший спектакль, я написал рецензию для провинциальной газеты, а перевел ее хозяин гостиницы. В другом году немец, бывший морской офицер, с бритой головой и шрамами, прочел лекцию с диапозитивами о великой непризнанной Германской Победе в Ютландском сражении. На туманных картинах показывались передвижения сражающихся флотов, и, пользуясь кием как указкой, отставной офицер обрисовывал трусость Джеллико[45]45
Адмирал Джон Джеллико командовал британским флотом в Ютландском сражении (1916).
[Закрыть] и порой так распалялся гневом, что терял голос. Директор школы боялся, что он проткнет кием экран. Бывший офицер еще долго не мог утихомириться, и в Weinstube всем было не по себе. Пили с ним только прокурор и банкир, и происходило это за отдельным столом. Герр Лент, уроженец Рейнланда, не пошел на лекцию. Там была еще пара из Вены, они приехали кататься на лыжах, но не хотели подниматься высоко в горы и уезжали поэтому в Цюрс, где, я слышал, погибли под лавиной. Мужчина сказал, что лектор – из тех свиней, что погубили Германию и через двадцать лет проделают это снова. Женщина по-французски велела ему замолчать, сказав, что городок маленький и кто их знает.
В тот год под лавинами погибло много народу. Первое большое несчастье произошло по другую сторону гор от нас, в Лехе, в Арльберге. Группа немцев хотела приехать на Рождество и кататься с герром Лентом. В тот год снега долго не было, склоны еще грело солнце, когда начался большой снегопад. Снег был глубокий и сыпучий и совсем не связан с грунтом. Условия для катания были как нельзя более опасные, и герр Лент протелеграфировал берлинцам, чтобы они не приезжали. Но у них были каникулы, они ничего не понимали и не боялись лавин. Они приехали в Лех, и герр Лент отказался их вести. Один из них назвал его трусом, и они сказали, что будут кататься сами. В конце концов он отвел их на самый безопасный склон, какой мог найти. Он проехал сам, они – за ним, и тут весь склон сошел, накрыл их, как цунами. Тринадцать человек откопали, девять из них – мертвыми. Горнолыжная школа и до этого не процветала, а теперь мы остались чуть ли не единственными учениками. В Арльберге в ту зиму многие погибли под лавинами, и мы стали большими специалистами по лавинам – по разным типам лавин и по тому, как их избегать, и как вести себя, если тебя накрыло. Большую часть написанного в тот год я написал в периоды схода лавин.
Самое плохое, что я запомнил из той лавинной зимы, – это одного откопанного. Он сидел на корточках и устроил из рук загородку перед головой, как нас учили, – тогда под снегом остается воздушное пространство для дыхания. Лавина была громадная, откапывали всех долго, и этого нашли последним. Умер он не очень давно, и шея у него была протерта насквозь, так что обнажились сухожилия и кости. Он вертел в снегу головой из стороны в сторону. В этой лавине, видимо, был слой плотного, слежавшегося снега и поверх него свежий, легкий снег. Мы не могли понять, делал ли это человек сознательно или он сошел с ума. Но это не имело значения, потому что местный священник запретил хоронить его в освященной земле: не было никаких доказательств того, что он католик.
Помню в Шрунсе долгие путешествия вверх по долине к гостинице, где мы ночевали перед восхождением к Мадленер-Хаусу. Это была очень красивая старая гостиница, и деревянные стены комнаты, где мы ели и пили, стали шелковистыми оттого, что их множество лет протирали. То же самое – столы и стулья. Еда всегда была хорошая, а мы всегда хотели есть. Спали прижавшись друг к другу под периной, с открытыми окнами; яркие звезды казались близкими. Утром после завтрака нагружались и шли вверх по дороге под яркими еще звездами, с лыжами на плече. У носильщиков лыжи были короткие, и несли они большой груз. Мы соревновались между собой, кто нагрузится тяжелее в дорогу, но никто не мог состязаться с носильщиками – коренастыми угрюмыми крестьянами, которые говорили на диалекте долины Монтафон[46]46
Долина Монтафон – самый большой лыжный район федеральной земли Форарльберг.
[Закрыть] и поднимались в гору ровным шагом, как вьючные лошади, а наверху, у хижины Альпийского клуба, построенной на уступе под заснеженным ледником, складывали свою ношу у каменной стены хижины, запрашивали больше денег, чем было договорено внизу и, согласившись на компромисс, уносились вниз на своих коротких лыжах, как гномы.
С нами каталась чудесная молодая немка. Замечательная лыжница, маленькая и ладно сложенная, она могла нести такой же тяжелый рюкзак, как я, и нести дольше.
– Эти носильщики всегда смотрят на нас так, словно предвкушают, как понесут нас вниз в виде трупов, – сказала она. – Они назначают плату за подъем, и не знаю случая, чтобы потом не запросили больше.
Крестьяне верхней части долины очень отличались от нижних и средних, и в Гауэртале были так же дружелюбны, как те недоброжелательны. Чтобы не обгорало лицо на горном солнце и снегу, я отпустил бороду и не стригся, и как-то, съезжая со мной по трелевочной тропе, герр Лент сказал, что крестьяне, которые встречаются мне на дорогах над Шрунсом, называют меня «Черный Христос». А некоторые, сказал он, когда бывали в Weinstube, называли меня «Черный Христос, любитель кирша». Но для крестьян с верхнего края долины Монтафон, которых мы нанимали носильщиками, когда поднимались к Мадленер-Хаусу, – для них мы были чужеземные черти, которые лезут в горы, когда надо держаться от них подальше. А что выходили мы до рассвета, чтобы миновать лавиноопасные места, пока их не согрело солнце, – это тоже нам чести не делало. Только доказывало, что мы хитрые, как все чужеземные черти.
Помню, как пахли сосны, как спал на матрасах из буковых листьев в хижинах лесорубов, как ходил на лыжах в лесу по заячьим и лисьим следам. Однажды на высоте, над границей леса, ехал по следу лисы, пока не увидел ее саму: она замерла, подняв переднюю лапу, потом крадучись двинулась дальше, остановилась… потом бросок, что-то белое, хлопанье крыльев – куропатка вырвалась из снега, полетела, исчезла за горой.
Помню все разнообразие снега, которое создавал ветер, и какие ловушки таил в себе снег, когда ты ехал на лыжах. Еще бывали метели, когда ты сидел в горной хижине, и какой странный они создавали мир, так что идти по трассе надо было осторожно, словно ты здесь впервые. И в самом деле, впервые: все было внове. И наконец, была большая трасса по леднику, ровная и прямая, все время прямая, если удержишься на ногах – лодыжка к лодыжке, пружиня коленями, пригнувшись для скорости, все вниз и вниз, под слабый свист сухого снега. Это было лучше любого полета и чего угодно другого; ты вырабатывал способность делать это и получать это благодаря долгим восхождениям с тяжелым рюкзаком. Этого нельзя было ни купить, ни по билету попасть на вершину. Ради этого мы работали всю зиму, всю зиму набирались сил, чтобы это стало возможным.
За последнюю нашу зиму в горах в нашу жизнь глубоко вошли новые люди, и все навсегда переменилось. Зима лавин была счастливой невинной зимой детства по сравнению с этой зимой и убийственным летом вслед за нею. Хэдли и я стали слишком уверены друг в друге и беззаботны в своей уверенности и гордости. В механике проникновения я не искал ничьей вины, кроме своей, и с каждым годом жизни это становилось яснее. Беспощадная расчистка трех сердец, чтобы сломать одно счастье и построить другое, и любовь, и хорошая работа, и все, что в результате получилось, – уже не из этой книги. Я написал об этом, но сюда не включил. Это сложный, ценный и поучительный сюжет. И как все кончилось в итоге, тоже не имеет к нынешнему рассказу отношения. Для единственной, на ком и не могло быть никакой вины, – для Хэдли – все кончилось хорошо, она вышла за человека лучше меня, с которым я даже не надеюсь сравняться, и счастлива, счастлива по праву, и это единственное хорошее и долговечное, чем разрешился тот год.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































