Текст книги "Тернистым путем [Каракалла]"
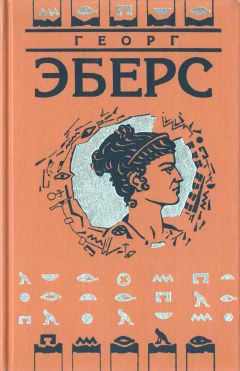
Автор книги: Георг Эберс
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 42 страниц)
Между женщинами при дворе Юлии будет великое торжество, когда они узнают, что избранная цезарем невеста пренебрегла им и вместе с ним и пурпурною мантией.
Впрочем, эта радость не будет продолжительна, потому что известие о сотне тысяч александрийцев, наказанных смертью, поразит женщин – он знал это, – как удар хлыста.
Ему казалось, как будто он слышит их вой и плач, как будто он видит ужас Филострата и то, как он вместе с женщинами скорбит по поводу этого ужасного преступления. Философ, может быть, будет серьезно возмущен, и если бы он, император, имел его сегодня утром при себе, может быть, все было бы иначе.
Но неслыханное совершилось, и теперь нужно нести последствия этого.
Лучшие люди, они уже не участвовали в его последнем ужине, не допустили бы его до этого поступка. Зато к нему подтолкнула его шайка, которую он приблизил к себе. Феокрит и Пандион, Антигон и Эпагатос, жрец Александра, который запутался в Риме в долгах и которого покладистая совесть снова сделала богатым человеком, крепко опутали его.
«Сволочь!» – пробормотал он про себя.
Если бы только Филострат возвратился к нему! Но он едва ли может надеяться на это.
Иметь сношения исключительно с этой шайкой – это отвратительно. Он, конечно, может заставить каждого находиться при нем. Но к чему ему послужат безмолвные и к тому же брюзгливые товарищи? И кто виноват в том, что он отослал лучшего из лучших, Филострата? Она, от которой он ожидал счастья и мира, вероломная обманщица, уверявшая, что она чувствует себя связанною с ним, фиглярка, относительно которой он вообразил, что в ней живет душа Роксаны…
На маленьком столике у его постели, между его собственными украшениями, лежала золотая змея, которую он ей подарил и которая украшала ее труп. Он видел ее даже во тьме.
По плечам его пробежал холод, и ему казалось, что из мрака выдается женская рука, почерневшая от копоти, и что от нее отделяется золотая змея и направляет против него свое жало…
Он в ужасе вздрогнул и спрятал голову под одеяло. Но, сердясь на свою слабость и стыдясь ее, он скоро сбросил с себя это наваждение, и какой-то внутренний голос с насмешкою поставил перед ним вопрос: неужели он все еще верит, что душа македонского героя избрала его тело своим жилищем.
Этому гордому убеждению должен был наступить конец; он имел с Александром так же мало общего, как Мелисса с Роксаной, на которую она была похожа.
Кровь горячо кипела в его жилах. Продолжать жить таким образом казалось ему невозможным.
С наступлением дня должно было оказаться, что он тяжко занемог. Тогда, конечно, дух Таравтаса появится снова, только уже не просто как ничтожный обманчивый призрак, и положит конец его жестокому страданию.
Но пульс, который он пощупал сам, бился не скорее обыкновенного. У него вовсе не было лихорадки, однако же он, должно быть, был болен, тяжко болен.
Затем ему сделалось так жарко, что он думал, что задыхается.
Тяжело дыша, он приподнялся на постели, чтобы позвать врача. При этом он увидел свет сквозь притворенную дверь соседней комнаты. Там говорили, и он узнал голоса Адвента и индийца.
Последний был обыкновенно так необщителен, что Филострат напрасно старался ближе познакомиться через него с учением браминов, среди которых Аполлоний Тианский нашел, как он уверял, высочайшую мудрость, и расспросить его о нравах его народа. А между тем Арьюна был очень сведущий человек и понимал письмена своего народа. Парфянские послы в особенности указывали на это обстоятельство, когда они представили индийца цезарю как подарок своего государя. Но Арьюна не удостаивал своим доверием никого из окружавших его людей. Только со старым Адвентом он вступал иногда в продолжительный разговор, потому что старик заботился о том, чтобы индийца кормили растительной пищей, к которой привык он, не прикасавшийся ни к какому мясу. Теперь он снова говорил с Адвентом, и Каракалла приподнялся и начал прислушиваться.
Индиец был погружен в чтение письмен своего народа, которые он привез с собою.
– Что ты там читаешь? – спросил Адвент.
– Одно писание, из которого можно узнать, что сделается из меня, тебя и всех после смерти, – отвечал Арьюна.
– Кто может знать это? – вздохнул старик.
Но Арьюна возразил решительно:
– Здесь это написано, и тут нет никакого сомнения. Хочешь послушать?
– Разумеется! – вскричал старик, глубоко заинтересованный.
И индиец начал переводить из своей книги:
– Когда человек умирает, то его части возвращаются к тому, к чему они принадлежат: его голос идет к огню, его дыхание – к ветру, глаза – к солнцу, ум – к месяцу, слух соединяется с пространством, тело – с землей, его сущность – смешивается с эфиром, его волосы превращаются в кустарник, кудри на его голове – в вершины деревьев, его кровь возвращается к воде. Таким образом, каждая часть человека снова присоединяется к той части во Вселенной, к которой она принадлежит, а от него самого, от его собственного существа не остается ничего, за исключением одного, но как называется это одно – это великая тайна.
До сих пор Каракалла следил за чтением индийца с напряженным вниманием, его речь нравилась ему. Он знал, что его, цезаря, после смерти сенат тоже причислит к богам, однако же считал верным, что олимпийцы никогда и ни в каком случае не примут его в свою среду. Он был философом в достаточной степени, для того чтобы знать, что ни что существующее не может превратиться в ничто. Но возвращение частей его существа в те части Вселенной, которым они принадлежат, понравилось ему. Притом в учении индийца не было места для ответственности души перед судом после смерти.
Цезарь уже был готов приказать рабу открыть свою тайну, когда Адвент предупредил его восклицанием:
– Мне-то ты, конечно, можешь сказать, что останется от меня, если только ты не подозреваешь под этим червей, которые родятся из меня и будут меня пожирать! Это тайна, разумеется, не важная, и я не выдам ее никому.
Но Арьюна возразил торжественным тоном:
– От тебя останется на всю вечность одно, что никогда не потеряется в круговороте мировой жизни, это одно есть деяние.
– Я знаю это сам, – возразил старик и равнодушно пожал плечами; но на императора это слово подействовало, как удар молнии.
Он, задыхаясь, прислушивался к словам индийца, чтобы узнать что-нибудь больше, но Арьюна, устыдясь того, что он расточает высочайшую мудрость на недостойного, уже снова углубился в чтение, а старик улегся, чтобы немножко поспать.
В спальне и вокруг нее водворилась глубокая тишина; только ужасное слово «деяние» отдавалось в ушах человека, который только что запятнал себя самым неслыханным из всех гнусных дел. Он не мог освободиться от этого ужасного слова, и все, в чем провинился он с детских лет, вернулось к нему в его воображении, накопилось и превратилось в гору, которая давила, подобно кошмару, его грудь.
Деяние!
И его деяние тоже будет существовать всегда и вместе с ним его имя, проклинаемое, ненавидимое дальнейшими поколениями. Души умерщвленных принесут и в Аид весть о деяниях, которые он совершил, и если придет Таравтас и увлечет его туда за собою, то там его встретят легионы возмущенных теней – сто тысяч, – и впереди них его строгий отец и другие достойные мужи, со славой и мудростью управлявшие Римом, и закричат ему в лицо: «Стотысячекратный убийца! Грабитель государства! Губитель войска!» Они повлекут его к суду и еще до произнесения приговора эти сто тысяч, с достойнейшею из его жертв во главе, благородным Папинианом, кинутся на него и разорвут его на куски.
В полусне он чувствовал их холодные руки на голове, на плечах, всюду, где прохладное дыхание настудившей ночи, проникая через окно, касалось его тела, и с громким криком он вскочил, пораженный ударом призрачной руки старого Виндекса.
Адвент, индиец, а также и Эпагатос, услыхавший из второй комнаты голос императора, прибежали к нему в испуге. Они нашли своего повелителя вспотевшим от страха, задыхающимся, с неподвижными глазами, и отпущенник поспешил, чтобы позвать врача.
Когда последний явился, император с досадою выслал его из комнаты, потому что не чувствовал никакого физического страдания.
Он неодетый пошел к окну.
Оставалось еще три часа до восхода солнца. Однако же он приказал одеть себя, приготовить ванну и позвать Макрина и других.
Лучше сидеть в теплой воде, чем вернуться к ужасам этого ложа.
День, оживленная деятельность должны были прогнать их.
Но после вечера опять наступит ночь, и если в эту ночь и в те, которые последуют за нею, повторится то, что он только что выстрадал, то он лишится рассудка, и тогда ему придется благословить дух Таравтаса, если он явится, чтобы увлечь его с собою в область смерти.
Но «деяние», это ужасное деяние – индиец был прав, – оно останется после него на земле и научит человечество проклинать его.
Не осталось ли еще времени, не обладает ли еще он способностью загладить происшедшее посредством великих, прекрасных деяний?
Но эти сто тысяч!
Точно стена, это число становилось перед каждым его намерением, которое он пытался предпринять в то время как шел в сопровождении льва в ванную, сидел в теплой воде и, наконец, отдыхал под свежими полотняными простынями.
Никто не осмеливался заговорить с ним до сих пор: он имел угрожающий вид.
Он велел подать себе завтрак в одном из боковых пространств ванной комнаты. Завтрак был простой, как всегда, но он мог проглотить только немного, потому что у него во рту все отзывалось горечью.
Префекта преторианцев разбудили, и его появление было приятно императору. Среди дел он легче, чем когда-нибудь, забывал о том, что его угнетало. Чем серьезнее были эти дела, тем было лучше, а по лицу Макрина было видно, что он имеет сообщить что-то важное.
Первый вопрос императора относился к парфянскому посольству. Оно в самом деле оставило город, и нужно было готовиться к войне. Каракалла пожелал тотчас же установить назначение каждого легиона и созвать легатов на военный совет. Но на предварительном совещании префект не принимал такого живого участия, как обыкновенно.
Он имел сообщить нечто такое, что – он знал это – будет для цезаря важнее всего. Когда это предположение подтвердится, то император, наверное, совершенно оставит государственные дела, и этого желал Макрин, когда он, до своего распоряжения о созвании легатов, как будто нехотя заметил, что цезарь прогневается на него, если он замедлит действия совета сообщением новости, которая недавно дошла до его слуха.
– Прежде всего дела! – вскричал Каракалла решительно.
– Как тебе угодно. Я хотел сказать только об уверении одного из служащих в этом доме, что дочь резчика, ты ведь знаешь, кто это, еще жива.
Но он не продолжал, потому что император внезапно вскочил и, с пылающим взором, потребовал, чтобы префект сообщил ему все.
Тогда Макрин начал свой рассказ. Недавно один из умертвителей жертв на жертвенном дворе сообщил ему, что вчера в послеполуденное время Мелиссу видели и что она находится в Серапеуме.
Дальнейших подробностей префект не знал, и потому цезарь тотчас же послал его увериться в правдивости известия, прежде чем он сам займется расследованием этого дела.
Он ходил взад и вперед, точно возродившийся к новой жизни.
Его глаза сверкали, и, ускоренно дыша, он силился привести в порядок массу планов, желаний, намерений, нахлынувших на него бурным потоком.
Он должен был наказать беглянку, но еще вернее было то, что он не желал более отпускать ее от себя; он должен был насладиться ею.
Если бы было возможно сперва бросить ее диким зверям, а затем снова призвать к жизни, украсить императорскою диадемой и осыпать всеми дарами богатства и власти! Каждое ее желание было бы угадываемо по ее глазам, если бы только она снова решилась класть руку на его лоб, прогонять боль из его головы и призывать сон к его ложу, наполненному всякими ужасами.
Но он не сделал для нее ничего; он даже не исполнил ни одной из ее просьб… И перед его воображением внезапно выступил образ Виндекса и его племянника, которых он предал палачу, несмотря на ее ходатайство за них, и снова прозвучало в его ушах страшное слово «деяние».
Неужели страшные мысли будут преследовать его и днем?
Но нет, в бодрственном состоянии много такого, что даст ему силу рассеять их.
Доложили о приходе повара, но время ли было думать Каракалле об услаждении своего вкуса теперь, когда он мог надеяться снова увидеть Мелиссу. Поэтому он равнодушно предоставил искусному и изобретательному человеку полную волю.
После ухода повара скоро последовало возвращение префекта.
Умертвитель жертв узнал о Мелиссе от своего товарища, который вчера два раза видел ее у одного из окон комнат для мистерий в верхнем этаже Серапеума в послеполуденное время. Он думал получить награду, обещанную за поимку беглянки, и обещал другому умертвителю жертв, если тот поможет схватить девушку, часть своей прибыли. Но видевший дочь резчика перед заходом солнца, услыхав, что избиение прекращено, пошел в город и там был убит каким-то пьяным солдатом скифского легиона.
Труп несчастного был найден, и второй умертвитель уверял, что он твердо убежден в правдивости рассказа своего убитого товарища, который, по отзыву главного надсмотрщика над жертвоприношениями, был человек трезвый и надежный.
Этих сведений было достаточно для цезаря. Макрин должен был прежде всего привести к нему верховного жреца и при этом позаботиться, чтобы тот ничего не успел предпринять для сокрытия Мелиссы.
Мясник с некоторыми из своих товарищей, которые должны получить свою долю награды за выдачу девушки, втайне уже сторожил со времени солнечного заката все ворота Серапеума и главную лестницу, которая ведет из комнаты для мистерий в нижний этаж.
Префект поспешил исполнить приказание императора. На пороге он встретил повара, который возвращался, чтобы предоставить на одобрение цезаря список обеденных блюд.
Он нашел Каракаллу преобразившимся, как бы помолодевшим и в самом веселом расположении духа.
Быстро одобрив предложение повара, император спросил его, в какой части здания находятся покои для мистерии, и когда узнал, что лестница, ведущая к ним, начинается около кухни, устроенной среди лабораторий храма, то обещал заглянуть в поварню. Он приведет с собой и льва, чтобы зверь поблагодарил за хорошее мясо, которое доставлялось ему оттуда постоянно.
Обрадованный необычайною милостью повелителя, гнев которого обрушивался на него довольно часто, главный повар вернулся к своему очагу.
Этот очаг стоял в обширном зале, который первоначально был самою большою из лабораторий, где приготовлялись курения для храма и лекарства для больничных его палат.
Он примыкал к менее обширным залам и комнатам, где работали жрецы, приготовлявшие кифи и медикаменты.
Гордясь обещанием цезаря, главный повар сообщил своим подчиненным, какого посещения, может быть, он удостоится, и затем пошел к двери ближайшей маленькой лаборатории, чтобы сообщить работавшему там старому пастофору, которому он был обязан разными добрыми услугами, что если он желает увидать цезаря, то ему стоит только отворить маленькую дверь, ведущую на лестницу. Император сейчас пойдет наверх в покои для мистерий со своим знаменитым львом. Он ручной, и император любит его, как своего родного сына.
На это старый составитель лекарств пробормотал про себя ответ, походивший больше на проклятие, чем на благодарность, которой ожидал повар, и последний пожалел, что он сравнил льва с сыном при этом человеке, носившем темную траурную одежду, потому что два его сына, цветущие юноши, были вчера убиты вместе с другими.
Но главный повар скоро забыл старика: он должен был приказать своим подчиненным поскорее привести в порядок место их деятельности и приготовить кухню к приему высокого посетителя. Между тем как он бросался туда и сюда, собственноручно помогая им, в комнату вошел пастофор и попросил позволить ему взять кусок бараньего мяса.
Это ему было разрешено охотно. Повар кивком головы указал на только что убитых баранов, и старик долго возился, отрезая кусок.
Наконец он отрезал то, что ему было нужно, и с какою-то особенною нежностью посмотрел на красное отборное мясо. Он быстро заперся в своей лаборатории, и когда вышел оттуда опять несколько минуть спустя, то морщинистое лицо этого спокойного, безобидного старика имело злобное и злорадное выражение. Перед лестницей он пытливо осмотрелся, но вслед за тем поспешно, как в молодые годы, взбежал по лестнице вверх и положил кусок мяса на одном из ее поворотов на нижней ступени.
Так же быстро вернулся он назад, бросил сквозь открытое окно лаборатории скорбный взгляд на Стадиум, где было убито то, что оставалось ему в жизни, и провел рукою по своим мокрым щекам. Наконец он снова принялся за работу, но без своего обычного рвения. Он дрожащими пальцами отвешивал можжевеловые ягоды и кедровую смолу и при этом, сдерживая дыхание, прислушивался к звукам на лестнице.
Там теперь было шумно, и кухонные рабы кричали, что цезарь идет. Пастофор вышел из лаборатории вслед за другими, чтобы тоже увидать что-нибудь, и один из поваров добровольно уступил место огорченному старику, чтобы не загораживать ему перспективы.
Неужели этот маленький молодой человек, который там, впереди своей свиты, рядом с главным жрецом, так весело и проворно всходит наверх, то мрачное чудовище, которое убило его цветущих сыновей? Он совершенно иначе представлял себе наружность этого ужасного человека. Теперь цезарь даже смеется, а тот величавый господин в пурпуре позади него – повар сказал ему, что это римлянин, находящийся не в ладах с Феофилом, – дает ему какой-то веселый ответ. Уж не смеются ли они над главным жрецом?
Феофил, которого он знал так много лет, еще никогда не был так бледен и расстроен.
И он имел основание сильно тревожиться, потому что догадывался, кого ищет император в комнатах для мистерий, и подозревал, что его жена спрятала Мелиссу там, куда он теперь указывал путь цезарю. Когда Макрин позвал его к императору, он не успел осведомиться на этот счет, потому что префект не отходил от него, а Эвриала находилась в городе, чтобы вместе с другими женщинами позаботиться о размещении раненых и уходе за ними.
Императора радовало изменившееся, угнетенное и мрачное, состояние духа этого человека, который обыкновенно был так исполнен чувства собственного достоинства, так как из этого обстоятельства Каракалла выводил заключение, что Феофилу известно тайное убежище Мелиссы. Поэтому он шутил со жрецом Александра, префектом Макрином, любимцем Феокритом и другими сопровождавшими его «друзьями», не обращая, по-видимому, никакого внимания на верховного жреца и не упоминая ни одним словом о девушке.
Едва они прошли мимо старого пастофора и только что раздался приветственный клик кухонных служителей: «Да здравствует цезарь!», как к ним подошла Эвриала, бледная как смерть, и дрожащим голосом спросила, не видели ли они ее мужа и куда он повел императора.
Она вернулась с половины дороги, чтобы, повинуясь порыву своего сердца, прежде чем отдаться делу милосердия, приветствовать Мелиссу в ее убежище и обласкать ее в начале этого нового, одинокого и тревожного дня.
При данном ей ответе колени ее задрожали, и главный повар, увидев, что она шатается, поддержал ее и проводил в лабораторию, где эссенции пастофора скоро возвратили ей ослабевшие силы.
Эвриала много лет знала старика и, заметив его траурную одежду, спросила с глубоким участием:
– И тебя тоже постигло это?
– Оба сына погибли, – отвечал он. – Ты была к ним так добра. Зарезаны, как жертвенные животные… там, в Стадиуме. – И слезы, одна за другою, потекли по морщинистым щекам старца.
Матрона подняла руки, точно призывая небо положить конец этим чрезмерным злодеяниям, и в то же мгновение сверху послышался жалобный вой, за которым последовали дикие, смешанные крики мужских голосов.
Эвриала, растерянная, зашаталась у лестницы.
Если Мелиссу нашли в ее убежище, то ее муж пропал, и она будет виновна в его гибели. Однако же комнаты для мистерий едва ли могли быть уже отворены, а девушка умна и проворна и, может быть, убежит вовремя, когда услышит приближение людей. Она, задыхаясь, бросилась к окну.
Там, внизу, находился тот камень, который открывал выход для Мелиссы; но между ним и Стадиумом пространство кишело людьми, и у каждой двери Серапеума, даже у того гранитного входа, который был известен только посвященным, стояли ликторы и вместе с умертвителями жертв другие служители храма, которые, по-видимому, были здесь размещены в качестве стражей.
Если Мелисса выйдет теперь из Серапеума, то она будет схвачена, и тогда обнаружится, кто открыл для нее убежище, где она скрывалась.
Теперь Феокрит большими прыжками сбежал с лестницы и закричал ей: «Лев! Врача! Где мне найти врачей?»
Тогда матрона указала на старого пастофора, принадлежавшего к числу врачей храма, и фаворит торопливо крикнул ему: «Наверх!» – и затем побежал дальше, не обращая внимания на вопрос Эвриалы о Мелиссе; старик же хриплым голосом засмеялся ему вслед:
– Я врач не для зверей! – Затем он повернулся к матроне и серьезным тоном сказал: – Мне жаль льва. Ты ведь меня знаешь, госпожа. До вчерашнего дня я не мог видеть страданий даже какой-нибудь мухи. Но этот зверь! Он был все равно что родной сын для этого кровопийцы, и злодей должен хоть один раз почувствовать настоящую скорбь. Лев был частью его самого. Никакое лекарство в мире не возвратит его к жизни.
С этими словами он, склонив голову, пошел назад, в лабораторию, и в матроне родилось подозрение, что этот спокойный, добрый человек, несмотря на свои седые волосы, сделался отравителем и что он был виновником смерти прекрасного и ни в чем не повинного зверя.
По телу ее пробежала холодная дрожь.
«Где появляется этот несчастный, – думала она, – там доброе превращается в злое; страх, бедствие, смерть заступают место мира, счастья, жизни».
Она тоже была принуждена к нехорошему поступку: к сопротивлению против своего мужа и господина.
Мелисса была втайне спрятана ею, вопреки его запрещению, и теперь этот поступок заслужит свою кару.
Может быть, ее муж и она с ним поплатятся за него своею жизнью; умерщвление этого зверя должно внезапно возбудить всевозможные дикие страсти в цезаре.
Она знала, что Каракалла уважает ее. Может быть, он ради нее пощадит ее мужа. Но Мелисса? Что станется с нею, когда ее вытащат из убежища. А ее наверняка найдут! Он грозил, что бросит ее на растерзание диким зверям, и не будет ли для нее эта ужасная участь лучше, чем прощение и новое пробуждение страсти императора?
Бледная, без слез, но потрясенная до глубины души, она прислонилась к перилам лестницы и прошептала молитву, в которой просила помощи неба для себя, для своего мужа и для Мелиссы. Затем она поспешно пошла по лестнице вверх.
Обе половины двери, которая вела в комнаты для мистерий, были отворены настежь, и первым человеком, которого встретила Эвриала, был ее муж.
– Ты здесь! – тихо воскликнул он. – Возблагодарим богов за то, что твое мягкое сердце не заставило тебя спрятать здесь девушку. Я уже трепетал за нее и за всех нас. Но ни малейшего следа ее ни здесь, ни на общей лестнице! Какое утро и что за день последует за ним! Вон там лежит лев цезаря. Если подтвердится его подозрение, что зверь отравлен, то горе нашему несчастному городу, горе нам всем!
И вид цезаря оправдывал самые страшные опасения.
Он только что снова кинулся на пол возле своего умерщвленного друга и с какими-то странными визгливыми и жалобными стонами спрятал свое лицо в его великолепную гриву. Затем он приподнял неподвижную голову льва и поцеловал его помутневшие глаза. Но когда тяжелая голова зверя выскользнула у него из рук и ударилась об пол, он снова вскочил, потряс с угрозою кулаком и вскричал:
– Да, он отравлен! Сюда виновника, не то вы все последуете за ним!
Тогда Макрин стал уверять, что если действительно какой-нибудь злодей из злодеев лишил жизни этого великолепного царя зверей, то убийцу сумеют найти, но Каракалла бросил ему в лицо вопрос:
– Найти! Вы осмеливаетесь говорить, что найдете? Разве вы привели мне ту, которая скрывалась здесь? Нашли ли вы ее? Знаете ли вы, где она? Ее видели; и она должна быть здесь!
С этими словами он быстро стал переходить из одной комнаты в другую, с усердием, достойным лучшего применения, подобно рабу, ищущему драгоценную безделушку, потерянную его господином, перерыл все шкафы, заглянул за все занавесы, сорвал с крюков все одежды, за которыми могла скрываться Мелисса, велел показать себе все потайные двери, сбежал с лестницы, по которой она спускалась, чтобы выйти из Серапеума, и снова взбежал наверх.
В зале, где теперь врачи и многочисленная свита императора окружали льва, Каракалла, весь в поту, бросился на стул и, глядя неподвижно на пол, стал выслушивать врачей, из которых многие были большею частью александрийцы и которые, чтобы не возбуждать еще больше ярости повелителя, уверяли, что лев, который при малом движении ел слишком много, издох от разрыва сердца. И так как яд в самом деле произвел более быстрое действие, чем когда-либо случалось видеть придворному врачу, то и он, желая подобно другим успокоить цезаря, присоединился к их мнению. Однако же это объяснение врачей, сделанное с доброй целью, подействовало совершенно иначе, чем они ожидали. В смерти льва он увидал новый удар судьбы против его собственной особы, и с глухим гневом, терзая себя самого, он бормотал про себя дикие проклятия и с насмешкою требовал от верховного жреца возвращения жертв, принесенных им, цезарем, его богу, который так же коварен и враждебен ему, как все в этом проклятом городе. Затем он встал снова, приказал другим отступить от львиного трупа и долго-долго смотрел на него.
При этом возбужденное воображение рисовало ему, как Мелисса гладила великолепного зверя и как он бил хвостом по твердому полу, заслышав легкие шаги ее маленьких ножек. Цезарь слышал приятный звук ее голоса, когда она говорила со львом, лаская его, и он снова выпрямился, начал осматривать длинные комнаты и, не обращая внимания на присутствующих, громко произносил ее имя. Наконец Макрин решился уверить его, что известие умертвителя жертв было ложно. Он, должно быть, принял за Мелиссу какую-нибудь другую девушку, так как вполне удостоверено, что Мелисса сгорела в доме своего отца. Каракалла посмотрел остекленевшими безумными глазами префекту в лицо, и Макрин в ужасе отступил от несчастного, когда тот закричал: «Деяния, деяния!» – и при этом ударил себя кулаком по лбу. С этого мгновения Каракалла потерял способность отличать преследовавшие его пестрые фантастические образы от действительности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































