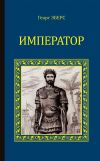Текст книги "Тернистым путем [Каракалла]"
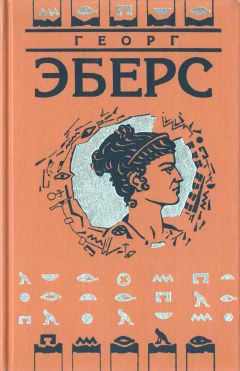
Автор книги: Георг Эберс
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
– Во имя великого Сераписа, выслушайте меня, македонские мужчины и женщины! – вскричал он своим сильным, звучным голосом, обращаясь к шумевшим верхним рядам зрителей.
Все умолкло в обширном амфитеатре. Только ветер нарушал тишину своим жалобным, протяжным воем. По временам воздух колебало хлопанье о стены какой-нибудь части полотна, оторванного от велариума бурей; и к этому шуму примешивались зловещие крики сов и галок, которых свет выгнал из их гнезд на вершине цирка, а теперь непогода снова гнала туда.
Громко, внятно, настойчиво, тоном отеческой заботы верховный жрец убеждал слушателей держать себя тихо, не нарушать предложенного им здесь удовольствия и главным образом помнить, что среди них, к высочайшей чести каждого из них, находится великий цезарь, богоподобный глава земного круга. В качестве гостя самого гостеприимного из всех городов высокий повелитель вправе ожидать от каждого александрийца пламенного стремления к тому, чтобы сделать для него пребывание здесь приятным. Долг заставляет его, Феофила, возвысить от имени высочайших богов свой увещательный голос, дабы злая воля немногих нарушителей спокойствия не возбудила в самом дорогом из гостей ошибочное мнение, что жители Александрии слепы относительно тех благодеяний, которыми каждый гражданин обязан его мудрому правлению.
Здесь прервали оратора громкие свистки, а затем далеко прозвучавший крик: «Назови эти благодеяния; мы не знаем никаких!»
Но Феофил не смутился и продолжал с большим жаром:
– Все вы, которых милость великого цезаря возвысила в степень римских граждан…
Но снова один зритель из второго рода – это был главный смотритель хлебных амбаров Селевка – крикнул ему:
– Разве мы не знали, чего стоила нам эта честь?
Громкий крик одобрения последовал за этим вопросом, и в другой раз внезапно и как бы чудом образовался хор, повторявший двустишие, которое громко произнес один из толпы. Это двустишие сказали после него другой и третий, четвертый пропел его, и на этот мотив стали петь его разом тысячи голосов, обращаясь к тому, для кого это двустишие было предназначено.
В верхних рядах цирка теперь раздавались следующие стихи, которые еще несколько мгновений перед тем никому не были известны:
Нужно живых убивать, погребенье чтоб мертвым устроить:
То, что оставил нам сборщик, солдат беспощадно разграбил.
И, должно быть, эти стихи выходили из сердца толпы, потому что она не уставала повторять их; и только тогда, когда особенно сильный удар грома поколебал цирк, многие замолчали и с возраставшим страхом стали посматривать вверх.
Распорядители воспользовались этим мгновением, чтобы приказать начать представление.
Император в бессильной ярости кусал себе губы, и злоба против александрийцев, которые теперь открыто показывали ему свое настроение относительно его, усиливалась с каждым мгновением.
Он, как великое несчастье, чувствовал невозможность ответить немедленною карой за нанесенное ему поругание и, кипя гневом, вспомнил об известных словах Калигулы, который «желал, чтобы этот город имел только одну голову, которую можно было бы одним ударом отделить от туловища».
Кровь так сильно стучала у него в висках, и был такой ужасный звон в ушах, что он долго не слышал и не видел ничего, что происходило вокруг него.
Это дикое возбуждение могло иметь своим последствием новые страшные часы страдания. Но теперь он мог бояться их в меньшей степени, потому что вон там сидело одушевленное лекарство, которое было, как он думал, привязано к нему самыми крепкими узами.
Как прекрасна была Мелисса! И когда он снова посмотрел на нее, то заметил, что ее взгляд остановился на нем с боязливым беспокойством.
И ему показалось, как будто в его омраченной душе что-то просияло, и в нем снова пробудилось сознание, что его сердце открылось для любви.
Но теперь, конечно, не следовало делать ту, которая совершила это чудо, поверенною его злобы. Он видел ее в гневе, в слезах, но также видел, как она улыбалась, и в ближайшие дни, которые должны были сделать его, терзаемого жестокими муками, счастливым человеком, он желал видеть ее большие глаза сияющими, ее губы переполненными словами любви, радости, благодарности. Только затем должен был последовать расчет с александрийцами; и в его власти было заставить их поплатиться своею кровью за этот вечер и горько раскаяться в нанесенном цезарю оскорблении.
Как бы желая пробудить себя от дурного сновидения, он провел рукою по своему нахмуренному лбу, он даже улыбнулся, так как его взгляд снова встретился с глазами Мелиссы. И те, для взгляда которых его вид представлял более интереса, чем ужасное кровопролитие на арене, переглядывались с удивлением, так как им казалось почти непостижимым равнодушие или искусство притворяться, с каким цезарь отнесся к неслыханному оскорблению, которое ему здесь было нанесено.
Со времени своего первого посещения цирка Каракалла еще никогда так надолго не оставлял совсем без внимания того, что происходило при кровопролитиях, подобных настоящему. До сих пор от него не ускользало ничто, достойное особенного внимания, а между тем только теперь началась настоящая борьба из-за лагеря – избиение алеманнов, самоубийство германских женщин.
Как раз в эту минуту гладиатор Таравтас, ловкий, как кошка, и кровожадный, как голодный волк, вскочил на одну из повозок неприятеля; высокий воин с длинными золотисто-рыжими волосами, связанными узлом на затылки, бросился ему навстречу.
Это был настоящий германец. Каракалла знал его.
В его отечестве он приведен был к императору в числе военнопленных вождей, и так как он оказался превосходным наездником, то Каракалла поставил его надсмотрщиком за своими конюшнями. Он отправлял свою должность безупречно до тех пор пока в день въезда в Александрию в пьяном виде не убил своего начальника, горячего галла, и вдобавок еще двух ликторов, пытавшихся связать его.
Он был приговорен к смерти и теперь был присоединен к числу германцев, чтобы в цирке бороться за жизнь.
И как сражался он, какие удары наносил своим тупым мечом опаснейшему из гладиаторов, и как искусно умел уклоняться от него.
На эту борьбу действительно стоило смотреть, и она так приковала к себе внимание императора, что он забыл обо всем другом.
Имя противника алеманна было перенесено на него, цезаря. Только сейчас тысячеголосый крик «Таравтас!» относился к нему; и, привыкнув во всем, что встречалось ему, видеть предзнаменование, он сказал самому себе, призывая судьбу в свидетели, что участь гладиатора будет его собственною. Если боец падет, то дни его, цезаря, сочтены; если он выйдет из борьбы победителем, то и ему, цезарю, предстоит долгое и счастливое царствование.
Он мог спокойно предоставить решение Таравтасу, потому что это был сильнейший из всех гладиаторов в империи, притом он дрался острым оружием против тупого в руках человека, который во время своей службы при конюшнях, конечно, разучился владеть мечом так, как в прежние дни.
Однако же германец был сыном дворянина и уже с детских лет участвовал в битвах. Здесь дело шло о том, чтобы защищать свою жизнь или доблестно умереть на глазах того, которого он научился почитать как могущественного властелина и покорителя многих народов, в том числе его собственного.
И сильный, хорошо приученный владеть оружием германец делал свое дело.
Как его противник, так и он чувствовал, что на него устремлены глаза десяти тысяч человек, и притом ему казалось, что ему следует смыть с себя позор, навлеченный им, как убийцей, на себя и на свой народ, сыном которого он еще считал себя.
Каждый мускул его сильного тела укрепился и приобрел новую силу напряжения вследствие этого желания, и когда он, уже пораненный мечом непобедимого бойца, почувствовал, что теплая кровь течет по его груди и по левой руке, он собрался со всею своею силой. С боевым криком своего племени кинулся он всем исполинским телом на гладиатора. Не обращая внимания на глубокую рану от меча, которою ответил Таравтас на его нападение, он с высоты нагруженной повозки ринулся на камни ограды лагеря, и оба они, сжав крепко друг друга руками, покатились, как одно тело, со стены на песок арены.
При этом зрелище Каракалла вздрогнул, точно ему самому было нанесено оскорбление, и напрасно он ждал, чтобы ловкий Таравтас, которого уже не раз он видел выходившим невредимым из подобных трудных положений, освободился от тяжести навалившегося на него германца.
Но борьба продолжала бушевать вокруг них, и ни один из двух не шевелил ни одним членом.
Тогда император глубоко встревожился и велел Феокриту осведомиться, ранен Таравтас или убит, и в то время как его любимец находился в отсутствии, ему не сиделось на троне. Волнуемый каким-то тревожным, неприятным чувством, он вставал, то для того чтобы поговорить с кем-нибудь из своей свиты, то чтобы наклониться и бросить взгляд на бойню, происходившую внизу. Он был проникнут твердым убеждением, что его собственный конец близок, если Таравтас убит.
Наконец он услышал голос Феокрита, и когда повернулся, чтобы получить от него известие, его взгляд встретился со взглядом Вереники, которая встала, чтобы оставить цирк.
Тогда по нему пробежал холод, и образы казненных Виндекса и его племянника снова возникли перед его внутренним взором; но в то же самое мгновение он услыхал, как бывший танцор весело крикнул ему:
– Таравтас! Это не человек! Я назвал бы его угрем, если бы он не был так широкоплеч. Малый жив, и врач говорит, что через три недели он снова будет в состоянии справиться с четырьмя медведями или двумя алеманнами.
По лицу императора пробежало точно солнечное сияние, и он остался веселым, хотя страшный удар грома поколебал цирк, и один из тех прорывов в облаках, которые бывают только на юге, низвергнул свои потоки в открытое пространство театра, погасил огни и светильники и так стремительно сорвал велариум с петель, что он, гонимый бурей, ударился в верхние ряды амфитеатра и согнал зрителей с мест.
Мужчины ругались, женщины визжали и плакали, и громкие звуки фанфар и голоса глашатаев возвестили, что представление на этот раз кончилось и будет продолжено послезавтра.
XXVIII
При блеске молний, треске и грохоте громовых ударов и шуме проливного дождя цирк опустел.
Император, исполненный мыслью о счастливом предзнаменовании, сообщенном ему судьбою посредством чудесного сохранения жизни Таравтаса, с полной нежности заботливостью крикнул Мелиссе, чтобы она поскорее скрылась в сухое местечко. Для нее готова колесница, чтобы отвезти ее в Серапеум.
Но она робко попросила, чтобы ей было позволено под охраною брата вернуться в отеческий дом, и Каракалла приветливо ответил, что это хорошо. Ему в эту ночь предстоят вещи, вследствие которых ему кажется, что будет лучше, если он будет знать, что ее нет вблизи него. Он ждет, что ее брат явится к нему в Серапеум позднее.
Он собственноручно укрыл плечи Мелиссы каракаллой с капюшоном, которую Адвент хотел набросить на него самого, и при этом заметил, что он приучил себя в походах еще к большим неудобствам.
Когда девушка затем, краснея, поблагодарила его, он подошел к ней ближе и шепнул:
– Завтра, когда после этой непогоды судьба даст благоприятные ответы на вопросы, которые я думаю предложить ей, Фортуна снова наполнит свой рог изобилия для нас обоих. Скупая богиня уже собирается сделаться через тебя расточительною относительно меня.
Вокруг императора стояли рабы с закрытыми фонарями, потому что светильники в театре погасли, и темное пространство для зрелищ чернело, подобно мрачному кратеру, и, как тени, двигались смешанною толпою неясные фигуры, которые нельзя было явственно отличить друг от друга.
Все напомнило императору об Аиде и о стремящихся в преисподнюю сонмах душ умерших. Однако же теперь он желал и душою и глазами видеть только веселое и, поддаваясь внезапному порыву, взял у одного из слуг фонарь, поднял его к голове Мелиссы и долго, как бы очарованный, смотрел на ее ярко освещенное лицо. Затем он опустил руку, глубоко вздохнул и сказал, точно во сне:
– Вот это жизнь! Только теперь она начнется для меня.
При этих словах он снял со своей головы промокший лавровый венок, швырнул его на арену и крикнул Мелиссе:
– Поспеши выбраться на сухое место, милочка. Я мог видеть тебя весь этот вечер, даже когда сделалось темно, потому что ведь и молнии – свечи! Значит, дурная погода все-таки принесла мне радость. Спи хорошенько. Я жду тебя рано, тотчас после моей ванны.
Когда Мелисса тоже пожелала ему спокойного сна, он, шутя, отвечал:
– Что, если бы вся моя жизнь была сном, и я завтра при пробуждении оказался не сыном Севера, а Александром, а ты оказалась бы не Мелиссой, а Роксаной, на которую ты так похожа? Но ведь я мог бы проснуться и гладиатором Таравтасом. Кем стала бы ты тогда? Твой почтенный отец, который все еще борется вон там с дождем, разумеется, не похож на сонное видение, да и эта погода совсем не годится для философствования.
С этими словами он послал ей воздушный поцелуй, приказал прикрыть свои плечи сухою каракаллой, велел Феокриту присматривать за Таравтасом и передать ему кошелек с золотом, который он дал фавориту для этой цели, натянул капюшон на голову и пошел впереди томившихся нетерпением друзей. Герону же, приблизившемуся к нему с намерением осведомиться, какого он мнения об александрийских машинистах, ответил односложно, приказав прийти на следующее утро.
Музыка тоже умолкла при непогоде. Только несколько верных своим обязанностям трубачей оставались на своих местах, а когда фанфаристы указали, что император покидает цирк, то они протрубили вслед ему фанфару, которая жидко и хрипло прозвучала свое напутствие владыке мира.
На дворе все еще толпилась масса выходивших из театра зрителей.
Простонародье искало приюта под самыми арками нижнего строения или мужественно спешило домой под дождем.
Герон продолжал ждать появления дочери у выходных ворот, хотя под потоками дождя все более и более намокала его новая тога с пурпурною каймою. А она опередила его в то время, как он проталкивался к императору и при сильном душевном возбуждении не замечал ничего другого. Поведение его сограждан возбуждало в нем негодование, и он инстинктивно почувствовал, что навязывать оскорбленному цезарю признание хороших качеств в его согражданах было бы бестактностью.
Однако он не был настолько умен, чтобы сдержать вопрос, который в продолжение всего представления вертелся у него на языке. Он в числе последних направился домой пешком, негодуя на невнимание детей, на нахлобучку, которую он получил от своего будущего царственного зятя, на дождь, на перспективу получения насморка и на многое другое.
Для Каракаллы погода была на этот раз действительно благом, так как избавляла его от тех неприятных манифестаций, которые были приготовлены неугомонными «зелеными» при его возвращении домой.
…Александр тотчас же нашел назначенную карруку и помог сестре сесть в нее, после того как он подсадил Эвриалу в ее экипаж. Но как удивился он, найдя внутри экипажа возле сестры какого-то мужчину!
Это был Диодор, который, в то время как Александр говорил с возницей, под покровом темноты впрыгнул с другой стороны в колесницу. Несколько возгласов удивления, оправдания и позволения – и юные отпрыски человеческого рода, у которых у всех трех сердца были переполнены так, что готовы были разорваться, направились к дому Герона. Колесница катилась уже по мостовой, в то время как рабы большинства знатных жителей Александрии еще только разыскивали колесницы и носилки своих господ.
За мрачными сценами в цирке последовали теперь для влюбленных другие, и несмотря на узкое темное место, в котором они были заключены и по черной промокшей кожаной крыше которого с треском и шумом барабанил дождь, не было недостатка в светлом солнечном сиянии.
Выражение Каракаллы, что и молнии – светильники, исполнилось несколько раз в течение этого путешествия; яркие проблески молнии, еще довольно быстро следовавшие один за другим, позволяли столь быстро примирившимся людям высказать друг другу посредством взглядов то, для чего не находилось подходящих слов.
Если обе стороны сознают вину, то примирение наступает быстрее, чем в том случае, когда только одна сторона нуждается в прощении. Влюбленные оказавшись в карруке, были с самого начала сердечно привязаны один к другому и были друг о друге самого лучшего мнения, так что даже не представлялось надобности в объяснительных словах Александра для охотного и теплого возобновления их прежнего союза. Притом каждая сторона имела повод опасаться за другую; Днодора беспокоило, что у Эвриалы не хватит достаточно силы, для того чтобы укрыть его возлюбленную от сыщиков цезаря, а Мелисса трепетала при мысли, что придворный врач императора слишком рано расскажет Каракалле о том, с кем именно она до знакомства с ним заключила сердечный союз; если же это случится, то Диодору придется опасаться самого яростного преследования. Поэтому Мелисса настойчиво убеждала своего возлюбленного, если это возможно, сесть на корабль в эту же ночь.
До сих пор Александр только изредка вмешивался в разговор. У него не выходил из головы прием, который был оказан ему перед цирком. Правда, присутствие Эвриалы очистило от самых дурных подозрений его сестру, но оно не очистило его самого, и счастливое легкомыслие не спасло его от уверенности, что сограждане считают его продажным изменником.
Во время представления он удалился в задние ряды, потому что после того как театр внезапно наполнился ярким светом, его оскорбляли мрачные взгляды и угрожающие жесты, направленные на него со всех сторон.
Он теперь в первый раз почувствовал сострадание к преступникам, растерзанным дикими зверями, и к окровавленным гладиаторам, потому что он сам – он чувствовал это – сделался товарищем их по судьбе. И самое ужасное при всем этом было то, что он не мог вполне оправдать себя самого от упрека, что он получил подарок за свою легкомысленную готовность к услугам.
Он не видел ни малейшей возможности сделать для тех, уважением которых сколько-нибудь он дорожил, понятным, каким образом он дошел до того, что исполнил желание искусителя в пурпуре, после того как его отец, показавшись народу в toga praetexta, этим самым как бы подтвердил это позорнейшее подозрение.
Его душу терзала мысль, что отныне никакой честный человек никогда не ответит пожатием руки на его приветствие.
Для него тоже было дорого и уважение Диодора, и когда тот заговорил с ним, то сначала им овладело такое чувство, как будто товарищ его юности неожиданно возвращает ему честь. Но затем им овладело подозрение, что ласковыми словами друга он обязан только своей сестре.
Глубокий вздох, вырвавшийся из его груди, заставил Мелиссу утешать брата; сердце несчастного переполнилось, и в красноречивых словах он описал Диодору и сестре то, в чем необдуманно согрешил, и какие ужасающие последствия его легкомыслие влечет за собою даже в настоящую минуту. При этом глубокое душевное страдание наполнило его глаза горячими слезами.
Он сам произнес свой собственный приговор и не ожидал от друга ничего, кроме обыкновенного сострадания. Но, несмотря на царствующий мрак, Диодор стал искать и нашел его руку и крепко пожал ее, и если бы Александру представилась возможность рассмотреть лицо товарища детства, то он увидал бы увлажненные слезами глаза, с которыми тот убеждал его успокоиться и надеяться на лучшие дни.
Диодор знал своего друга. Он неспособен был ни на какую ложь, и поступок Александра, который, будучи ложно истолкован, мог так легко получить достойный осуждения характер, был, в сущности, одною из тех необдуманных выходок, при которых сам он часто оказывал помощь сумасбродному художнику.
Но Александр точно с намерением не поддавался утешениям друга юности своей сестры.
При новом луче молнии Диодор и Мелисса увидели его сидящим с низко опущенною головою и лбом, закрытым руками, и этот грустный вид того, которого они еще в недавнее время видели самым веселым среди веселых, сильнее омрачил их вновь возродившееся счастье, чем даже самая мысль о страшной опасности, которая, как всякому было ясно, угрожала им всем.
Проезжая мимо сиявшего огнями святилища Артемиды, напомнившего им о близости цели их путешествия, Александр вдруг пришел в себя и попросил влюбленную чету подумать о своих собственных делах. Его разум остался светлым, и все то, что он говорил, доказывало, что он сильно занят будущею судьбою сестры.
После бегства Мелиссы император, наверное, станет преследовать не только ее возлюбленного, но и его отца. Поэтому Диодору следовало немедленно переправиться через озеро, разбудить Полибия и Праксиллу, сообщить обо всем предстоящем, между тем как Александр займется наймом корабля. Раб Аргутис должен был ожидать беглецов в маленькой харчевне у гавани и усадить их на судно, которое давно ожидало их.
Диодор, все еще бывший не в состоянии ходить далеко, обещал воспользоваться одними из носилок, всегда имевшихся около храма Артемиды.
Незадолго до того как колесница остановилась, обрученные распрощались. Они сговорились, где следует им получать известия друг о друге. Те немногие слова, которые в другое время они произносили при сердечном прощальном поцелуе, приобрели при этом расставании, которое могло все-таки окончиться заточением или смертью, значение торжественной клятвы.
Теперь быстрые кони придержали свой бег, и Александр неожиданно склонился над другом, расцеловал его в обе щеки и шепнул:
– Смотри же, хорошо обращайся с девушкой! Вспоминай обо мне, в случае если нам не придется увидеться, и скажи другим, что полоумный Александр снова выкинул безумную штуку, но как ни дурно она отозвалась для него лично, все-таки она не может назваться злонамеренною.
Ради погонщика коней, который после исчезновения Мелиссы наверняка будет подвергнут строгому допросу, Диодору запрещено было обращаться к другу хотя бы с одним словом.
Каррука покатила обратно по той дороге, по которой приехала; фигура Диодора исчезла в темнота, и Мелисса закрыла лицо руками. Ей казалось, что это свидание с милым было последнее и что для нее никогда уже не будет радости на земле.
Было около полуночи.
Рабы услыхали стук повозки и приняли возвратившихся домой так же сердечно, как всегда, но, послушные приказанию Герона, к обычному доброму приветствию присоединили глубокие поклоны.
С тех пор как их господин после поездки предстал перед старой Дидо с тщеславным достоинством римского вельможи, ей казалось, что наступило время чудес и все сделалось возможным. У нее постоянно были перед глазами пестрые, блестящие образы будущего великолепия, которое ожидало всю семью, а также и ее с Аргутисом; но с превращением ее молодой госпожи в императрицу дело, очевидно, шло не совсем гладко, так как отчего у девушки такие заплаканные глаза и такое грустное лицо? Что значит долгое перешептыванье молодых господ с Аргутисом? Однако же все это не касалось ее, и когда-нибудь она все же должна была узнать, в чем дело. «Что господа замышляют сегодня, то слуги узнают через неделю, потом», – говаривал Аргутис, и она не один раз испытала верность этого утверждения.
Уклончивая манера, с какою Мелисса приняла пожелания ей счастья, которые Дидо из переполненного сердца изливала перед будущей императрицей, и ее заплаканные глаза казались, однако же, старухе теперь уже понятными. Девушка, конечно, все еще думала о красавце Диодоре, но среди великолепия императорского дворца забывается многое. Уже и теперь как чуден был наряд, в котором Мелисса показалась народу в цирке!
«Как они будут приветствовать ее! – думала старуха, после того как Мелисса надела простое платье и приготовилась писать. – Если бы госпожа была еще жива, чтобы видеть это! А другие женщины! Они лопнут от зависти! Вечные боги! Но кто знает, как велико или как мало то счастье, относительно которого люди завидуют другим? В этот дом, который боги наполнили благоволением и дарами до самой кровли, не проникло ли теперь несчастье сквозь замочную скважину? Бедный Филипп! Но пусть бы только было хорошо нашей девушке! С нею действительно случилось то, что случается редко, и, однако же, должно бы происходить всегда. Самая прекрасная и наилучшая будет важнейшею и счастливейшею в империи».
Затем она схватилась за свои амулеты и за крест, висевшие у нее на шее и на руках, чтобы произнести молитву о благополучии своей любимицы.
Раб Аргутис тоже не знал, что ему думать обо всем происходящем.
Он не меньше кого бы то ни было желал счастья любимому сыну своего господина; однако же если он и предсказывал, что предстоит Мелиссе и ее отцу, то возведение его господина в звание претора все-таки пришло слишком быстро, и Герон в тоге, окаймленной пурпуром, представлял собою слишком странную фигуру. Лишь бы только новая неслыханная честь не подействовала на его разум!
Но состояние старшего сына Герона готовило верному слуге еще более тяжкие заботы.
Вместо того чтобы радоваться счастью своих близких, он при первом же разговоре с отцом пришел в бешенство, и если он, Аргутис, и не понял, о чем они говорили друг с другом, то он все-таки знал, что они горячо поспорили, и Герон, в непримиримом раздражении, повернулся к сыну спиной.
И затем, он с ужасом вспоминал об этом и ему было тяжело сообщить брату и сестре о том, чему он был свидетелем, хотя он старался передавать это в смягченных, осторожных выражениях, и затем Филипп вскочил с постели, сам оделся и даже обулся и, как только отец сел в носилки, пришел в кухню. Он имел вид мертвеца, восставшего из могилы, и его голос звучал глухо, когда он объявил рабам, что намерен отправиться в цирк, чтобы там отыскивать правды.
Но у Аргутиса упало сердце, когда философ приказал ему принести флейту, с помощью которой господин учил своих птиц петь песни, и положил ее к острому кухонному ножу, которым раб убивал баранов.
Затем Филипп пошел в переднюю комнату, но еще на пороге запутался в волочившихся за ним длинных ремнях сандалий, и Аргутис, тайком следовавший за ним, должен был из сада отвести или, лучше сказать, почти отнести его назад в дом, потому что силы его были совершенно истощены страшным приступом кашля. Напряжение при работе тяжелыми веслами на галере было слишком тяжким испытанием для его слабой груди. Дидо и он, Аргутис, отнесли его на постель, и вскоре за тем он впал в глубокий сон, от которого до сих пор не пробудился.
Что собственно на уме у возвратившихся домой?
Брат и сестра писали, и притом не на восковых табличках, а тростником на папирусе, точно дело шло о сообщении чего-то особенно важного.
Но это должно было заставить раба подумать; и верный слуга не знал, от радости или от мучительного страха плачет он, когда Александр с торжественностью, которая пугала его в молодом господине, объявил ему, что с этих пор, частью за его верную службу, частью для того, чтобы дать ему возможность помогать всем им в минуту опасности, он дарует ему свободу. Отец уже давно намеревался сделать это и уже велел изготовить у нотариуса вольную. Вот этот документ; но он знает, что он, Аргутис, и сделавшись вольноотпущенным, будет продолжать служить им так же верно, как всегда.
С этими словами он подал рабу вольную, и, плача наполовину от радости, наполовину от печали и опасения, Аргутис взял документ, который еще незадолго перед тем сделал бы его счастливейшим из смертных.
Между тем как он целовал руки Мелиссы и Александра, и, запинаясь, произносил слова благодарности, его неученый, но все-таки здравый ум говорил ему, что он был ослеплен, когда не мог удержаться от радости при известии, что император выбрал Мелиссу себе в супруги.
То, что он пережил и видел в последние полчаса, соединилось для него в один явственный образ, и с такою уверенностью, как будто это было ему сообщено, он был убежден, что его любимица Мелисса гнушается своего царственного жениха и намерена, он не знал каким образом, от него ускользнуть. И вместе с этою уверенностью в нем пробудилась свойственная ему страсть к приключениям и смелому риску.
Здесь дело шло о борьбе, которую слабый предпринимал против принуждения со стороны сильного, и ему, который всю свою жизнь принадлежал к числу угнетенных, ничто не могло казаться более заманчивым, как помогать этому слабому в битве.
С пламенным рвением Аргутис взялся посадить Диодора и его близких на корабль, который он должен был нанять, и объяснить Герону, как только этот последний прочтет письмо, только что написанное ему Александром, что он погибнет, если не укроется вовремя вместе с Филиппом. Наконец, он обещал письмо, которое Мелисса только что написала цезарю, завтра доставить в его руки.
Теперь он принял радостно отпускной документ, и согласился одеться в платье Герона, потому что ему в звании раба нельзя было бы заключить обязательный договор с каким-нибудь шкипером корабля или с кем бы то ни было. Но это было переговорено и решено поспешно, потому что Александра ждал император, а Мелиссу ждала Эвриала.
Радостная готовность к услугам со стороны честного старика, которому в первый раз приходилось самостоятельно разрешать задачи, перед которыми отступили бы даже многие свободные люди и которые, как он чувствовал, были, однако же, ему по силам, действовала ободряющим образом и на угнетенные души других.
Теперь они знали, что если им самим суждено умереть, то Аргутис останется верным их отцу и больному брату; и раб представил первое доказательство своей находчивости и сообразительности, указав Александру и Мелиссе, напрасно искавшим безопасного убежища для Герона и Филиппа, на одно место, которое едва ли могли открыть даже самые опытные сыщики.
Бежавший скульптор Главкиас был квартирантом Герона. Его мастерская, строение, похожее на сарай, стояла на земле маленького огорода, унаследованного резчиком от его тестя, и только Герон и Аргутис знали, что под полом этого строения находится, вместо погреба, большой резервуар старого, построенного при императоре Веспасиане, водопровода.
Аргутис в давнее время помогал Герону устроить над входом в этот тайник опускную дверь, которая оставалась незамеченною ваятелем Главкиасом в течение многих лет, в которые он пользовался своею мастерской.
В этом скрытом месте Герон, не посвящая в свою тайну даже собственных детей, прятал свое золото, и только за несколько месяцев перед тем Аргутис сопровождал его туда и нашел высокий резервуар сухим, полным воздуха и совершенно годным для жительства.
Резчик охотнее всего скрылся бы возле своей казны; к тому же сад с мастерской Главкиаса находился только в двухстах или трехстах шагах от дома Герона. Провести туда незаметно Филиппа казалось Аргутису нетрудным. Александр, старая Дидо и в случае нужды и Диодор со своими домашними тоже могли бы скрываться там. Однако же Мелиссе это убежище не казалось достаточно безопасным ни для брата, ни для раба.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.