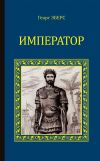Текст книги "Тернистым путем [Каракалла]"
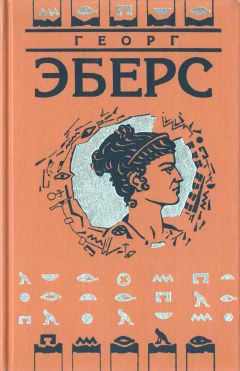
Автор книги: Георг Эберс
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
– Ты – боец, сражающийся колкими словами! Скоро узнают, как я ценю твое наставление и как строго умею блюсти добродетель, которую отрицает во мне убийца. Кто посмеет назвать меня несправедливым, если нечестивое отродье, выросшее в ядовитом гнезде, я подвергну самому строгому наказанию, которого оно заслуживает? Ну да, пяль на меня свои большие пылающие глаза! Это александрийская манера! Они обещают все, чтобы не дать ничего. Они убеждают доверчивых людей в невинности и чистоте, в верности и любви. Но если всмотреться в них хорошенько, то не найдешь ничего, кроме глубокой испорченности, грязной хитрости, возмутительного эгоизма и самого гнусного вероломства. И какова эта пара глаз, таково и все в этом городе! Где бывало такое множество богов и жрецов, где приносилось так много жертв, где так постились и с таким рвением предавались очищению и наказанию и где порок так нагло, так отвратительно выставлял себя напоказ! Эта Александрия сделалась старою блудницей, которая в юности была столь же развратна, как и прекрасна. Теперь у нее нет зубов, ее лицо обезображено морщинами, и она надела на себя личину благочестия, чтобы подобно волку в шкуре ягненка посредством злости отомстить за потерянное счастье и утрату возбуждавшей восторг красоты. Я не нахожу более подходящего сравнения, потому что и эта отвратительная страсть к пустой болтовне и пересудам свойственна непотребной женщине так же, как вам, которые были некогда прекрасны и прославляемы, а теперь падаете все глубже и глубже и уже не в состоянии переносить ничего великого и торжествующего, не забрызгав его из зависти ядом.
Справедливым, да, справедливым я желаю быть, возвышенный герой добродетели, который с припрятанным ножом вышел для совершения убийства! Благодарю тебя за урок!
Ты, украшение музея, указал мне также на источник, из которого вытекает ваша испорченность. Тебя вырастил знаменитый рассадник ученых. Там, да, там вскармливается неверие, которое богов превращает в соломенные чучела, а величие повелителя делает филином, на которого дерзко накидываются крошечные птички. Оттуда изливается настроение, научающее и мужчин, и женщин смеяться над добродетелью и нарушать верность. Там, где некогда благородные умы под сенью царского покровительства изобрели великие вещи, теперь возделывается только слово, пустое, ничтожное слово. Это я заметил и сказал еще вчера, а теперь знаю наверняка, что каждая ядовитая стрела, которую выпустила против меня ваша злоба, выкована в музее!
Здесь он перевел дух и затем продолжал с ироническим смехом:
– Пусть же справедливость, которую ты сам ставишь выше логики, совершится, а ничего нет справедливее, как сегодня же уничтожить гнездо вашей испорченности! Но и твои неученые сограждане тоже должны увидеть и почувствовать мою справедливость. У тебя самого звери в цирке отнимут возможность видеть, какое действие произвели на меня твои назидательные слова. Но ты еще жив и должен услышать, какие испытания делают самые строгие меры относительно вас высочайшею справедливостью. Что я надеялся здесь найти и что встретил? Мне расхваливали гостеприимство александрийцев, рвение, с каким здесь все еще занимаются наукой, высокое искусство ваших звездочетов, благочестие, которое воздвигло здесь так много алтарей и изобрело так много религий, и, наконец, красоту и тонкий ум ваших женщин.
А это гостеприимство! Как честный человек, я был встречен здесь потоком коварных нападений и злобных насмешек. Этот поток дошел до самых ворот храма, моего жилища.
Но я прибыл сюда также и в качестве императора, и где только ни появлялся я, меня преследовала государственная измена, мало того, она ворвалась даже в мое жилище, так как вот здесь стоишь ты, которому варвар должен был помешать предательски умертвить меня.
Наука? Ты уже знаешь мое мнение о музее. А звездочеты этой пресловутой обсерватории? Они предсказали как раз противоположное всему тому, что исполнилось на самом деле… Религия? Народ, о котором ты в пыли книг музея знаешь так же мало, как об отдаленном Туле, нуждается в ней. Старые боги ему необходимы. Они его хлеб насущный. Но вместо них вы даете ему незрелый, кислый плод с обольстительною блестящею скорлупою. Он вырос в вашем собственном саду, он выращен вами самими. Но нет! Древесные плоды – дары природы, а во всем, что она производит, есть хоть что-нибудь хорошее, но то, что вы предлагаете народам, пусто и отравлено. Ваше красноречие придает ему обольстительный вид… Оно тоже происходит из музея. Там ученые настолько умны, что могут создать и новых богов, так они и делают. Эти новые боги вырастают точно грибы из-под земли. Эти ученые, если им вздумается, могут убийство возвысить в степень высочайшего божественного дела, а тебя сделать главнейшим из его жрецов…
– Эта должность принадлежит тебе, – прервал его философ.
– Это ты испытаешь, – сказал император с пронзительным смехом, – а с тобою вместе и мнимые ученые музея. Ты избрал своим оружием нож, но зубы диких зверей и их когти тоже почтенное оружие. Твой отец, брат и женщина, которая доказала мне, какова добродетель и верность александрианок, подтвердят тебе это в Аиде. Скоро туда последует за тобою каждый, кто хоть на одно мгновение забыл, что я – цезарь и гость этого города. Не далее как после следующего представления в цирке наказанные скажут тебе в подземном мире, как я выполняю справедливость. Вероятно, послезавтра ты уже встретишься там с несколькими своими товарищами из музея. Этого будет достаточно для одобрительных рукоплесканий при диспутах.
Здесь он, иронически засмеявшись, окончил свою быстро проговоренную речь и окинул взглядом своих друзей, жаждая одобрения, о котором далеко не без намерения упомянул он в своих последних словах. И это желанное одобрение раздалось так громко, что заглушило возражение, сделанное философом.
Только Каракалла расслышал его, и когда шум вокруг него несколько утих, он спросил свою обреченную на смерть жертву:
– Что хотел ты сказать восклицанием: «В таком случае я бы желал, чтобы смерть пощадила меня!»
– Я желал, – быстро отвечал философ, и голос его задрожал от невольного волнения, – я желал, чтобы меня пощадила смерть, для того чтобы, когда это сделается истиной, быть свидетелем, с какою злою насмешкой боги, воздающие за все, уничтожат тебя, их защитника.
– Боги, – засмеялся император. – Мое уважение к твоей логике падает все ниже и ниже. Ты, скептик, ждешь от тех, существование которых отрицаешь, ждешь от божества деяния смертного человека!
– Правда, – вскричал Филипп, причем его большие глаза, пылавшие от ненависти и глубокого негодования, искали глаз императора, – правда, я до этого часа ничего не считал верным, а поэтому не считал несомненным и существование божества; но теперь я твердо верю, что природа, в которой все совершается по вечным, непреложным законам и которая выбрасывает и уничтожает все, что покушается внести разлад в гармоническую совместную деятельность ее частей, произвела бы какое-нибудь божество, если бы такового еще не существовало, чтобы оно уничтожило тебя, разрушителя мира и жизни!
Но здесь дикой вспышке гнева благородного безумца был положен внезапный конец. Цезарь бешенным ударом кулака толкнул своего больного врага так сильно, что тот отлетел к стене у окна. Не владея более собою, Каракалла заревел хриплым голосом:
– К зверям! Нет, не к зверям! Прежде в пытку! Его и его сестру!.. Наказание, которое я придумаю для тебя, изверг…
Но и душевное волнение философа, в груди которого ненависть и лихорадка пылали с одинаковою силою, в это мгновение достигли высшей степени. Точно травимый зверь, который приостанавливает свой бег, чтобы найти выход или броситься на своего преследователя, он диким взглядом посмотрел вокруг себя, и еще прежде, чем император окончил свои угрозы, он прислонился к оконным столбам, точно готовый принять смертельный удар, и прервал Каракаллу криком:
– А если твой тупой ум не найдет рода смерти, который удовлетворил бы твою свирепую злобу, то тебе поможет кровопийца Цминис! Вы – два брата, достойные друг друга! Будь ты проклят…
– Взять его! – вскричал император, обращаясь к Макрину и легатам, потому что никто не явился на смену высланного центуриона.
Но между тем как знатные господа, дрожа, подходили к безумному, а Макрин звал воинов германской гвардии, дежуривших в боковой комнате, Филипп повернулся и с быстротою молнии исчез за окном.
Легаты и цезарь подбежали слишком поздно для того, чтобы удержать его, а с площади внизу слышались крики: «Разбился… Мертв… Чем провинился этот несчастный?.. Его сбросили вниз… Он не мог сделать этого добровольно… Невозможно… У него связаны руки… Новый род смерти, изобретенный Таравтасом собственно для александрийцев!»
Затем снова раздался свист и крик: «Долой тирана!»
Но за этим криком не последовало другого. Площадь была слишком полна воинами и ликторами.
Каракалла слышал все это.
Наконец, он вернулся в комнату, отер пот со лба и сказал как будто бы спокойно, но с неприятным, грубым звуком в голосе:
– Он десять раз заслужил смерть, но в конце концов я еще должен поблагодарить его за хороший совет. Я забыл египтянина Цминиса. Если он еще жив, Макрин, то приведи его из тюрьмы сюда, но в колеснице и живо! Он должен явиться в чем и как есть. Он может теперь понадобиться мне.
Префект поклонился, и поспешность, с какою он ушел, показывала, как охотно он исполняет поручение своего повелителя.
XXX
Едва Макрин вышел за дверь, как император в изнеможении опустился на трон и велел принести вина.
Мрачный взгляд, с каким он смотрел вниз, опустив голову, был непритворен.
Врач с беспокойством следил за тяжелым дыханием и вздрагиванием глаз властителя; но когда он предложил цезарю успокоительное питье, тот отстранил лекарство и приказал оставить его в покое.
Однако же немного времени спустя он принял легата, который явился с известием, что собранная в Стадиуме молодежь начинает выказывать нетерпение. В одном месте она поет, в другом буянит, и то, чему она рукоплещет и что желает слышать несколько раз, далеко не содержит в себе похвалы римлянам.
– Оставь их, – отвечал цезарь брюзгливым тоном. – Каждый стих, что раздается там, относится ко мне и ни к кому другому. Но ведь приговоренным к смерти перед их последним выходом дают насладиться пищей. А их пища – ядовитая насмешка. Пусть полакомятся они ею еще раз! Далеко до тюрьмы Цминиса?
Ответ был отрицательный; Каракалла принял его с восклицанием «тем лучше», и на его губах мелькнула многозначительная улыбка.
Верховный жрец Сераписа с глубоким беспокойством следил за тем, что произошло в последнее время. Он, глава музея, возлагал величайшие надежды на юношу, которого постигла такая ужасная кончина. Если цезарь выполнит свои угрозы, то наступит конец и для знаменитого учреждения, которое, по его мнению, все еще приносило богатые плоды по научным изысканиям. И что значит темный намек цезаря, что насмешки, которым предаются созванные юноши, представляют собою для них то же, что предсмертное угощение преступника? От страшного, глубоко раздраженного и тяжко оскорбленного злодея можно было ожидать неслыханных вещей, и потому верховный жрец уже послал нескольких своих подчиненных, уважаемых греков, в Стадиум, чтобы предостеречь строптивых юношей. Сам же он, верховный служитель божества, счел своею обязанностью во что бы то ни стало предостеречь властителя, которого видел готовым совершить великие злодеяния.
Он нашел, что наступило время для этого предостережения, когда Каракалла очнулся от своей мрачной задумчивости, в которую он впал снова, и с нахмуренным лбом строго спросил Феофила, не было ли известно его жене, гостеприимством которой еще вчера пользовалась Мелисса, что эта презренная уже отдалась другому в то время как она притворялась в любви к нему, императору.
Верховный жрец с величавым, свойственным ему достоинством отстранил это подозрение и затем стал заклинать императора не заставлять граждан расплачиваться за низость и вероломство легкомысленной девушки.
Но Каракалла не дал ему договорить и с гневною вспышкою осадил его вопросом, кто дал ему право навязывать свой совет ему, императору.
Феофил спокойно возразил:
– Твои собственные благородные слова, великий цезарь, которыми ты, к твоей величайшей чести, старался внушить заблуждающемуся скептику, какое значение имеют старые боги и что подобает им. Но тот бог, высокий цезарь, которому я служу, не уступает ни одному из богов, так как небо – его голова, море – его тело, земля – его ноги, а его далеко видящее око – само солнце, и все, что волнуется в сердце и уме человека, есть излияние его божественного духа. Таким образом, он равен одушевленному «все», и часть его живет и действует в тебе, во мне, в нас всех! Его могущество сильнее всякого могущества на земле, и если справедливый гнев увлекает тебя, то самими богами дарованная тебе власть…
– Я воспользуюсь ею! – прервал его цезарь. – Она простирается далеко. Я не нуждаюсь ни в какой помощи, даже в помощи твоего бога.
– Я знаю это, – возразил Феофил, – и божество укажет тебе тех, которые так злобно погрешили против твоего священного величества. Божество одобрит всякое наказание, даже самое строгое, которому ты подвергнешь государственных преступников, так как твоя пурпурная мантия – его дар, ты носишь ее от его имени, и кто оскорбляет ее, тот грешит также и против него. И я всею своею слабою силою буду помогать тебе привлечь отдельных преступников к суду. Но где оказывается виновною целая толпа, и человеческая справедливость лишена возможности отделить виновных от невинных, там наказание принадлежит богу. Он строго накажет тяжкий проступок, совершенный против тебя в этом городе. Поэтому я заклинаю тебя именем твоей благородной, достойнейшей матери, которую я имел счастье угощать в этом доме и которая, будучи благодарна Серапису за его благоволение…
– А я разве скупился на жертвы? – прервал его цезарь. – Мне было нужно приобрести благосклонность твоего бога, и как он отблагодарил меня? Здесь, на его глазах, мне было причинено то, что больно человеческому сердцу. Как против нечестивых жителей этого города, так и против их божественного владыки я могу выставить самые тяжкие обвинения. Он умеет мстить. Трехглавый пес у его ног, конечно, не похож на комнатную собачонку. Он должен будет презирать меня, если я предоставлю наказание виноватых ничем не доказанному благоволению его ко мне. Я могу выполнять это наказание своею собственною властью. Если же ты все-таки видишь, что я в некоторых отдельных случаях дарую помилование, то это я делаю в воспоминание о моей матери. Ты в добрый час напомнил мне о ней. Она, я знаю, питает расположение к твоему богу. Александрийцы относительно меня оскорбительным образом нарушили право гостеприимства. Для нее они были ласковыми хозяевами. Это зачтется теперь в их пользу. Все они виновные. Если же многие из них останутся ненаказанными – поставь это в известность изменникам, – то этим они будут обязаны гостеприимству, которое их родители и некоторые из них самих оказали моей матери.
Здесь его речь была прервана. Ему доложили о приходе начальника полиции Аристида, который в сильном и, по-видимому, радостном волнении явился перед цезарем. Его шпионы схватили одного преступника, который прикрепил к статуе матери императора в Цезареуме дерзкую, злобную эпиграмму.
Сочинитель ее был ученик музея, и он был схвачен в то время, когда еще похвалялся своим преступным деянием. Один шпион, замешавшийся в толпу юношей, арестовал его, и начальник полиции поспешил вернуться в Серапеум, чтобы похвалиться перед цезарем удачей, которая могла укрепить поколебленное положение блюстителя безопасности.
При обыске преступника нашли стихотворение, и Аристид держал в руке табличку, где оно было написано, между тем как цезарь выслушивал его доклад.
Задыхаясь от рвения, Аристид рассказывал о своей удаче, но император нетерпеливо вырвал у него из руки двустишие и прочел следующие стихи:
Женщина эта и мать двух враждующих братьев – блудница.
– Ты разумеешь Иокасту?
– Нет, хуже: Севера жену.
«Самое нечестивое, но и последнее!» – прохрипел Каракалла про себя, сильно побледнев и опуская руку с табличкой.
Но почти в то же мгновение он поднял ее снова, протянул злые и вместе клеветнические стихи верховному жрецу и крикнул ему с хохотом:
– Печать под приговором! Они оклеветали и мою мать. Просить о помиловании – отныне значит положить свою собственную голову на плаху.
При этих словах он с угрозою поднял кулак и глухо прошептал про себя: «И это из музея!»
Между тем верховный жрец тоже прочел табличку. Побледнев еще сильнее, чем император, и ясно сознавая, что каждое новое увещевание будет бесполезно и обрушит ярость возмущенного человека на него самого, он ограничился тем, что горячо выразил свое негодование на эту клевету против благороднейшей из женщин со стороны мальчишки, едва вышедшим из школьного возраста. Но Каракалла прервал его угрозой:
– Горе и тебе, если твой бог откажет мне в единственном, чего я требую от него за все мои жертвы: мести, полной, целой, кровавой, воздающей за большое и малое!
Затем он внезапно прервал себя самого восклицанием:
– И он дает ее! Такой вид должно иметь орудие, которым я пользуюсь.
Это орудие было налицо: в комнате стоял Цминис, египтянин, в каждой черте своей соответствовавший представлению, которое составил себе Каракалла об исполнителе самого кровавого из своих желаний. С нечесаной головой и синевато-черною щеткой волос на худых, поблекших, впалых коричневых щеках, в сером грязном арестантском балахоне, босой, ступая неслышным шагом, подобно несчастью, тихо подкрадывающемуся к своей жертве, он подошел к повелителю.
Префект поспешно привез его сюда из темницы таким, каким застал в тюрьме. В продолговатых глазах египтянина белки, которые так пугали Мелиссу, приобрели желтоватый оттенок, и его взгляд беспокойно бегал, подобно глазам гиены. Узкая голова этого нечестивого человека, который целый день ожидал смерти, а теперь, точно каким-то чудом, очутился возле высочайшей цели своего честолюбия, в чрезмерном нервном возбуждении качалась туда и сюда на длинной шее. Но когда он, наконец, фальшивым голосом, который приобрел в тюрьме какой-то скрипящий звук, спросил императора, что повелевает он, и при этом, подобно голодной собаке, собирающейся вырвать из рук хозяина хороший кусок, жадно вперил глаза в его лицо, то даже у братоубийцы, державшего наготове отточенный меч для удара, мороз пробежал по спине.
Однако же Каракалла скоро оправился, и когда он спросил египтянина, берется ли он в качестве начальника полиции помочь наказать александрийских изменников, то получил немедленно ответ: что может сделать кто-нибудь, на то я считаю способным и себя самого.
– Хорошо, – сказал император. – Но здесь дело идет не о том только, чтобы схватить того или другого. Каждый – слышишь? – каждый заслужил смерть, кто нарушил гостеприимство, которое лживыми словами обещал мне этот город. Понимаешь ли ты, что это значит?.. Да? Ну так вот что: как нам отыскать виновных? Откуда мы возьмем сыщиков и палачей? Каким образом мы накажем строже всего тех, преступность которых служит в осуждение другим, и прежде всего эпиграммокропателей музея? Как добраться нам до государственных изменников, до всех, которые вчера нанесли мне оскорбление в цирке, как поймать тех из мальчишек в Стадиуме, которые осмелились выразить свой ядовитый гнев против меня свистками? Что предложишь ты мне, для того чтобы ни один из виновных не ушел от нас? Подумай, каким образом устроить это, и притом так, чтобы я мог лечь спать, говоря: «Они получили то, чего заслуживали; я удовлетворен!»
Глаза египтянина, опущенные вниз, бегали туда и сюда, как бы ища разрешения предложенной ему задачи, но скоро он выпрямился и коротко и отрывисто, точно отдавая приказание стражам, сказал:
– Мы убьем их всех.
Каракалла вздрогнул и глухим голосом спросил:
– Всех?
– Всех, – повторил Цминис с отвратительным смехом. – Молодые парни все у нас собраны в Стадиуме. Те, что в музее, не ожидают нас. Те, что находятся на улице, будут перебиты. Запертые двери можно разломать.
Цезарь, снова опустившийся на трон, подскочил при этих словах, швырнул кубок, который он держал в руке, далеко в глубину комнаты, пронзительно засмеялся и вскричал:
– Ты мой человек! Итак, за дело! Вот это будет день! Макрин, Феокрит, Антигон! Нам понадобятся и войска. Легаты, сюда! Кому кровь не по вкусу, тот пусть подсластит ее добычей.
Он смотрел точно освободившийся от тяжести и помолодевший, и в его уме промелькнул вопрос: месть не слаще ли любви?
Его свита молчала.
Даже Феокрит, у которого на губах всегда были в готовности какие-нибудь льстивые или ободрительные слова, в смущении потупился, но Каракалла в сильном возбуждении своей души не обращал внимания ни на что другое.
Страшное внушение Цминиса по своей неслыханной грандиозности казалось ему превосходным и достойным его.
Его следовало привести в исполнение.
С того времени как он облекся в пурпур, он постоянно старался возбуждать страх. Если бы это чудовищное деяние удалось, то ему не было бы нужно морщить лоб и косить глаза на тех, кого он желал наполнить трепетом.
И какое мщение!
Когда узнает о нем Мелисса, то как оно должно подействовать на нее!
Итак, за дело!
И, точно дело шло о том, чтобы предостеречь от раннего разглашения готовящегося сюрприза, он тихим голосом продолжал:
– Но молчание, глубокое молчание, слышите, пока не будет готово все! А ты, Цминис, начни со свистунов в Стадиуме и болтунов в музее. Вознаграждение воинам и ликторам лежит в сундуках купцов.
Все продолжали молчать, и теперь он заметил это. Слабые души находили его намерение слишком смелым. Нужно было помочь им, заставить умолкнуть их совесть, голос римского чувства справедливости и принять ужасавшую робких ответственность на свои собственные плечи.
Поэтому цезарь выпрямился и, делая вид, как будто не замечает смущения окружающих, вскричал радостно уверенным тоном:
– Пусть каждый делает свое! Ни от кого из вас я не требую ничего другого как только выполнения приговора судьи. Вы знаете, какое преступление совершили против меня граждане этого города, и в силу принадлежащей мне власти над жизнью и смертью я, император – да будет это известно вам, – приговариваю, слышите, приговариваю каждого александрийца мужского пола, какого бы то ни было возраста и сословия, к смерти от мечей моих воинов. Это место – завоеванный город, который прошутил, потерял всякое право на милость. Кровь и сокровища его граждан принадлежат моим солдатам. Только, – при этом он повернулся к главному жрецу, – дом твоего бога, оказавший мне гостеприимство, жрецы и имущество великого Сераписа будут пощажены. Теперь от него зависит показать, благосклонен ли он ко мне! Вы все, – при этом он обратился к окружающим, – все, которые помогут мне покарать за оскорбления, нанесенные здесь вашему цезарю, можете быть уверены в моей императорской благодарности.
Это уверение не осталось без своего действия, и между друзьями и любимцами пронесся крик одобрения, но более тихий и скудный, чем к какому привык император.
Но слабость этого проявления чувств заставила его только еще больше гордиться своим собственным, ни перед чем не останавливавшимся мужеством.
Префект Макрин принадлежал к числу тех, которые кричали громче всех остальных, и Каракалла радовался тому, что даже этот рассудительный советник позволял ему осушить чашу мщения до дна.
Точно опьяненный еще до питья, император, с пылающими глазами, подозвал к себе его и Цминиса и внушил им, преимущественно перед другими, позаботиться, чтобы Мелисса, ее отец, Александр и Диодор были приведены к нему живые.
– И еще одно, – заключил он, – завтра здесь будет много плачущих матерей, но я желал бы вновь увидать одну и, конечно, не мертвою. Я говорю о той, наряженной в цирке в красное платье, о жене Селевка, с Канопской улицы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.