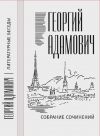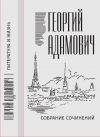Текст книги "Одиночество и свобода"

Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Борис Зайцев
Первое мое впечатление от чтения Зайцева – очень давнее: если не ошибаюсь, был я тогда еще в гимназии. Вспоминаю об этом вовсе не для того, конечно, чтобы говорить о себе, а потому что ранние впечатления кое в чем самые верные.[10]10
Два слова по поводу местоимения «я».
Им, разумеется, не следует злоупотреблять, однако без него в литературной критике – да и не только в ней! – невозможно и обойтись. Между тем по недоброжелательству или недобросовестности, люди нередко упрекают критика в «якании», подчеркивая, что он больше занят собой, чем своим предметом. Что на это ответить? Прежде всего, пожалуй, то, что всякие стилистические уловки, – имеющие целью «я» затушевать, смешны и нелепы. «Пишущий эти строки», форма, вошедшая теперь у нас в моду: до чего это манерно и как никчемно! Некоторые писатели, одушевленные похвальной скромностью, предпочитают изменять строение фразы, лишь бы избежать «я»: не «я думаю», например, а неизменно «мне думается» – в расчете, что «мне» все-таки приемлемее, нежели «я». Но и это – ребячество и игра в прятки. Самого себя нельзя со своей дороги убрать, иначе, как сквозь призму личных суждений ничего в критике нельзя высказать, и будем поэтому говорить «я», там где оно необходимо, в уверенности, что естественный оборот речи по самой своей природе скромнее и проще всякого словесного жеманства.
[Закрыть] Отсутствие опыта, неизбежная общая наивность искупаются в них непосредственностью отклика, нерастраченной способностью восхищаться, любить, отзываться, и даже «обливаться над вымыслом слезами».
Кажется, это был «Отец Кронид». Содержание? Но ведь у Зайцева содержание всегда неразрывно связано с тоном повествования и даже в нем наполовину и заключено. Содержания я точно не помню, а помню нечто иное: фразы, обрывающиеся там, где ждешь их продолжения; краски, светящиеся, почти прозрачные, акварельные, ни в коем случае не жирные, масляные; какой-то вздох, чудящийся во всем сказанном, что-то вполне земное, однако с оттенком «не от мира сего»…
С тех пор прошло много лет. Зайцев, как художник, вырос, окреп, изменился. Изменились и мы, его читатели. Но и теперь, принимаясь за любой зайцевский роман или рассказ, с первых же страниц чувствуешь то же самое: вздох, порыв, какое-то многоточие, подразумевающееся в конце… «И меланхолии печать была на нем…» Жизнь остается жизнью, представлена она у Зайцева с безупречной правдивостью, однако в освещении не совсем таком, какое видим мы вокруг себя. Люди как будто легче, ходят они по земле, а кажется вот-вот, как во сне, над ней бесшумно поднимутся.
Есть у Зайцева одна только повесть, где он как будто пожелал глубже и прочнее внедриться в жизнь, найти для ее изображения иные, более густые тона. Название ее – «Анна». Странная это вещь, – с одной стороны чуть ли не самое замечательное из всего Зайцевым написанного, с другой – несколько двоящаяся, распадающаяся на части. Кажется, все почувствовали, что это в творчестве Зайцева – поворот, или по крайней мере стремление к нему. Покойный Муратов, помнится, даже воскликнул, что в литературной деятельности Зайцева открылась «дверь в будущее» и что на этой двери написано – «Анна». Действительно, Зайцев в этой повести впервые дал образы людей, вросших в самую гущу бытия, и образы эти удивительно правдивы, удивительно законченны: латыш Матвей Мартыныч, например, или хотя бы земская докторша, добрая, честная, неглупая, с «гуманитарной» душой и портретом Михайловского на стене. Но героиня, главное действующее лицо, сама Анна – не то, что не ясна: ее как бы нет. Зайцев обстоятельно о ней рассказывает, а она в повести отсутствует. Есть чувства, которые Анна будто бы испытывает, но нет личности, человека. Не оттого ли произошло это, что в самом замысле, к личности относящемся, что-то осталось не согласовано, и что здоровую, простую девушку, выросшую в глуши, обремененную хозяйственными заботами, Зайцев наделил чертами тончайшей, почти неврастенической духовности, очевидно, слишком ему дорогими, чтобы даже и в этой повести совсем о них забыть? Анна любит соседа-барина: явление само по себе обычное. Но любит-то она его как-то «по-декадентски», то есть с городским, книжным оттенком в этой любви, едва ли так, как любить могла бы. (Зайцев пишет даже о «внеразумности» ее ощущений…) И умирает она неожиданно, без связи с содержанием повести, совсем случайно, будто автор не знал, что ему после смерти барина с ней делать. А вся обстановка, фон, все, что Анну окружает, – все это, повторяю, удивительно в своей меткости, яркости и своеобразии.
И природа великолепна. Надо, однако, сказать, что и в ее картинах Зайцев себе и складу своему не очень изменил, и «дверь», о которой писал Муратов, оказалась значительно призрачнее, чем почудилось на первый взгляд. Реализм остался по-прежнему зыбок, речь по-прежнему прерывается личными, отнюдь не реалистическими замечаниями и намеками. Едва ли, например, подлинный реалист отметил бы в воздухе «отрешенное благоухание», едва ли сказал бы, что «иной, прохладный и несколько грустный в нетленности своей мир сошел на землю». Едва ли отметил бы «бессмертный отсвет» снега… Правда, сам Толстой, при всей своей непоколебимой изобразительной трезвости, писал, например, о «счастливом белом запахе нарциссов». Но ведь это совсем не то, кто же этого не почувствует? Именно от упоения всем земным, всей земной прелестью, Толстой наделял свои нарциссы чертами, в которых придирчивый разум мог бы им и отказать. «Бессмертный» же отсвет снега нас скорей от земли уводит, напоминает о том, чего на земле нет.
Несомненно, однако, в «Анне» был сделан Зайцевым шаг к жизни в ее плотском и физическом обличьи. Не менее несомненно, что в целом повесть эта – большая удача писателя, восхитившая и даже взволновавшая людей, которых расшевелить бывает трудновато. Но самого Зайцева она, по-видимому, смутила или не дала ему подлинного творческого удовлетворения. Во всяком случае, задумчиво и неуверенно взглянув на «дверь», Зайцев от нее отошел и предпочел остаться на пути, избранном ранее.
«И меланхолии печать была на нем…». Вспоминались мне эти знаменитые и чудесные строки из «Сельского кладбища» не случайно. Жуковский, как известно, один из любимых писателей Зайцева, один из тех, с которым у него больше всего духовного родства.
Жуковский ведь то же самое: вздох, порыв, многоточие… Между Державиным, с одной стороны, и Пушкиным, с другой, бесконечно более мощными, чем он, Жуковский прошел как тень, да, но как тень, которую нельзя не заметить и нельзя до сих пор забыть. Он полностью был самим собой, голос его ни с каким другим не спутаешь. Пушкин, «ученик, победивший учителя», его ничуть не заслонил.
Зайцева тоже ни с одним из современных наших писателей не смешаешь. Он как писатель существует, – в подлинном, углубленном смысле слова, – потому, что существует как личность.
«Путешествие Глеба» и другие повести, в которых речь идет о том же герое, – лишены формальных автобиографических признаков. Автор вправе утверждать, что в них все выдумано, сочинено, и нам на такое утверждение нечего было бы ему возразить. Но никакими доводами не убедит он нас, что в этих повестях ничего личного нет, – как не убедил бы нас в том же самом и Бунин по отношению к «Жизни Арсеньева». Впрочем, в противоположность Бунину, автобиографичности своего произведения Зайцев, кажется, и не склонен отрицать. У читателя же нет на счет этого и сомнений. Выдает тон, выдает то волнение, которое чувствуется в описаниях, в воспроизведении бытовых мелочей, житейских повседневных пустяков, выдает, наконец, непринужденность погружения в мир, сотканный из бледных, хрупких, слабеющих воспоминаний… Тургенев однажды с насмешливой проницательностью заметил, что человек говорит с интересом о чем угодно, но «с аппетитом» – только о самом себе. Оставим иронию, к зайцевским рассказам о Глебе неприменимую, – но отметим, что в рассказах этих чувствуется именно «аппетит». Каждому его детство представляется особым, в каком-то смысле особенно пленительным и важным, чем-то таким, что прельстило бы всех, если бы удалось как следует об этой поре рассказать. Зайцев вспоминает детство, как видение: с сознанием, что дневной свет логической передачи убьет его таинственную и смутную поэзию.
Прошлое… Добрая половина всего того, что составляет эмигрантскую литературу, посвящена рассказам о прошлом. Несомненно, эмигрантская «тема», если признать, что она существует и существовать должна, – в известной мере с воспоминаниями связана. Однако тема эта бывает искажена, – или во всяком случае снижена, ослаблена, – в тех писаниях, где возводятся в перл создания и на все лады воспеваются удобство и многообразная прелесть прежней жизни вплоть до ее комфортабельности. Тут, – надо в этом с горечью сознаться, – более чем уместен «классовый подход» критического анализа: в самом деле, раз художник способен на несколько страниц расчувствоваться над незабываемым очарованием «горячих, пышных, золотистых Филипповских пирожков», то нечего ему негодовать и обижаться, если зачисляют его в лагерь «выразителей буржуазных настроений». Пирожками, правда, мог бы насладиться и пролетарий, однако за гимнами в их честь для всех ясна тоска о благополучии, связанном с известными, пусть и весьма скромными, социальными привилегиями. Эмигрант-писатель, до пирожков опускающийся, сам, может быть, этого не сознавая, подставляет голову под враждебные удары – и по заслугам получает их.
Зайцев в прошлом ищет иного. Ему дорого не то, что людям известного круга жилось до революции приятно, сытно и спокойно, а то, что судьбы, – те «судьбы», от которых, по Пушкину, «защиты нет», – еще не угнетали тогда человека, не мешали дышать ему, наслаждаться жизненными благами, ни с какими социальными преимуществами не связанными. Основа и двигатель зайцевского лиризма – бескорыстие. Не думаю, чтобы ошибкой было сказать, что это вообще – духовная основа и двигатель всякого истинного лиризма, и даже больше: всякого творчества. Эгоист, стяжатель всегда противопоэтичен, антидуховен, какие бы позы не принимал: правило, кажется, не допускающее исключений. Зайцев сострадателен к миру, пассивно-печален при виде его жестоких и кровавых неурядиц, но и грусть, и сострадание обращены у него именно к миру, а не к самому себе. Большей частью обращены к России.
Маленькому Глебу кажется, что отец и мать – любящие благодетельные силы, охраняющие его от всяких тревог и несчастий. Кажется это ему не случайно и не напрасно. Вокруг – такое устоявшееся спокойствие, что родители действительно в состоянии играть роль добрых божеств. Вот, например, Глеб на вступительном экзамене в калужскую гимназию отвечает на вопросы законоучителя о. Остромыслова. Отвечает довольно слабо. Священник поправляет мальчика, однако «без раздражения», пишет Зайцев.
«– Зачем волноваться о. законоучителю? В мире все прочно, разумно, ясно. Вся эта гимназия и город Калуга на реке Оке, и Российская империя, первая в мире православная страна, – все покоится на незыблемых основах и никогда с них не сдвинется. Что значит мелкая ошибка маленького Глеба? Все равно Дарвин давно опровергнут, вечером можно будет сыграть в преферанс, послезавтра именины Капырина, все вообще превосходно».
«Никогда не сдвинется…» Однако, если бы даже не знать о событиях, происшедших в последние десятилетья, можно было бы по рассказу Зайцева, обращенному к временам далеким, догадаться, что империя «сдвинулась», что она неизбежно должна была «сдвинуться». Иначе рассказчик по-другому о прежнем житье-бытье говорил бы, иначе его плавная речь не прерывалась бы многочисленными паузами. К отцу Глеба, провинциальному инженеру, приезжает на завод губернатор, – олицетворение благосклонного величья и торжественного, незыблемого спокойствия. Зайцев мог бы, в сущности, и не добавлять, что «через тридцать лет вынесут его больного, полупараличного из родного дома в Рязанской губернии и на лужайке парка расстреляют». Если не в точности это, то нечто подобное читатель предвидит.
Глеб в детстве счастлив. Но читатель чувствует, что в будущем Глебу предстоит нечто значительно менее идиллическое: повествование напоминает реку, которая дрожит и пенится задолго до того, как переходит в водопад. У Зайцева вообще тон рассказа порой значительнее самой фабулы. Реалистичны ли его романы? Да, по-видимому, реалистичны. Но сущность их не совсем укладывается в понятие реалистического творчества, – как впервые в русской литературе это случилось у Гоголя, о реализме или псевдореализме которого до сих пор длятся споры.[11]11
Истина не всегда бывает посредине, но в данном случае ей иное место найти трудно. По-своему был прав Белинский, твердивший о «великом реалисте», по своему был прав и Мережковский, признавший Гоголя писателем фантастическим. Каждый искал у Гоголя того, к чему сам был склонен, и каждый свое у него нашел. Белинский обратил внимание лишь на оболочку, Мережковский и его последователи оболочку отвергли: подлинный образ Гоголя оказался у обоих несколько искажен, и одно другим следовало бы наконец дополнить.
[Закрыть] Вспоминаю давнюю драматическую сцену Зайцева, действие которой происходит в чистилище, и где слышны речи, как будто еще согласованные с обычной земной, человеческой логикой, но уже освобожденные от груза земных, человеческих страстей: хотя в повествовании о Глебе перед нами – русская деревня, охотники, инженеры, капризные и взбалмошные барыни, обычный, знакомый провинциальный российский быт, все-таки порой кажется, что это только пелена, которая вот-вот прорвется, и как сквозь облака, мелькнет за ней бесконечная, прозрачно-голубая, какая-то «астральная» даль. Особый поэтический колорит зайцевских писаний на этом и держится. О его реализме хочется сказать: то, да и не то.
Однако люди у него вполне живые, и обрисованы они всегда со сжатой точностью и остротой. Зайцев не «выдумывает психологии», – упрек Толстого Максиму Горькому, – он ее воспроизводит, находит и передает, не позволяя себе никаких вольностей. Особенно хороша у него мать Глеба. Образ этот менее оригинален, чем глубок, менее нов, чем правдив: образ внутренне неисчерпаемо-жизненен и потому ни в новизне, ни в оригинальности не нуждается. Зайцев развивает в нем старую русскую тему, может быть и внося личные изменения в общее достояние, но не нарушая его очертаний. Эта женщина, со своим характерным обращением «сыночка», тихая, молчаливая, скромная, способная, что угодно вынести, заранее испуганная мыслью о том неизвестном, куда от нее мало-помалу уходит подрастающий сын, как бы каждым словом старающаяся его оберечь, защитить, охранить, – это мать Некрасова, «русокудрая, голубоокая», это – мать из «Подростка», мучительно-растерянная в пансионе Тушара, отчасти мать Толстого. Может быть, слишком самонадеянно было бы сказать, что это образ именно наш, русский: как со справедливой иронией заметил Милюков, в «Очерках по истории русской культуры», мы любим присваивать себе, будто свое исключительное сокровище, лучшие общечеловеческие черты. Образ страдающей матери, mater dolorosa – конечно, общечеловечен. Но есть в русском его истолковании, в русском преломлении особый оттенок, – пожалуй, именно у Некрасова с наибольшей силой выраженной, от «Рыцаря на час» до предсмертных стихов, когда он «в муках мать вспоминал», и оттенок этот с безошибочной чуткостью схвачен и передан Зайцевым. Писатель бедный, мало одаренный, побоялся бы, вероятно, раствориться в чужом достоянии, постарался бы сочинить что-либо иное, пусть и шаткое, но свое. Писатель подлинный не страшится за свою индивидуальность и знает, что она тем крепче, чем свободнее рискует собой. Это, конечно, трюизм, дважды два четыре, но по теперешним временам о таких истинах приходится иногда вспоминать и напоминать.
Зайцев – москвич, и не раз подчеркивал свою духовную связь с Москвой, свою сыновнюю ей преданность. В предисловии к книге, так и озаглавленной: «Москва», он говорит, что если бы она, эта книга, «дала Москву почувствовать (а может быть и полюбить), то и хорошо, цель достигнута».
Между тем внутренний его облик не совсем сходится с тем, что привыкли мы считать, чуть ли не с грибоедово-пушкинских времен, московским стилем, московским жизненным укладом и складом. В этом смысле Шмелев типичнее, характернее его, и знаменитые строки:
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось!
– строки эти, ко всему, что написано Шмелевым, гораздо естественнее отнести. Шмелев гуще, плотнее, тяжелее, «почвеннее», его патриотизм традиционнее и элементарнее, весь он гораздо ближе к таким выражениям, как «первопрестольная», «златоглавая», «белокаменная»… Вспомним карту России: Москва сидит спокойно в центре, распространяя спокойствие и вокруг, внушая мысль, что именно она все держит, и пока держит, все будет стоять на своих местах, – не то что Петербург, тревожный и рискованный даже географически. В Зайцеве мало этих московских черт. Съездил он однажды на остров Валаам, и, кажется, почувствовал себя там больше дома, чем где бы то ни было: сосны, прохлада, зори, тишина, – чего и желать другого? Или Италия, страна ленивая и блаженная, вечно обаятельная для всех северян: Италия, как неизгладимое воспоминание, почти всегда присутствует в зайцевских писаниях, и от Арбата или каких-нибудь Крутицких ворот не так у него далеко до тосканских равнин. «Пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою красой…» – сказано в стихотворении Осипа Мандельштама. В каждой зайцевской фразе есть отблеск этой двоящейся «красы».
Однако, если уже вспоминать стихи, то следует вспомнить и Блока:
Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалека.
Не свернуть ли к вечному покою?
Да и что за жизнь без клобука!
«Да и что за жизнь без клобука!» Ни в одной книге Зайцева нет намека на стремление к иночеству, и было бы досужим домыслом приписывать ему, как человеку, не как писателю, такие чувства или намерения. Но тот «вздох», который в его книгах слышится, блоковскому восклицанию не совсем чужд, – вероятно потому, что Зайцев, как никто другой в нашей новейшей литературе, чувствителен к эстетической стороне монастырей, монашества, отшельничества. Ничуть не собираясь «бежать из мира», можно ведь признать, что есть у такого бегства своеобразная, неотразимая эстетическая прельстительность… Люди спорят о религиозной или моральной ценности монастырского уединения (кажется, Белинский охарактеризовал его, как «чудовищный эгоизм», – с обычной своей нетерпимостью, мешавшей ему понять многое из того, что по природным своим данным он понять и должен был бы и мог бы). Споры и разногласия неизбежны, пока умы и души не удалось еще никаким цензорам и опекунам наполнить одним содержанием. Бесспорно однако то, что, как поэзия, как поэтический стиль, как поэтический порыв, – это одно из чистейших созданий человеческого духа, в частности, духа русского, и стоило, например, Нестерову, с его не бог весть какими богатыми художественными средствами, на эту сокровищницу набрести, притом в чуждые ей времена, как в ответ возникло волнение глубокое и подлинное. Стоило ему изобразить лес, келью, подвижника и спящего у его ног медведя, как на полотно лег отблеск многовекового вдохновения.
Зайцев не случайно написал «Валаам», и написал не так, как мог бы написать записки о какой-либо другой своей поездке. Он сделал то же, что Нестеров, только, пожалуй, искуснее и вкрадчивее. К благолепию иночества, к древнему, незыблемому складу его он подошел как будто с некоторой иронической небрежностью, с напускной рассеянностью, – но, кажется, лишь затем, чтобы не отпугнуть читателя, чтобы прикинуться своим, мол, братом-интеллигентом, горожанином, скептиком. Войдя в доверие, «установив контакт», Зайцев развертывает свою панораму, и знает, что не поддаться ее очарованию трудно.
Есть две линии, две тенденции в восприятии монашества, православия и даже всего христианства: в нашей литературе они отражены особенно отчетливо в спорах о том, какой из двух представленных в «Братьях Карамазовых» образов глубже и правдивее – благостный, всепрощающий, всепонимающий Зосима, или суровый, полуюродивый Ферапонт. Константин Леонтьев, один из тех русских писателей, которые к эстетической стороне православия, к «поэзии» его, были наиболее чувствительны, страстно отстаивал правоту Ферапонта, отвергая, высмеивая, ненавидя – как он умел ненавидеть, – «розовое» христианство зосимовского типа. Леонтьев, даже как художник, искал черных оттенков с примесью красного цвета, – цвета огня и крови. Зайцев, разумеется, весь на стороне Зосимы, и как на подбор ему, на Валааме и монахи встречались все такие: кроткие, тихие, примирившиеся, ничуть не «воинствующие». Если вовлечься в спор, хотелось бы сказать, что в целом зайцевская концепция чище леонтьевской, пусть и уступая ей в оригинальности и силе. Достоевский-то во всяком случае был за Зосимой, а не за Ферапонтом, и надо иметь такую фантастически сложную, истерзанную психику, как у Леонтьева, чтобы искать света в проклятьях и анафемах вместо любви. Зайцев не боится показаться пресным. Но зато и не рискует оказаться тем духовным жонглером, которого никакой ум, никакая даровитость не спасет в конце концов от бесплодья. Его путь скромнее и вернее.
В борьбу он, впрочем, и не вмешивается. О том, как православие пришло к благолепию, миру и покою, он будто и не помнит: его влекут лишь выводы, результаты, итоги. Деревянная церковка, тихий летний вечер, тихий старичок, толкующий о душе и ее спасении, удар колокола, как призыв или как упрек… Здесь, в этих картинах, от героики и мученичества христианства не осталось почти ничего, это не былое пламя его, а дотлевающие угольки. Если это и «рай», как, по-видимому, склонен признать Зайцев вместе с той старой француженкой, о которой рассказывает, то рай готовый, кем-то другим добытый, другим найденный и завоеванный. Но время завоеваний прошло. Благочестивый и мечтательный путешественник зовет нас насладиться покоем, полюбоваться древней прекрасной скудостью быта, помыслить о вечном. Соблазн, скажу еще раз, эстетически неотразим: никогда никакой поэзии животных радостей, буйной, яркой и плотоядной, не совладать с этим безмолвием, с этими соснами и закатами, никогда перед ними не устоять! Зайцев хорошо это знает. Забывает он, кажется, только то, как много страданий и восторга таит в себе эта тишина, какой ценой она куплена, сколько за ней подавленных порывов и стремлений. Зайцевский «рай» – легкий рай (в противоположность Боратынскому с его молитвой: «…и на строгий твой рай силы сердцу подай!»). Нельзя быть уверенным в его прочности, если прельстится им человек с нерастраченным запасом страстей: как Тангейзера, может его с неодолимой силой потянуть обратно, к Венере в грот.
Рассказ о путешествии на Валаам формально не может быть отнесен к главнейшим произведениям Зайцева. Несомнено однако, что это одна из тех книг, в которых есть к нему «ключ», одна из книг наиболее для него показательных. По самому характеру своего слога, по ритму своего творчества, Зайцев в описании далекого, уединенного северного монастыря оказался в сфере, его вдохновляющей. Никто другой не нашел бы таких слов, таких эпитетов, создающих иллюзию, будто окружает человека не живой, крепкий суетный мир, а какой-то легчайший туман, вот-вот готовый рассеяться. В других своих книгах Зайцев, скрепя сердце, заставляет себя быть участником или по крайней мере наблюдателем обыкновенной повседневной житейской суеты. Здесь он весь в ожиданиях, в предчувствиях, и даже самая жизнь для него – лишь пересадочная станция, на которой бессмысленно, а главное, скучно было бы задерживаться. Замечательно, что «Валаам» значительно глубже и цельнее афонских записок Зайцева, – хотя мог бы, казалось бы, вдохновить его и Афон. Не пришел ли Зайцеву на помощь север? Хотя отшельничество и возникло под знойным полуденным солнцем, в наши-то дни, после всех исторических превращений, им испытанных, трудно связать его с южной пестротой и роскошью природы. Противоречие слишком разительно. Если вокруг все сверкает и сияет, если все говорит о неистощимой земной мощи, то какие же тут вздохи, какая «бренность»! Южные обители должны, вероятно, быть местом ужасающих, безмолвных духовных битв, и вся летопись их должна быть отмечена трагизмом. Что делать в них Зайцеву, художнику-созерцателю, менее всего трагическому? То ли дело – остров на Ладожском озере, с «невеселыми предвечериями севера», о которых так хорошо рассказывает путешественник-богомолец, с коротким и хрупким летом, с бесконечными зимами и ночами! Природа тут укрепляет человека в его аскетическом лиризме, поддерживает его, а не искушает. Монахи спят в гробу, чтобы не забывать о смерти. На Афоне, у берегов синего теплого моря, вероятно, труднее лечь в гроб, чем на Валааме, где снежный саван держится больше полугода, а острый пронзительный холодок порой даже в июле напоминает о его близости. Все на севере располагает человека к мыслям, от которых до «бренности» – рукой подать. У Зайцева природа, на поверхностный взгляд – лишь фон. Но в действительности она говорит у него о том же, чем озабочены иноки, и даже отвечает тайным помыслам автора.
«Дом в Пасси» – роман из современной, эмигрантской жизни. Реализм в нем как будто не только уместен, но и необходим. Однако вот, перечитываю его – и снова вспоминается тот давний драматический отрывок, о котором я уже говорил: действие – между землей и небом, тени движутся в голубоватом волшебном сумраке, не зная ни истинных страстей, ни страданья, ни счастья… А в романе ведь никаких теней нет! Какая, например, тень – Дора Львовна, деловитая, преуспевающая массажистка, или этот русский шофер, или старик-генерал, или барышни, типичные парижские барышни-эмигрантки – все они наши давние знакомые. Реализм внешне безупречен, в нем не к чему придраться. Но внутри что-то двоится, и никак не отделаться от мысли, что волнует обитателей дома в Пасси не жизнь, а лишь слабое меркнущее воспоминание о ней.
Крайне своеобразна и, конечно, связана с общим складом писаний Зайцева его манера: в одной фразе, порой в одном слове дать характеристику человека. Впечатление остроты и меткости, которое оставляют некоторые его страницы, выделяясь среди других, именно на одном штрихе порой и основано. Например:
«Лузин был настоящий русский интеллигент довоенного времени, типа: “какой простор!”»
Превосходно! Ярлык наклеен, Лузин ясен. Правда, Толстой, или из новых писателей, скажем, Бунин, ярлыком не удовлетворились бы, а взяли бы быка за рога, истерзали и измучили бы его вовсю, и «интеллигент типа: “какой простор”», даже и без апелляции к Репину, превратился бы в нашего доброго знакомого. Но Зайцев – аквалерист, и во всяком случае в живописи – прежде всего рисовальщик.
Дора Львовна беседует с подругой о некоей сумасбродной миллионерше и выражает сожаление, что та тратит деньги на нелепые затеи.
«Может быть и удастся направить ее в разумное русло».
Настоящая находка, это «разумное русло»! Стиль – это человек. Слышишь голос образованной массажистки, видишь ее лицо! Однако, вспышка длится мгновение, а затем опять вступает в права тот прозрачный и легкий полумрак, в котором все тонет и сливается.
Откуда полумрак, т. е. для чего он автору нужен? Что побуждает автора почти всегда его в свои писания вводить? Если позволительны на счет этого догадки, то скажем: для того, чтобы не так очевидна была жестокость и грубость существования, для того, чтобы горечь его не казалась безысходной. Капа – одно из действующих лиц «Дома в Пасси» – кончает самоубийством, у старика-генерала умирает дочь, единственная его радость… Разве можно глядеть на это в упор, в беспощадно ярком дневном освещении? Капа сама в предсмертном своем дневнике против этого предостерегает. В согласии с ней Зайцев умышленно окутывает свой «дом» туманом, похожим на благовонный дымок кадила. Ни на что нельзя роптать, а если в сердце нет сил для благодарности, то должны бы найтись силы для молчания.
Этот «Дом в Пасси», то есть дом в одном из парижских кварталов, облюбованных эмигрантами, – не просто французский дом, наполовину заселенный иностранцами: это оазис в пустыне. Зайцев не склонен в чем-либо упрекать французов и не противопоставляет мнимой их узости и сухости нашу хваленую ширь и отзывчивость. Патрио-тически-хмельная обывательщина ему чужда. Но он с грустью признается, что Франция ему не вполне понятна, что среди французов он – чужой. Россия, воплощенная в обитателях парижского дома, пусть даже и беднее, но зато как-то духовнее, непосредственнее, сердечнее. Россия, может быть, скорее забывает, но зато она скорей и прощает… Трудно об этом говорить: без всякой заносчивости, так сказать, «снижающей» и искажающей тему, Зайцев касается тут того, что едва ли не все русские чувствуют и что ни на какие блага, ни на какой культурный блеск и лоск не хотели бы променять. Лично у Зайцева к этому примешивается и христианство, притом именно «розовое», противолеонтьевское, маловоинствующее. Конечно, для него христианство прежде всего – «мир», а не «меч», и, вероятно, даже по отношению к тем историческим драмам, свидетелями которых суждено нам было стать, его внутренняя позиция много сложнее и противоречивее, чем представляется на первый взгляд. Между «непротивлением злу» и «оком за око» он облюбовал особое, свое место.
С таким умонастроением можно спорить. Многие скажут, что надо с ним «бороться». Надо однако и помнить, что среди писателей, покинувших родину ради свободы, Зайцев – один из тех, кому свобода действительно оказалась нужна, ибо никак, никакими способами, никакими уловками не мог бы он там выразить того, что говорит здесь. Не у всех есть это оправдание. Если мы вправе толковать о духовном творчестве в эмиграции, то лишь благодаря таким писателям, как он. Судить и взвешивать, каково это творчество – необходимо и важно. Но самое важное то, чтобы действительно было о чем судить и что взвешивать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.