Текст книги "Жизнь Пушкина"
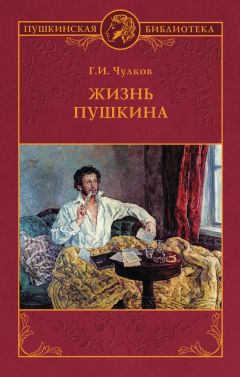
Автор книги: Георгий Чулков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Два года, проведенные Пушкиным в деревне, имели немалое значение для его трудов. Не только обогатился его поэтический язык, не только приобрел новую силу, выразительность, точность и меткость, но и все творчество в соответствии с возмужавшим языком выросло и окрепло. Реализм «Евгения Онегина» был явлением еще неслыханным в русской литературе. 15 февраля 1825 года вышла отдельным изданием первая глава «Евгения Онегина». Пушкин с досадою читал в журналах и в письмах друзей отзывы о романе[650]650
…отзыв Рылеева – известно, что Рылеев критически отзывался о «Евгении Онегине».
[Закрыть]. Эти отзывы свидетельствовали, что замысел автора остался неразгаданным. Ни Рылеев, ни Бестужев ничего не поняли в «Онегине». Им казалось, что «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» куда лучше этой странной повести на ничтожную тему. Они ничего не видели в ней, кроме подражания Байрону. Возникла полемика по поводу «Онегина»[651]651
…полемика по поводу «Евгения Онегина»… – «Московский телеграф» взял роман Пушкина под свою защиту в статье Н. Л. Полевого «Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина» (1825. Ч. 2. № 5), что вызвало опровержение Д. В. Веневитинова (Сын Отечества. 1825. Ч. 100. № 8). Положительное мнение о романе было развито в следующей статье Н. Полевого «Толки о “Евгении Онегине”» (1825. Ч. 4. № 15), которая в свою очередь вызвала «Ответ г. Полевому» Д. В. Веневитинова (Сын отечества. 1825. Ч. 104. № 24).
[Закрыть] между «Московским телеграфом»[652]652
«Московский телеграф» – журнал литературы, критики, наук и художества. Выходил дважды в месяц (1825–1834).
[Закрыть] и «Сыном Отечества». Полевой[653]653
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) – писатель, критик, издатель журнала «Московский телеграф».
[Закрыть] в своем только что возникшем журнале приветствовал появление первой главы «Онегина». Он отметил, между прочим, что в романе «веселость сливается с унынием, описание смешного идет рядом с резкой строфой, обнаруживающей сердце человека». Любопытно, что Полевой увидел в «Онегине» истинную «народность». В «Сыне Отечества» ему отвечал некий критик, подписавшийся – «въ». Этот незнакомец был девятнадцатилетний поэт Д. В. Веневитинов[654]654
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) – поэт и критик, один из организаторов и участников «Московского вестника», фактический глава кружка «любомудров». Пушкин и Веневитинов были четвероюродными братьями.
[Закрыть], шеллингианец[655]655
Шеллингианец – последователь Ф. В. Шеллинга (1775–1854) – немецкого философа, развивавшего принципы объективно-идеалистической диалектики природы. Для него искусство – высшая форма постижения мира.
[Закрыть], «любомудр»[656]656
«Любомудры» – участники философско-литературного кружка «Общество любомудрия» (Москва, 1823–1825).
[Закрыть], один из «архивных юношей», избалованный похвалами друзей – А. С. Хомякова[657]657
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – поэт, публицист, философ, богослов. Идеолог славянофильства.
[Закрыть], И. В. Киреевского[658]658
Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) – критик и публицист, член московского кружка «любомудров». Одним из первых обратился к рассмотрению эволюции пушкинского творчества в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828).
[Закрыть], Шевырева[659]659
Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – поэт, критик, историк литературы. В юности член кружка шеллингианцев. Впоследствии идеолог славянофильства, последователь религиозно-философского учения Баадера.
[Закрыть], Погодина и других ранних славянофилов. Этот юноша написал статью довольно «темно и вяло»[660]660
«…темно и вяло» – строка из 6-й главы «Евгения Онегина».
[Закрыть], стараясь уличить Полевого в противоречиях. Об «Онегине» он писал сдержанно и даже несколько свысока, указывая, что рано еще судить о романе по первой главе. Пушкину почему-то понравилась эта статья, быть может, своим важным тоном, не похожим на обычный развязный стиль журналов. А между тем Полевой правильно угадал в «Онегине» черты истинной народности. Идею свою он не очень удачно защищал, но он верно почувствовал, что у поэта есть настоящая реальная связь со всею сложностью народной жизни. Д. В. Веневитинов не соглашался с этим, на что Полевой отвечал ему насмешливо: «Надобно думать, что г. – въ полагает народность русскую в русских черевиках, лаптях и бородах, и тогда только назвал бы “Онегина” народным…»
Но Пушкин снисходительно отнесся к «архивному юноше». Он заявил, что прочел статью Веневитинова «с любовью и вниманием; все остальное – или брань, или переслащенная дичь». Пушкин, по-видимому, почувствовал, несмотря на отвлеченность и туманность статьи Веневитинова, что в ней есть искание какого-то критерия эстетической правды. Юный критик писал: «Не забываем ли мы, что в пиитике[661]661
Пиитика (уст.) – поэтика.
[Закрыть] должно быть основание положительное, что всякая наука положительная заимствует свою силу из философии, что поэзия неразлучна с философией?» Быть может, Пушкин, читая эти строки, припомнил свои беседы с Чаадаевым и согласился с автором, поверив ему в кредит, что у него есть это «положительное» начало. Бедняжка умер двадцати одного года, ничем не доказав, однако, своей мудрости.
В первом издании первой главы «Онегина» после краткого предисловия был напечатан «Разговор книгопродавца, с поэтом»[662]662
«Разговор книгопродавца с поэтом» – стих. написано в 1824 г.
[Закрыть]. В этом лирическом диалоге Пушкин как будто хочет подвести итоги своему поэтическому и жизненному опыту. Для биографа это сущий клад, если под биографией разуметь не только внешнюю летопись событий, но и внутреннюю судьбу поэта. Здесь, в этом диалоге, с достаточной ясностью и точностью ставится вопрос об отношении поэта к «читателю», вопрос, занимавший поэта и позднее, когда он писал в 1827 году своего «Поэта», в 1828-м «Чернь»[663]663
«Чернь» – обычно это стихотворение публикуется под названием «Поэт и толпа».
[Закрыть] и в 1830-м – «Поэту». Итак, объяснять написание, например, стихотворения «Поэту» как ответ той «демократической» критике, которая была враждебна Пушкину в 1830 году, вовсе нет надобности: уже в 1824 году, когда у поэта была репутация гонимого правительством вольнодумца и «демократические» критики восхваляли Пушкина, написан был «Разговор книгопродавца с поэтом», заключавший в себе те же самые идеи, которые впоследствии нашли себе место в пьесах «Поэт», «Чернь» и «Поэту». В сущности, в «Разговоре книгопродавца с поэтом» – две основные темы: первая – вопрос о материальной зависимости поэта в условиях старого порядка; вторая – вопрос, для кого собственно слагает свои песни поэт, кто его читатель. Ответ на первый вопрос дается совершенно точный и трезвый. Пушкин влагает его в уста книгопродавца:
Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет…
Этот книгопродавец, человек, по-видимому, неглупый, принимая во внимание глубокую веру поэта в независимость его творчества, находит убедительный довод в пользу компромисса с действительностью:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать…
Это та самая мысль, которую Пушкин на разные лады повторял в эти годы в разговорах и в письмах к друзьям. Он ясно видел, что вельможный век прошел, что поэт в новых социальных и экономических условиях не может рассчитывать на меценатов. Брату Льву поэт писал: «Я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит за деньги, за деньги, за деньги – таков я в наготе моего цинизма». Через два месяца в письме к Вяземскому он дает точнейшую формулировку той же мысли: «Благо я не принадлежу к нашим писателям 18-го века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола». Пушкин понимал, что материальная сторона поэтического труда равняет его со всяким иным работником. Потому о «стихотворстве» он писал Казначееву в Одессе: «Оно просто мое ремесло».
Второй вопрос, поставленный в «Разговоре книгопродавца с поэтом», куда сложнее. Это вопрос, для кого он поет. Это вопрос о «черни». Как известно, одни толковали это очень грубо и наивно, полагая, что Пушкин разумеет под «чернью» чуть ли не буквально «рабов нужды», но приписывать Пушкину такую пошлость никак невозможно. Другое толкование «черни» как дворянского общества той эпохи ближе к истине, но все-таки не вполне точно, ибо к этому же дворянскому обществу принадлежали и князь Вяземский, и барон Дельвиг, и Баратынский и многие другие друзья и ценители Пушкина. Совершенно очевидно, что под «чернью» Пушкин разумел тех «сердцем хладных скопцов», которые лишены поэтического слуха и требуют от поэта не поэзии, а чего-то другого. Таких глухих немало: это и есть «толпа», случайная толпа, независимо от ее социальной природы. Поэт вспоминает свое первоначальное «вдохновение»:
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И музы сладостных даров,
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой:
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный.
Книгопродавец-искуситель соблазняет тогда поэта славой, но, оказывается, и она не нужна поэту:
Что слава? шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?
И вот, наконец, Мефистофель в маске книгопродавца опять искушает поэта: ему не нужна слава? «Но сердце женщин славы просит: для них пишите…» Но поэт отвечает искусителю:
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих…
Но есть одна, единственная:
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои…
Увы! Эта единственная «отвергла заклинанья»:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей.
Спустя примерно год Пушкин вспомнил, однако, о советах своего Мефистофеля и написал «Желание славы».
Стихотворный «Разговор книгопродавца с поэтом» оканчивается, как известно, прозаическим ответом поэта: «Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся». Переход от стихов к прозе, конечно, не случаен. Пушкин сознательно подчеркнул это:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать…
Так Пушкин осознал себя профессиональным литератором и сделал из этого соответствующие выводы.
IV
В тригорском парке была лужайка с солнечными часами посредине. Если странствующий музыкант заходил в усадьбу, его заставляли играть на этой лужайке. И молодежь под звуки шарманки танцевала. Пушкин тоже танцевал. По вечерам Прасковья Александровна любила играть в вист[664]664
Вист – карточная игра.
[Закрыть] и аккуратно записывала выигрыши и проигрыши: «По висту должен мне Пушкин 1 р. 50 к.; а я ему 20 к. Еще – 1 р. 70 к., а я ему – 10 к.» и т. д.
Пушкин болтал с барышнями, слушал Россини, играл в вист, поддерживал зачем-то любовные иллюзии стареющей, но неуемной Прасковьи Александровны, целовался в парке то с одной, то с другою из тригорских девиц, а демон беспокойства и жажды перемен внушал ему мечты о бегстве за границу. Ему скучно, очень скучно, а между тем он ведет оживленную переписку с Вяземским, Бестужевым, Рылеевым. Последнего он встречал в Петербурге, но никогда с ним близок не был. Теперь они на «ты». Рылеев и Бестужев редактируют альманах «Полярная звезда». Они интересуются политикою едва ли не больше, чем литературой. Пушкин уважает их цели, но ему кажется, что плохими стихами поэты оказывают своей идее медвежью услугу. Его суждения о поэзии необыкновенно метки и точны. Его не собьешь. Он сознает ясно свою несоизмеримость с современниками. Он вежлив, благосклонен и даже любезен. Он готов отдать должное каждой поэтической удаче, но он знает себе цену. Его мнение о творчестве Рылеева, быть может, не совсем точно переданное И. И. Пущиным, показалось редакторам «Полярной звезды» даже льстивым. Бестужев написал об этом Пушкину. Поэт отвечал: «Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? Мнение свое о его «Думах»[665]665
«Думы» – произведения К. Ф. Рылеева на исторические темы, обладающие гражданским пафосом. Печатались в журналах и альманахах с 1821 г. Отдельным изданием вышли в 1825 г. Наиболее известны – «Курбский», «Смерть Ермака».
[Закрыть] я сказал вслух и ясно, о поэмах его также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своею дорогою. Он в душе поэт…»
Нет, Пушкину вовсе не нравятся эти наивные идеализации русской старины и дидактические мысли, облеченные в стихи, лишенные оригинальности и смелости. Самое название «Думы», очевидно, происходит от немецкого слова dumm[666]666
Dumm (нем.) – глупый.
[Закрыть]. Во избежание всяких недоразумений в конце мая 1825 года Пушкин написал самому Рылееву свое откровенное мнение об этих его «Думах»: «Все они на один покрой: составлены из общих мест (loci topici). Описание места действия, речь героя и – нравоучение…»
Пушкин ревниво и строго защищает независимость поэзии. Дело тут не в политических тенденциях, а в посягательствах на автономность искусства вообще. Жуковский не политиканствует, как Рылеев; однако и он требует от пушкинских стихов чего-то, не имеющего отношения к поэзии: «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих «Цыган»! Но, милый друг, какая цель? Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое? Как жаль, что мы розно!»
Это сомнение Жуковского в идейной и нравственной ценности «Цыган» довольно забавно. Сентиментальный поэт, никогда не грешивший ни глубиною, ни высотою идей, укоряет Пушкина в безыдейности. Вот каковы были читатели Пушкина в двадцатых годах. А Жуковский был едва ли не самым верным и самым серьезным его ценителем.
Что было ответить Пушкину на упрек Жуковского? Не объяснять же, в самом деле, этому взрослому ребенку прозой то, что сказано так лапидарно и точно в стихах. Пушкин предпочел улыбнуться: «Ты спрашиваешь, какая цель у «Цыганов»? Вот на! Цель поэзии поэзия, как говорит Дельвиг (если не украл этого). «Думы» Рылеева и целят, а всё невпопад».
В апреле в Михайловское приехал Дельвиг. По обыкновению, при встрече поэты поцеловали друг у друга руки. Пушкин наслаждался обществом своего ленивого приятеля. Но Дельвиг слишком много спал. И его так трудно было разбудить. Днем они обсуждали вместе собрание стихов, подготовлявшееся Пушкиным к печати. Они понимали друг друга с полуслова. У них не было идейных разногласий, потому что Дельвиг вообще боялся всяких идей, зато он понимал толк в точности эпитетов, в игре метафор[667]667
Метафора – троп, перенесение свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака, общего или сходного для обоих сопоставляемых членов.
[Закрыть], в музыке удачных аллитераций[668]668
Аллитерация – повторение однородных согласных, придающее литературному тексту, обычно стиху, особую звуковую и интонационную выразительность.
[Закрыть]. Они оба знали интимнейшие секреты поэтического мастерства. У Дельвига было чутье. Недаром еще мальчиком-лицеистом он напечатал в «Российском музеуме» свое стихотворение «Кто, как лебедь цветущей Авзонии…»[669]669
«Кто, как лебедь цветущей Авзонии…» – первая строка стих. А. Дельвига «Пушкину» (1815). Имело подзаголовок «Торацианская ода». Авзония – метафора поэтического дарования. Авзонийским лебедем называли Горация.
[Закрыть]. В этой пьесе славил он гений Пушкина:
Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдает его громким пением.
И от смертных восхити! Бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.
И это было напечатано тогда, когда публика знала только Василия Львовича Пушкина, а об Александре Пушкине никто ничего не знал! Разве не великая честь выпала на долю барона Дельвига провозгласить гением отрока Пушкина, угадать в нем его удивительное будущее? Они любили друг друга. У них были общие вкусы. Впрочем, Дельвиг иногда капризничал. Так, ему вдруг понравился отрывок из поэмы Рылеева «Наливайко»[670]670
«Наливайко» – неоконченная поэма Рылеева (1823), посвящена Северину Наливайко, руководителю казацко-крестьянского восстания 1594–1596 гг. на Украине и в Белоруссии, казненному в Варшаве.
[Закрыть], только что появившийся тогда в «Полярной звезде». «Как я был рад баронову приезду, – писал Пушкин брату. – Он очень мил! Наши барышни все в него влюбились – а он равнодушен, как колода, любит лежать на постеле, восхищаясь Чигиринским старостою…» Это и был тот самый отрывок поэмы Рылеева, который понравился почему-то Антону Антоновичу. К вечеру приятели уходили в Тригорское. Там Дельвиг писал стихи в альбомы Прасковье Александровне и девицам. Все им восхищались, но поэт был рассеян и равнодушен. Он мечтал о чем-то ином.
26 апреля Дельвиг уехал из Михайловского. Пушкин послал с ним письмо брату Левушке, где, между прочим, писал: «Кстати: зачем ты не хотел отвечать на письма Дельвига. Он человек достойный во всех отношениях и не чета нашей литературной С. П. Бургской сволочи…»
Осенью, сочиняя свою очередную пьесу по случаю лицейской годовщины, Пушкин посвятил две строфы Дельвигу:
С младенчества дух песен в нас играл,
И дивное волненье мы познали…
Еще в декабре прошлого года (1824) Пушкин написал А. Г. Родзянке письмо, где очень нескромно упоминал об Анне Петровне Керн, которая когда-то пленила его на вечере у Олениных. Он знал, что Родзянко любовник Анны Петровны, что эта прелестница покинула своего мужа и ее положение стало двусмысленным. Ни Родзянко, ни сама Анна Петровна ничуть не обиделись на вольные намеки Пушкина… «Объясни мне, милый, что такое А.П. К…, которая написала много нежностей обо мне своей кузине[671]671
…своей кузине – Анне Николаевне Вульф.
[Закрыть]? – писал, между прочим, Пушкин. – Говорят, она премиленькая вещь – но славны Лубны за горами…[672]672
Славны Дубны – переделка пословицы «Славны бубны за горами» (означающей: там хорошо, где нас нет). Лубны – место в Полтавской губернии, где находилось имение Полторацкого, отца Л. Керн.
[Закрыть]» (Родзянко жил в Лубнах). На это послание пришел ответ в той же вольной манере. Рукописание Родзянко прерывается строчками, написанными рукою Анны Петровны. Родзянко не стесняется посвящать Пушкина в свои любовные тайны. Он шутя жалуется на Анну Петровну: «Вот теперь вздумала мириться с Ермолаем Федоровичем[673]673
Керн Ермолай Федорович (1765–1841) – генерал, муж А. Керн.
[Закрыть]: снова пришло давно остывшее желание иметь законных детей, и я пропал. Тогда можно было извиниться молодостью и неопытностью, а теперь чем? Ради бога, будь посредником». Легкомысленная Анна Петровна не обижалась на эти циничные строки.
Однажды в середине июня, когда в Тригорском обедали, появился Пушкин. Он пришел, по обыкновению, со своею толстою палкою в сопровождении двух больших собак. Прасковья Александровна представила поэта прелестной даме, которая только что приехала в Тригорское. Это и была Анна Петровна Керн, племянница Осиповой, кузина тригорских барышень. «Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость видна была в его движениях, – рассказывает сама Керн в своих воспоминаниях. – Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы нескоро познакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться: он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, – и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: Ai-je ete assez vulgaire aujourd’hui? («Был ли я сегодня достаточно вульгарен?» (фр.) Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его…»
Его, Пушкина, могли занять и развеселить неожиданные вещи. Кто-то прислал ему охотничий рог на бронзовой цепочке, и Пушкин забавлялся им, как ребенок, восхищаясь его отделкою. Иногда он становился словоохотливым и однажды рассказал целую историю про петербургского черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. В один прекрасный день поэт явился в Тригорское с большою тетрадью в черном переплете, где у него были переписаны «Цыганы». Все окружили Пушкина, и он прочел свою поэму. Анна Петровна была в упоении от музыки этих стихов. Чтение Пушкина очаровало ее. «Он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах»:
И голос шуму вод подобный.
Через несколько дней Прасковья Александровна предложила ехать всем в Михайловское. Была луна. Июньские поля благоухали. Пушкин был весел и скромен. Он не называл луну глупой[674]674
Он не называл луну глупой. – Намек на слова Онегина во 2-й главе «Евгения Онегина»: «Как эта глупая луна на этом глупом небосклоне».
[Закрыть]. Он говорил: «J’aime la lune quand elle eclaire un beau visage…» («Я люблю, когда луна освещает прекрасное лицо» (фр.). Анна Петровна вспоминала, какими влюбленными глазами смотрел на нее Пушкин в доме Олениных в 1819 году, шесть лет тому назад. Она уехала тогда с кузеном Полторацким, а поэт стоял на крыльце и смотрел на ускользающую от него очаровательницу. Когда приехали в Михайловское, все пошли в парк, не заходя в дом. Парк был запущен. Корни старых деревьев вились по дорожкам, как змеи. Анна Петровна спотыкалась на эти корни, и Пушкин ее поддерживал. Он напомнил ей об их первой встрече. «У вас был такой девственный вид, – кажется, на вас было надето что-то вроде креста?..»
В Тригорском Анна Петровна спела Пушкину романс на слова Козлова «Ночь весенняя дышала…»[675]675
«Ночь весенняя дышала» – первая строка стих. И. Козлова «Венецианская ночь. Фантазия» (1825).
[Закрыть].
Наконец пришло время разлуки. В день отъезда утром пришел Пушкин и принес на прощание экземпляр второй главы «Онегина». Между страниц вложен был почтовый лист бумаги со стихами «Я помню чудное мгновенье…».
Когда Анна Петровна прятала в шкатулку подарок поэта, Пушкин судорожно выхватил листок и не хотел возвращать. Анна Петровна с трудом уговорила его вернуть ей стихи.
Таковы были встречи Пушкина с Анною Петровною Керн, по ее воспоминаниям. Но, кажется, она умолчала кое о чем. Это видно из писем Пушкина к ней. Она не решилась их уничтожить по примеру других красавиц, дороживших своею репутацией более, чем она. Пушкин, правда, не успел тогда, в Опочском уезде, добиться от Анны Петровны прямых доказательств ее благосклонности, но отношения Пушкина к ней не были такими невинными и сентиментальными, как это представлялось воображению прелестной дамы. Это прекрасно видела Прасковья Александровна. С решительностью, ей свойственной, она немедленно увезла к мужу, генералу Керну, в Ригу Анну Петровну, а кстати прихватила с собою и свою дочку, Анну Николаевну, которая изнемогала от любви к поэту. Этот внезапный отъезд случился 19 июля. Студент Вульф сел в карету с сестрою и Анною Петровною, за которою он ухаживал, соперничая с поэтом. Повторилась сцена, которую Пушкин видел в 1819 году на крыльце дома Олениных. Пушкин ревновал. В легкомысленном и небрежном письме к Анне Николаевне Вульф он посвящает Анне Петровне несколько страстных и гневных строк. Влюблен ли он в нее? О нет! Если бы он был влюблен, то в день отъезда, когда кузен поехал вместе с Керн, с ним, Пушкиным, сделались бы конвульсии от бешенства и ревности. Он был только уязвлен. Но для него невыносима ужасная мысль, что он успел возбудить ее любопытство и не более того. Как! Она будет сейчас смотреть на какого-нибудь рижского фата своими прелестными глазами с этим сладострастным выражением, раздирающим сердце! Пушкин как будто противоречит себе; он только что отрицал, что он влюблен. Но эти «противоречия» – психологический прием донжуана; это наилучший способ уверить даму в страстной любви. Трудно определить меру искренности Пушкина; несомненно, только одно, что он в ревнивой досаде негодует на судьбу, которая отняла у него такую «премиленькую вещь», как мадам Керн. Через три-четыре дня он послал ей страстное письмо с объяснением в любви. В это время его счастливый соперник, пошловатый Алексей Вульф, уже добился ее взаимности, не тратя душевных сил, как Пушкин. Впрочем, ему и нечего было тратить. Едва ли он обладал ими.
«Тысячу нежных приветствий Ермолаю Федоровичу и мой поклон господину Вульфу», – с горьким сарказмом пишет Пушкин. Но через три недели снова берется за перо, потому что она ему прислала письмо. Он в восторге. «Я перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: милая! прелесть! божественная!.. И потом: ах, мерзкая! – Простите, прекрасная и нежная, но это так!..»
Письмо длинное. Всего он послал шесть писем – последнее 8 декабря 1825 года. В биографии иного жанра можно им уделить много места, а также рассказу о том, как Прасковья Александровна получила и присвоила себе письмо, предназначенное для Анны Петровны. Женщины поссорились. К сожалению, у нас нет таких богатых материалов для характеристики других, более значительных романов Пушкина. В любовной истории с мадам Керн преобладала все-таки сладострастная мечта над иными душевными движениями. И не столько сама Анна Петровна, вовсе не скупая в любви, сколько неудачно сложившиеся обстоятельства разлучили с нею Пушкина. Впрочем, если бы сближение с Анной Петровной произошло в 1825 году, все равно Пушкин, наверное, быстро охладел бы к своей любовнице, как это и случилось в 1828 году, когда он сообщал цинично С. А. Соболевскому о своей запоздавшей победе над сердцем когда-то ему желанной женщины. Грубостью признания Пушкин как будто мстит своему прошлому увлечению. Пушкин слишком поздно встретил Керн: наивная и сентиментальная, она была развращена старым мужем, бесстыдником Родзянко, холодным циником Алексеем Вульфом, а позднее и другими. У Пушкина едва ли хватило бы великодушия простить женщине ее прошлое и соединить с нею свою судьбу, как это сделал некий А. В. Марков-Виноградский[676]676
Марков-Виноградский Александр Васильевич (1820–1879) – второй муж А. Керн (с 1841 г.). В этом браке у супругов родился сын Александр.
[Закрыть], женившийся в сороковых годах на овдовевшей Анне Петровне, которая была значительно старше его. Они жили счастливые и умерли в один год, когда Анне Петровне было уже семьдесят девять лет.
V
Пушкин мечтал о ножках Анны Керн, готовился к побегу за границу, продолжал вести любовные интриги с тригорскими барышнями, писал шутливые и серьезные письма друзьям – и в то же время усердно работал над своим «Борисом Годуновым». Поэтика драмы занимала его чрезвычайно. Он читал Шлегеля[677]677
Шлегель Август Вильгельм (1767–1845) – немецкий историк литературы, критик, поэт, переводчик.
[Закрыть], его курс драматической литературы. Но у него не было собеседников на эту тему. Николай Раевский, правда, прислал ему дельное письмо в ответ на сообщение о подготовлявшейся исторической комедии в стихах, но он не понимал, почему Пушкин решил писать белыми стихами. Не лучше ли воспользоваться рифмою и разнообразными размерами? Раевский не предвидел, как неожиданно и победно зазвучит у Пушкина его пятистопный ямб. В недоумении Раевского нет ничего удивительного, потому что сам поэт в поисках новой формы для драматических диалогов не сразу ее нашел: в «Борисе Годунове» при всем блеске и точности стиха есть еще один недостаток, сделавший его несколько монотонным и связанным: неподвижная цезура[678]678
Цезура – постоянный словораздел (пауза) в стихах.
[Закрыть] на второй стопе пентаметра[679]679
Пентаметр – дактилический стих, образующийся при удвоении первого полустишия гекзаметра.
[Закрыть] ошибка, которую позднее признал сам Пушкин и уже не повторил ее в своих гениальных «маленьких» трагедиях. Николай Раевский писал Пушкину: «Ты сообщишь диалогу движение…», «Ты довершишь водворение у нас простой и естественной речи, которой наша публика еще не понимает…», «Ты сведешь, наконец, поэзию с ее ходуль…». Все эти соображения Раевского были справедливы, но Пушкина интересовала не только формальная сторона его нового труда. «Я чувствую, – писал он Раевскому, – что душа моя совсем развернулась – я могу творить».
Это сознание Пушкина, что он совершает некий художественный подвиг, знаменательно. В самом деле, в 1825 году в глуши русской провинции, в селе Михайловском Опочского уезда, было создано мировое произведение. Это было первое монументальное творение на русском языке. По заключенной в нем поэтической энергии ничего равного в русской литературе до того времени не было. «Трагедия моя кончена, – писал Пушкин Вяземскому, – я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын!..» Дата последней беловой рукописи трагедии – 7 ноября 1825 года. Историки литературы отмечают совпадения некоторых мотивов пушкинской трагедии с «Генрихом IV» и «Макбетом» Шекспира[680]680
«Генрих IV» – написан в 1597–1598 гг., «Макбет» – в 1606 г.
[Закрыть], иные видят в ней драматические элементы, напоминающие кое-что еще, но биографа интересуют не литературные реминисценции и влияния, а сама жизнь, которая внушила поэту эту вольную и, как он сам думал, романтическую трагедию. За видимой объективностью в изложении событий и в характеристике действующих лиц таилась страстная душа автора, готовая, как эхо, откликаться на все впечатления бытия. Он сам намекает, что иные исторические характеры изображены им под влиянием того или иного жизненного опыта. «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова[681]681
Орлова Катерина – см. Раевская Екатерина Николаевна.
[Закрыть]! Знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому», – писал Пушкин Вяземскому в середине сентября 1825 года, а месяца через полтора в письме к нему же повторил свое признание, но в такой нескромной форме, что процитировать его никак нельзя. Вероятно, были прототипы и для других персонажей трагедии. Да и сама тема цареубийства подсказана не только летописями и историей Карамзина, но и судьбою Александра I, поднявшегося на трон по ступеням, обагренным кровью. Как ни тщательно замаскирована эта историческая аналогия, но психологический мотив нравственных страданий царя, изнемогающего от укоров совести, остается в полной силе. Наконец, превратность исторических судеб, непрочность монархической власти, зависимость ее от преобладания тех или иных социальных сил – это все тема, связанная непосредственно с темою тайного общества, о существовании которого знал Пушкин. Если бы не было у него встреч с будущими декабристами, споров в кишиневском доме М. Ф. Орлова, где в них принимала участие и «славная баба» Катерина Николаевна; если бы он не участвовал в «демагогических» разговорах в Каменке, не догадывался о заговоре и о подготовлявшемся цареубийстве, Пушкин не написал бы «Бориса Годунова». Но большинство современников не поняли и не оценили «Бориса Годунова», как это предсказывал Н. Н. Раевский.
«Борис Годунов» был почти окончен, когда Пушкин узнал, что в село Лямоново к опочскому предводителю дворянства А. Н. Пещурову приехал его родственник[682]682
…его родственник… – А. М. Горчаков приходился А. Н. Пещурову племянником.
[Закрыть], князь А. М. Горчаков. Этот лицейский товарищ Пушкина делал блестящую дипломатическую карьеру; он в это время исполнял обязанности первого секретаря русского посольства в Лондоне и сейчас ехал в отпуск из Спа, где он лечился. Пушкин забыл о том, как он обидел в своем послании[683]683
…в своем послании… – Имеется в виду «Послание к кн. Горчакову» (1819), которое Чулков цитирует неточно. У Пушкина: «изношенных глупцов», «приятный льстец, язвительный болтун».
[Закрыть] Горчакова, назвав светских его друзей «украшенными глупцами, святыми невеждами и почетными подлецами», да и самого его – «язвительным болтуном» и «приятным лжецом». Пушкин забыл об этом и решил навестить товарища, который, приехав к дядюшке, слег в постель. Легко себе представить эту встречу поэта и молодого, но уже солидного карьериста. Горчаков был достаточно образован, чтобы понимать права Пушкина на уважение и признание. Он еще в лицее был самым прилежным переписчиком его стихов, но вместе с тем блестящий дипломат не мог побороть в себе известного высокомерия к коллежскому секретарю, опальному неудачнику, не сумевшему обеспечить себе независимость и достойное положение в обществе. Горчаков был достаточно тонок, чтобы не подчеркивать этого своего житейского превосходства, но, очевидно, Пушкин догадался, в чем дело. «Горчаков доставит тебе мое письмо, – писал Пушкин Вяземскому. – Мы встретились и расстались довольно холодно – по крайней мере с моей стороны. Он ужасно высох – впрочем, так и должно быть: зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше. От нечего делать я прочел ему несколько сцен из моей комедии…»
Впоследствии Горчаков, любивший щеголять остротами и «словечками», говорил, что Пушкин читал ему свои произведения, как Мольер своей кухарке. Однако тут же он дал понять, что Пушкин слушался будто бы иных его советов. Вероятно, при свидании у Пещурова самонадеянный князь как-нибудь неосторожно вышел из скромной роли мольеровской кухарки, и это раздражило Пушкина. Но добродушный поэт в пьесе «19 октября» опять вспомнил об этой встрече без гнева:
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Летом 1826 года у Пушкина была еще одна встреча, которую нельзя не отметить. Это встреча с двадцатитрехлетним поэтом Николаем Михайловичем Языковым[684]684
Языков Николай Михайлович (1803–1845) – поэт, создатель элегий, посланий, стихов и песен на исторические темы.
[Закрыть], товарищем А. Н. Вульфа по Дерптскому университету. Пушкин со свойственной ему благожелательностью, познакомившись со стихами Языкова, признал и хвалил их и, кажется, очень хотел познакомиться с юным поэтом. Но этот юный поэт долго упрямился и не ехал в Опочский уезд, а в письмах к брату отзывается о стихах Пушкина со смешным высокомерием. Даже стихи «Бахчисарайского фонтана» кажутся ему вялыми и невыразительными… Забавны его отзывы и об «Онегине»: «Онегин мне очень, очень не понравился; думаю, что это самое худое из произведений Пушкина…» Однако шесть недель, проведенных в деревне в обществе поэта, повлияли на Языкова. Он был побежден блеском его ума и благородством сердца. Позднее он опять ворчал и на «Сказки» Пушкина, и на «Повести Белкина»[685]685
…ворчал и на «Сказки» и на «Повести Белкина»… – Языков к творчеству Пушкина относился скептически, отвергая его поэзию с позиции романтического метода. Положительно оценивал только «Арапа Петра Великого», «Бориса Годунова», отчасти «Полтаву».
[Закрыть], но там, в Тригорском, он был в плену пушкинской музы. А Пушкин, не подозревая в Языкове ни зависти, ни задних мыслей, послал ему, еще не будучи с ним знаком, осенью 1824 года послание «Издревле сладостный союз…» – шедевр этого жанра. А когда Языков уже после жизни в Тригорском написал Пушкину стихи «О ты, чья дружба мне дороже…»[686]686
«О ты, чья дружба мне дороже…» – первая строка послания «А. С. Пушкину» (1826).
[Закрыть], где воспевает вино, «плоды сладостной Мессины[687]687
Мессина – город и порт на о. Сицилия.
[Закрыть]» и «стаканы-исполины», а о самом поэте наивно говорит как о равном ему товарище по ремеслу, Пушкин, ничуть не обидевшись, послал ему вторую пьесу «Языков! Кто тебе внушил твое посланье удалое?»[688]688
«Языков, кто тебе внушил…» – первая строка послания «К Языкову» (1826).
[Закрыть] – стихи, которые неизмеримо лучше, точнее и смелее выражают хмельную тему трезвого Языкова.
В середине декабря 1825 года в два утра была написана Пушкиным повесть в стихах «Граф Нулин». Сам поэт признается в одной из своих заметок, что поводом для написания этой шутливой повести в жанре «Беппо» послужило чтение поэмы Шекспира «Лукреция»[689]689
«Лукреция» – поэма У. Шекспира «Обесчещенная Лукреция» (1594).
[Закрыть]. Первоначально Пушкин хотел пародировать античный сюжет, но дело было не в пародии, а в изумительном реализме этого анекдота. Когда повесть была напечатана в 1828 году, критики (особенно Надеждин[690]690
Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – журналист, литературный критик, издатель журнала «Телескоп» (1831–1836).
[Закрыть] в «Вестнике Европы») возмущались «низким стилем» и нескромностью повествования. А между тем «Граф Нулин» (так же как и четвертая и пятая главы «Онегина», над которыми тогда Пушкин работал) был победой реализма. Нам сейчас трудно себе представить тогдашнее впечатление читателей от новизны пушкинского повествования. В «Графе Нулине», так же как в «Онегине», средняя помещичья усадьба с ее дворянским бытом и крепостным укладом предстала во всей своей ничем не прикрытой наготе. Пушкин не польстил этой усадьбе. Он как будто добродушно, а на самом деле беспощадно высмеял ее.









































