Текст книги "Жизнь Пушкина"
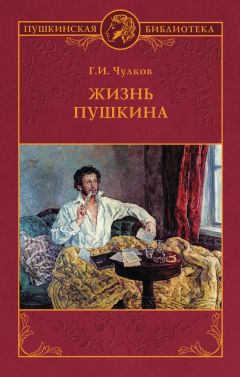
Автор книги: Георгий Чулков
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Иные думают, что поводом для последнего страшного письма Геккерену послужило как раз это тайное свидание Дантеса с Натальей Николаевной, но, кажется, повод был другой. Арапова уверяет, что Пушкин узнал об этом свидании из нового анонимного письма, автор которого открыл поэту секрет Натальи Николаевны, но, не говоря уже о малой достоверности самого факта свидания, приходится считаться с убеждением самого Пушкина, что главный враг вовсе не Дантес. Нет, поэт не забыл жестокого и подлого намека анонимного пасквиля. Ложное положение Пушкина в отношениях с царем оставалось таким же. Канкрин, между прочим, отверг предложение Пушкина погасить имением его долг казне. Над поэтом по-прежнему тяготели царские «милости». Он по-прежнему был камер-юнкером, как Иосиф Борх, и мужем красавицы, благосклонности коей добивается царь. Ему по-прежнему угрожала репутация «заместителя» рогоносца Нарышкина.
Дерзкие ухаживания Дантеса – одна из многочисленных провокаций кружка Геккерена – Нессельроде. За этими «адскими интригами», как выражались загадочно друзья Пушкина, скрывался недосягаемый претендент на честь Натальи Николаевны.
Его настойчиво искал Пушкин. Свидание с царем 23 ноября в присутствии Бенкендорфа ничего не выяснило. Только 25 января удалось Пушкину встретиться еще раз со своим коронованным соперником. В своих воспоминаниях барон М. А. Корф приводит рассказ самого императора об этой роковой встрече. Вот что говорил царь о Пушкине: «Под конец его жизни, встречаясь очень часто с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе, я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастья мужа, при известной его ревности. Она, верно, рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мною, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты мог ожидать от меня другого?» – спросил я его. «Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женою…» Зачем царю понадобилось сообщать барону Корфу такой странный разговор с поэтом? Не потому ли, что он чувствовал потребность как-то объясниться и оправдаться, сознавая, что в глазах современников и в глазах будущих поколений он замешан в деле убийства поэта. Свое сообщение царь изложил довольно хитро, но не очень правдоподобно. Николай Павлович Романов в роли добродетельного духовника, оберегающего честь Пушкина, не внушает к себе ни малейшего доверия. Ответ поэта – прямой вызов царю. Только Пушкин мог решиться на такую опасную откровенность. Да, он, Пушкин, мог ожидать от царя чего угодно, только не «добрых советов» Наталье Николаевне. Пушкин совершенно откровенен. «Я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женою…» Иными словами: «Не хотите ли вы, государь, навязать мне роль заместителя Нарышкина? Берегитесь! Хотя вы и самодержавный владыка, но я скорее умру, чем позволю вам посягать на мою честь…» Николай Павлович был человек неглупый и, конечно, прекрасно понял смысл пушкинской откровенности. Недаром спустя одиннадцать лет он все еще помнил гордые слова поэта.
Несомненно, что это свидание имело решающее значение. Теперь Пушкин не колебался. На другой же день после свидания с царем он послал Геккерену свое знаменитое письмо, не считаясь вовсе с волею царя. Граф В. А. Соллогуб, сам аристократ, которого никак нельзя заподозрить в тенденциозном освещении тогдашнего события, высказал в своих воспоминаниях верную мысль о судьбе Пушкина: «Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом…» Соллогуб правильно угадал, что Пушкин вел борьбу не с кавалергардом Дантесом, а с привилегированными интриганами, которые ненавидели его, как только может ненавидеть гения светская «чернь».
VI
Вот что Пушкин писал барону Луи Геккерену 26 января 1837 года: «Господин барон! Позвольте подвести итоги тому, что произошло. Поведение вашего сына мне давно было известно, и я не мог относиться к этому безразлично. Я ограничивался ролью наблюдателя, но я был всегда готов вмешаться в это дело, когда сочту нужным. Случай, который в иное время мог мне показаться очень неприятным, вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. Я увидел, что наступило подходящее время, и воспользовался этим. Остальное вам известно. Я заставил вашего сына играть такую жалкую роль, что моя жена, удивленная такою низостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и чувство, которое у нее, быть может, было в виду этой великой и возвышенной страсти, угасло в самом спокойном презрении и в отвращении, вполне заслуженном. Я должен признаться, господин барон, что ваша роль в этом деле была не совсем пристойной. Вы, представитель коронованной особы, отечески сводничали вашему сыну. Вы, по-видимому, руководили всем его поведением (впрочем, довольно неискусным). Это вы, вероятно, внушали ему жалкие россказни, которые он расточал, и глупости, которые он писал. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы ей говорить о любви вашего, с позволения сказать, выблядка (batard); и когда, больной венерической болезнью, он вынужден был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: отдайте мне моего сына. Вы понимаете, господин барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела хотя бы малейшую связь с вашей. Только под этим условием я согласился оставить без последствий это грязное дело и не обесчестить вас в глазах нашего и вашего двора, как я того хотел и на что имел право. Я не хочу, чтобы моя жена выслушивала ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего гнусного поведения осмелился обращаться к моей жене и тем более расточал перед нею казарменные каламбуры и разыгрывал из себя жертву несчастной страсти, тогда как он всего лишь трус и негодяй. Итак, я вынужден обратиться к вам с просьбой положить конец всем этим проделкам (mettre fin a tout се manege), если вы хотите избежать нового скандала, перед которым я не отступлю…»
Геккерен получил это письмо 25 января днем, когда он собирался ехать на обед к графу Г. А. Строганову[1210]1210
Строганов Григорий Александрович (1770–1857) – граф, дипломат, двоюродный дядя Н. Н. Пушкиной. Посланник в Испании, Швеции и Турции, член Верховного суда над декабристами, член Государственного совета.
[Закрыть], который приходился двоюродным дядей Наталье Николаевне. Этот бывший посланник при испанском дворе считался в свое время большим донжуаном и знатоком кодекса чести. Геккерен решил с ним посоветоваться. Граф Строганов сказал, что неслыханные оскорбления обязывают к дуэли. Драться должен Дантес, так как Геккерен лишен этой возможности по своему положению посланника. В тот же день к вечеру д’Аршиак вручил Пушкину письмо Геккерена и сообщил о вызове Дантеса. Пушкин принял вызов. Но надо было позаботиться о секунданте, а Соллогуба в Петербурге не было, и Пушкин недоумевал, кого пригласить, потому что боялся каких-нибудь новых отсрочек и препятствий для поединка. Д’Аршиак ждал свидания с секундантом Пушкина после одиннадцати часов вечера на балу у графа Разумовского[1211]1211
Разумовский – ошибка Чулкова, так как 26 января 1837 г. был бал у Марии Григорьевны Разумовской (1772–1865, урожд. Вяземской) – статс-дамы. Ее муж генерал-майор Лев Кириллович Разумовский умер в 1818 г.
[Закрыть]. Пушкин надеялся встретить там Артура Меджниса[1212]1212
Меджнис Артур Чарльз (1801–1867) – советник английского посольства в Петербурге, впоследствии посол Великобритании в Португалии.
[Закрыть], «долгоносого англичанина», прозванного perroquet malade (больным попугаем), человека очень порядочного, одного из секретарей великобританского посольства. Поэт пригласил его быть секундантом на поединке. Тот согласился переговорить с д’Аршиаком в надежде уладить дело мирно, но из этой наивной попытки ничего не вышло, и он в два часа ночи прислал Пушкину письмо с отказом от роли секунданта. А между тем в десять часов утра д’Аршиак прислал письмо, требуя назначить время для скорейших переговоров с секундантом Пушкина. В досаде на неудачно сложившиеся обстоятельства Пушкин ответил д’Аршиаку, что он предлагает противнику самому выбирать второго секунданта, а ему, Пушкину, все равно, кто это будет, хотя бы егерь (chasseur). По нашим русским обычаям этого достаточно… Этот высокомерный и саркастический тон был оскорбителен и для Дантеса, и для его секунданта, а само предложение Пушкина явно нарушало дуэльный кодекс. Но поэту было не до формальностей. Он только горел нетерпением покончить так или иначе с ничтожным противником, чтобы предпринимать что-то иное, более важное, им задуманное. Д’Аршиак, обиженный иронией поэта, немедленно ответил, что секунданта Пушкин обязан выбрать сам, если он не отказывается от дуэли. Но к моменту получения этой записки от француза у Пушкина был уже секундант. Это был Константин Карлович Данзас, подполковник инженерной команды, лицейский товарищ Пушкина, человек морально безупречный и верный приятель поэта. Кажется, он случайно зашел к Пушкину в это утро, но к двенадцати часам дня дело уже было улажено. Письмо д’Аршиака было уже лишним. В час дня Пушкин вместе с Данзасом были во французском посольстве. Здесь, в присутствии д’Аршиака, Пушкин посвятил Данзаса в историю вызова и прочел копию своего письма Геккерену. Потом он уехал, оставив секундантов для выяснения условий поединка. Условия были такие: противники начинают сходиться с интервала в двадцать шагов; барьер равен десяти шагам: время поединка пятый час дня; место – за Комендантской дачей…
В четыре часа Пушкин и Данзас встретились в кондитерской Вольфа[1213]1213
Вольф С. – владелец вместе с Т. Беранже кафе-кондитерской на Невском проспекте.
[Закрыть]. Оттуда они поехали в санях к Троицкому мосту.
VII
Друзья и знакомые, видевшие Пушкина в последние два дня накануне поединка, свидетельствуют в один голос, что Пушкин был бодр и спокоен. О возможной дуэли знали три лица – Александра Николаевна Гончарова, Евпраксия Николаевна Вревская, которая в эти дни жила в Петербурге у своей сестры А. Н. Вульф, и, наконец, княгиня В. Ф. Вяземская. Александрина, обожавшая поэта, хранила тайну, потому что, очевидно, того хотел Пушкин. Евпраксия Николаевна была чужой человек для друзей Пушкина. А Вера Федоровна узнала о дуэли слишком поздно, когда предотвратить ее не было никакой возможности.
Пушкин ничем не обнаруживал своего волнения. Послав письмо Геккерену, он как будто сбросил с себя тяжесть, которую влачил с 21 ноября, когда он сочинил первый проект письма. Утром 27 января, когда не ладились дела с секундантом и д’Аршиак посылал поэту свои настойчивые записки, Пушкин все-таки казался окружающим совершенно спокойным. В день дуэли поэт встал в восемь часов утра, ходил по кабинету и что-то весело напевал. В это утро он работал над материалами по истории Петра I[1214]1214
…по истории Петра. – Поэт делал выписки из сочинения историка Ивана Ивановича Голикова (1735–1801) «Деяния Петра Великого» в 30 томах (М., 1790–1797).
[Закрыть], занимался делами «Современника» и успел написать письмо А. О. Ишимовой[1215]1215
Ишимова Александра Осиповна (1804–1881) – детская писательница, в 1830-х гг. занималась переводами. Ряд ее переводов появился в «Современнике» уже после смерти Пушкина (1837. № 3).
[Закрыть]. Он поручал ей перевести для журнала некоторые пьесы Барри Корнуолла[1216]1216
Корнуолл Барри (наст. имя Брайан Уоллер Проктер, 1787–1874) – английский поэт и драматург.
[Закрыть]. Это было последнее письмо поэта.
Дуэль с Дантесом была не первая в жизни Пушкина. Он не раз стоял под пулями, сохраняя спокойствие. Но те поединки были в годы беззаботной юности, а теперь у него была жена, четверо детей и сложные отношения с людьми, ненавистными и любимыми. А главное, лет пятнадцать назад жизнь казалась легкой игрою и как-то не хотелось верить, что человек несет какую-то ответственность за свой жизненный путь. Теперь не то. Пушкин сознает эту ответственность. Пушкин знает также, что «на свете счастья нет, но есть покой и воля»[1217]1217
«…на свете счастья нет, но есть покой и воля», «усталый раб»… – Из стих. «Пора, мой друг, пора…» (1834).
[Закрыть], но для него нет ни счастья, ни покоя, ни воли… «Усталый раб» напрасно замыслил побег. Его стерегут какие-то люди, темные и злые. Нет исхода. Но Пушкин не был человеком малодушным. Надо мужественно смотреть в глаза судьбе. Он чувствовал себя как на войне – солдатом. Никаких сентиментальных мыслей и сердечных угрызений у него не было. Он думал, что поставлен в такие условия, когда нужно драться, и он со всею страстностью, ему свойственной, готов был к бою. Ему казалось, что если он убьет врага на поединке, то это доставит ему удовлетворение.
В начале пятого часа он и Данзас ехали по Дворцовой набережной. Им повстречалась в экипаже Наталья Николаевна, но Пушкин смотрел в другую сторону и не видел жену. В эти дни как раз были устроены для великосветской публики катанья с гор, и многие возвращались оттуда. Навстречу Пушкину ехал знакомый конногвардеец[1218]1218
…знакомый конногвардеец… – Владимир Дмитриевич Голицын (1815–1881) – корнет лейб-гвардии Конного полка, впоследствии генерал-лейтенант.
[Закрыть], который успел крикнуть: «Что вы так поздно едете, все уже оттуда разъезжаются…» На Неве Пушкин, шутя, спросил Данзаса: «Не в крепость ли ты меня везешь?»
За городом они догнали сани, в которых ехали Дантес и д’Аршиак. К Комендантской даче противники подъехали одновременно. Был небольшой мороз, но дул сильный ветер. Секунданты решили подойти к небольшому сосновому леску. В полутораста саженях от дачи нашли подходящее место, прикрытое кустарником. Снег был по колено. Пришлось протаптывать дорожку. Этим занялись оба секунданта и Дантес. Пушкин сел на сугроб и равнодушно смотрел на работу. Приготовили площадку в аршин шириною и в двадцать шагов длиною. Барьер в десять шагов обозначили шинелями. Пушкин раза два нетерпеливо спрашивал: «Ну как? Готово?..» Противники, получив пистолеты, стали каждый в пяти шагах от барьера. Данзас махнул шляпой. Пушкин сразу пошел вперед. Дантес сделал четыре шага и остановился. Первым выстрелил Дантес. Пушкин упал на шинель головою в снег. Секунданты и Дантес бросились к нему, но он, опираясь на левую руку, приподнялся и сказал: «Attendez, je me sens assez de force pour tirer mon coup…» («Подождите, у меня достаточно сил, чтобы выстрелить…»).
Дантес вернулся к барьеру и стал боком, прикрыв грудь правой рукой. Пушкин прицелился и выстрелил. Дантес упал. Поэт подбросил пистолет и крикнул: «Браво!» Но силы ему изменили, и он опять упал в снег головою. Когда он очнулся, он спросил, жив ли противник. Ему сказали, что он ранен, но жив. «Странно, – сказал поэт, – я думал, что его смерть доставила бы мне радость, но я чувствую, что это не так…»
Пуля слегка ранила Дантеса. Рана Пушкина была тяжелая. Он терял много крови. Разобрали забор из тонких жердей, чтобы сани могли подъехать, где лежал раненый поэт. Его с трудом усадили. У Комендантской дачи стояла карета, присланная Геккереном. Ввиду тяжелого положения Пушкина д’Аршиак предложил перенести его в карету. Данзас согласился. Дорогой Пушкин разговаривал и припоминал случаи на поединках, ему известных. Пушкина привезли домой в шесть часов вечера. Когда камердинер выносил его из кареты, Пушкин спросил его: «Грустно тебе нести меня?..»
Его внесли в кабинет. Наталья Николаевна была дома, но Пушкин просил не пускать ее к нему, пока он раздевался, менял белье и укладывался на диван. Послали за врачами. Первыми приехали Шольц[1219]1219
Шольц Вильгельм (Василий) Богданович фон (1798–1860) – доктор медицины, врач Воспитательного дома.
[Закрыть] и Задлер[1220]1220
Задлер Карл Карлович (1801–1877) – доктор медицины, автор исторических работ.
[Закрыть]. Когда Задлер уехал за какими-то инструментами, Пушкин спросил Шольца, опасна ли рана. Врач сказал, что опасна. «Может быть, смертельна?» – спросил Пушкин. Врач и этого не отрицал. Пушкин потер лоб рукою и сказал: «Надо устроить мою семью!..»
Потом приехал придворный хирург Арендт. Он также признал положение безнадежным. Пуля попала в нижнюю часть живота, раздробила крестец, и тогдашняя хирургия была бессильна спасти раненого. Ему клали лед на живот и давали прохладительное питье. За Пушкиным ухаживал его домашний врач И. Т. Спасский[1221]1221
Спасский Иван Тимофеевич (1795–1861) – доктор медицины, профессор Медико-хирургической академии. Постоянный домашний врач Пушкиных. Почти все время находился у постели раненого поэта и уже 2 февраля составил записку о болезни и смерти Пушкина, которая дает достоверную и хронологически точную запись его предсмертного состояния.
[Закрыть]. Он оставил записки о последних днях Пушкина. «Я старался его успокоить, – пишет Спасский, – он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимает опасность своего положения…» «По желанию родных и друзей Пушкина, – сообщает далее доктор, – я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тотчас же на это согласился.
– За кем прикажете послать? – спросил я.
– Возьмите первого ближайшего священника, – отвечал Пушкин.
Послали за отцом Петром, что в Конюшенной…»
«Он скоро отправил церковную требу[1222]1222
Треба – у верующих богослужебный обряд, совершаемый по просьбе самих верующих (например, панихида).
[Закрыть]: больной исповедался и причастился святых тайн…»
Пушкин спросил, тут ли Арендт[1223]1223
Николай Фёдорович Арендт (Николас Мартин Арендт; 1785, Казань – 2 (14) октября 1859, Санкт-Петербург) – крупный врач-практик, хирург. С 1829 г. – лейб-медик Николая I, облегчал страдания А. С. Пушкина после дуэли с Дантесом.
[Закрыть]. «Просите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат», – настойчиво повторял больной, зная, что Арендт увидит царя: поэт боялся за судьбу своего секунданта. Арендт поехал во дворец. Он вернулся к Пушкину в час ночи с запискою царя. В. А. Жуковский, в своем письме отцу поэта, распространявшемся в списках и в иной, сокращенной редакции напечатанном в пятой книжке «Современника», рассказывает об этом визите Арендта и о царском «письме» в официальных выражениях, влагая в уста поэта верноподданнические слова. Остается неясным, кому было адресовано «письмо» и даже было ли оно. Его Пушкин не получил. Вероятнее, что Арендт словесно передал царские пожелания и обещания. «Благочестивейший» государь «прощал» поэта и рекомендовал умирающему исполнить «христианский долг» – совет излишний, потому что Пушкин совершил обряд за пять часов до приезда Арендта по желанию близких людей и по своей доброй воле. Существенно было то, что царь обещал взять на свое попечение жену и детей поэта. Пушкин будто бы был растроган и сказал сентиментальные и патриотические слова в духе Василия Андреевича Жуковского. Эти слова явно выдуманы мемуаристом. Доля истины была только в том, что Пушкин после выстрела в Дантеса сам с изумлением заметил вдруг, как угасло в нем чувство гнева. Он мог так же безгневно «простить» и своего коронованного соперника и врага, как он простил Дантеса. Это возможно. А. Аммосов[1224]1224
Аммосов Александр Николаевич – написал брошюру «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса» (СПб., 1863).
[Закрыть] со слов самого Данзаса сообщает, что, отдавая свой перстень приятелю, Пушкин сказал, что «не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него и что желает умереть христианином». Свою легкомысленную жену ласкал и ободрял и несколько раз упоминал о ее чистоте и невинности. Уверенный, что скоро умрет, Пушкин стал равнодушен к тому, что недавно еще считал важным: мнения салонов, клевета врагов, интриги М. Д. Нессельроде – все казалось теперь ничтожным. Самолюбие, гордость, ревность – все это уже утратило свой смысл.
Князь П. А. Вяземский, вовсе не склонный к сентиментальности, большой скептик и человек с холодным сердцем, писал, однако, великому князю Михаилу Павловичу 14 февраля 1837 года: «Смерть обнаружила в характере Пушкина все, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Все, что было в ней беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, было данью человеческой слабости, обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями…»
Пушкин мужественно переносил физические страдания, пока лейб-медик Арендт не велел зачем-то сделать больному клизму. Она вызвала такие невыносимые боли, что даже Пушкин стал кричать, обливаясь холодным потом. Друзья боялись, что эти крики произведут ужасное впечатление на жену, но она как раз в это время заснула и не слышала этих страшных воплей. К утру боли утихли. Пушкин велел позвать Наталью Николаевну и простился с нею. Потом к нему принесли и привели полусонных детей. Он молча крестил их. Жуковский, Вяземский, Вьельгорский, Тургенев, почти не покидавшие квартиру больного, входили робко в кабинет, и Пушкин жал им руки. Потом он спросил, тут ли Карамзина. Ее не было. За нею послали, и она скоро приехала. «Благословите меня», – сказал он. Екатерина Андреевна исполнила его просьбу. Он поцеловал ее руку.
В два часа дня приехал доктор Даль. Он не отходил от постели Пушкина всю ночь с 28-го на 29-е число. В своей записке о смерти поэта Даль рассказывает о последних его часах: «Пушкин заставил всех присутствующих сдружиться со смертью, так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Пушкин положительно отвергал утешение наше и на слова мои: «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!» – отвечал: «Нет, мне здесь не житье; я умру, да видно уж так и надо!»
Раненый глотал кусочки льда. Ему зачем-то ставили пиявки. Он все выносил терпеливо. Только изредка он закидывал руки за голову и говорил: «Ах, какая тоска! Сердце изнывает!..» Вдруг неожиданно больной попросил, чтобы ему дали моченой морошки. Когда ее принесли, он сказал: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский привел Наталью Николаевну. Она стала на колени и с ложечки дала несколько ягодок умирающему. Он погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо!»
Наталью Николаевну увели. В два часа дня Даль заметил, что пульс падает. Он вышел в соседнюю комнату, где сидели Вяземский, Жуковский, А. И. Тургенев и Вьельгорский, и сказал: «Отходит!»
Друзья вошли в кабинет. Умирающий в полусне говорил «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше…» Очнувшись, он попросил его приподнять. Когда Даль исполнил его просьбу, поэт раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Жизнь кончена». Даль недослышал и спросил тихо: «Что кончено?» Тогда он еще раз внятно повторил: «Жизнь кончена». Пушкин умер в 2 часа 45 минут дня 29 января 1837 года.
VIII
Самым значительным событием после восстания на Сенатской площади была смерть Пушкина. Никто не предвидел, что кончина поэта вызовет такое движение общественных сил, которые, казалось, спали крепким сном. Но вот они проснулись. Не дремали и враги. В те дни, когда умирал Пушкин, супруги Нессельроде не постыдились проводить время в обществе нидерландского посланника. Злейший враг Пушкина совещался с русским министром иностранных дел и с его супругою о том, как наилучшим образом выйти из затруднительного положения. Враги Пушкина так увлеклись своей подлой игрою, что не побрезговали двусмысленностью «диплома», задевающего косвенно и самого императора. Намек на то, что жена поэта – любовница царя, не мог быть терпим его величеством. Иные вещи можно делать, но говорить о них нельзя. Кроме того, этот Дантес-Геккерен, как выяснилось, являлся соперником Николая Павловича в отношении Натальи Николаевны. Все эти соображения вызвали гнев императора, и он понял, что в его интересах сделать вид, что он верит Наталье Николаевне, что все дело в притязаниях молодого кавалергарда и в «сводничестве» старика Геккерена. Чета Геккеренов, по мнению Николая Павловича, вела себя неприлично. Это мнение царя спутало карты увлекшихся интриганов. В письме к великому князю Михаилу Павловичу от 3 февраля 1837 года, значит, через пять дней после смерти поэта, император дал событию свое истолкование. «Это происшествие, – писал царь, – возбудило тьму толков, наибольшей частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно: он точно вел себя как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался на (?) сестре Пушкиной; тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна. Так как сестра ее точно любила Дантеса, то Пушкин тогда же и отказался от дуэли. Но должно ему было при том и оставаться – чего не вытерпел…»
Николай Павлович не упоминает только об одном факте, что «не вытерпел» Пушкин как раз после какого-то откровенного разговора с царем 25 января. Николаю Павловичу выгодно было не углубляться в мотивы, понудившие Пушкина броситься под пистолет случайного и ничтожного врага. Царю выгодно было принять версию, изложенную в последнем письме поэта к Геккерену. Николай Павлович не одобрял формы письма, но нисколько не сомневался, по-видимому, в причастности Геккерена к анонимному пасквилю. Не важно, чья рука писала «диплом» – П. В. Долгорукова или какого-нибудь другого великосветского развратника, – важно то, что Геккерен и Нессельроде внушили какому-то негодяю эту затею. Свое письмо к брату Николай Павлович заключает следующей фразой: «Дантес под судом, равно как Данзас, секундант Пушкина; и кончится по законам; и кажется, каналья Геккерен отсюда выбудет…» Геккерен прилагал немалые усилия, чтобы остаться в России, но царь был тверд в своем решении. Он даже не дал ему прощальной аудиенции и только пожаловал ему «табакерку», что означало на условном языке придворно-дипломатического мира желание монарха не видеть больше Геккерена в качестве представителя Нидерландского королевства. Разжалованный Дантес был выслан с фельдъегерем за границу. Так поплатились за свою неосторожную интригу друзья Марьи Дмитриевны Нессельроде, но сама графиня и ее супруг остались неприкосновенными, хотя она не скрывала симпатий к барону Геккерену даже в самые последние дни, когда светское общество, считаясь с мнением царя, проявило к знатному интригану некоторую холодность.
То, что чета Нессельроде имела прямое отношение к заговору, составленному против Пушкина, нашло себе подтверждение в записках князя А. М. Голицына[1225]1225
Голицын Александр Михайлович (1838–1919) – церемониймейстер, звенигородский уездный предводитель дворянства.
[Закрыть], который со слов, вероятно, графа А. В. Адлерберга[1226]1226
Адлерберг Александр Владимирович (1818–1888) – воспитанник Пажеского корпуса, с 1836 г. – прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, впоследствии генерал-адъютант, министр двора.
[Закрыть] или графа Э. Т. Баранова[1227]1227
Баранов Эдуард Трофимович (1811–1884) – генерал-адъютант, был виленским, ровенским, гродненским, минским генерал-губернатором.
[Закрыть] сообщает, как сын Николая Павловича, Александр, будучи уже императором, сказал однажды в интимном кругу, что, по имеющимся у него данным, пасквиль, вызвавший дуэль и смерть Пушкина, внушен был Несссльроде, то есть графинею Марьей Дмитриевной.
Итак, смерть Пушкина разделила все петербургское общество на два лагеря. Одни спешили выразить свое сочувствие благородному барону Дантесу-Геккерену и его не менее благородному отцу, другие толпились около тела убитого поэта. В письме к нидерландскому министру Геккерен, рассказывая о событии со своей точки зрения, подчеркивает, между прочим, сочувствие ему русского министра иностранных дел: «Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только те знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества. В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроде, так же как и граф и графиня Строгановы[1228]1228
Граф и графиня Строгановы – вероятнее всего, Строганов Григорий Александрович, двоюродный дядя Н. Н. Пушкиной, и его жена Строганова Юлия Павловна (1782–1864, урожд. д’Альмейда, графиня д’Ойенгаузен), статс-дама. Григорий Александрович считал Дантеса «невинно осужденным» и вообще был на стороне Дантеса и Геккерна.
[Закрыть], оставили мой дом только в час пополуночи…»
Однако через два дня барону Геккерену пришлось написать письмо тому же адресату, но уже с некоторыми иными сообщениями. Умолчать об этих новых фактах Геккерен не мог, так как они нашли себе выражение в иностранной прессе и вообще получили широкую огласку. Вот что писал дипломат своему министру: «Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем предполагали. Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу…» И далее поясняет: «Чувства, о которых я теперь говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс промежуточный между настоящей аристократией и высшими должностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может, – с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, национальных коммерсантов высшего полета и т. д. Смерть г. Пушкина открыла, по крайней мере, власти существование целой партии, главой которой он был, может быть, исключительно благодаря своему таланту в высшей степени народному…» Вот какие любопытные признания должен был сделать нидерландский посланник. Не менее любопытно и заключение этой тирады: «Если вспомнить, что г. Пушкин был замешан в событиях, предшествовавших 1825 году, то можно заключить, что такое предположение не лишено оснований…»
Геккерен не может скрыть, что смерть Пушкина имеет огромный социальный смысл. Это понимали и другие представители иностранных держав. Так, например, вюртембергский посол князь Гогенлоэ-Кирхберг[1229]1229
Гогенлоэ-Лангенбург-Кирхберг Христиан-Людвиг-Фридрих-Генрих (1788–1859) – князь, вюртембергский посол в Петербурге.
[Закрыть] в депешах своему правительству подчеркивает не только значение Пушкина как «величайшего поэта», которого «Россия будет оплакивать», но и его политическую роль. В особой записке о Пушкине вюртембергский посол пишет: «Пушкин, замечательнейший поэт, молва о котором разнеслась особенно благодаря тому глубокому трагизму, который заключался в его смерти, Пушкин, представитель слишком передовых для строя своей родины взглядов, был на разные лады судим своими соотечественниками, чему следует приписать эту разницу в чувствах к человеку, жизнь которого всегда была общественною…» И далее: «Чтение произведений Пушкина и его жизнь ясно указывают на то, почему этот писатель не пользовался уважением среди известной части аристократии, меж тем как все остальное общество превозносит его до небес и с восторгом и благоговением относится к его памяти…»
Гогенлоэ-Кирхберг, по-видимому, хорошо был знаком с литературной деятельностью поэта. Этот внимательный наблюдатель, перечислив ряд язвительных и грозных выступлений Пушкина против лиц привилегированных, делает следующее заключение: «Пушкину нетрудно было возбудить против себя недовольство власти, ибо дух и направление его произведений давали слишком много поводов для доносов врагов. Вот настоящие причины того недоброжелательства, которое известная часть дворянства (особенно та, которая занимала видные посты в государстве) питала к Пушкину при его жизни и которое отнюдь не исчезло с его смертью…»
Осведомленность князя Гогенлоэ в судьбе Пушкина удивительна для иностранца. Из его записки видно, что он прекрасно знает, как изменялись политические взгляды Пушкина, как он тщетно пытался найти компромисс с правительством после 14 декабря 1825 года и как он в конце концов опять вынужден был стать в ряды оппозиции. Не забыл он упомянуть также и о том, что «назначением в камер-юнкеры Пушкин почитал себя оскорбленным, находя эту честь много ниже своего достоинства».
И этот доброжелатель Пушкина, так же как и его враг Геккерен, подчеркивает связь поэта с «третьим сословием». Гогенлоэ влагает даже в уста поэта фразу, которую он будто бы сказал Жуковскому: «Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то или княгини такой-то о невинности или виновности моей жены. Единственное мнение, которым я дорожу, есть мнение среднего класса, который в настоящее время является единственным истинно русским и который восхищен женою Пушкина…»
Саксонский посланник барон Люцероде[1230]1230
Люцероде Карл Август (1794–1864) – барон, саксонский посланник, писатель и переводчик (в том числе стихотворений Пушкина).
[Закрыть], интересовавшийся русской литературой и переводивший на немецкий язык русских поэтов, сообщал своему правительству: «Ужасное событие, совершившееся три дня тому назад, глубоко потрясло всех истинно образованных жителей Петербурга. Государственный историограф Александр Пушкин, который достоин быть назван со времени смерти Гёте и Байрона первым поэтом современной эпохи, пал жертвою ревности, злонамеренно доведенной до безумия…» Люцероде многозначительно подчеркивает, что Пушкин пал от руки «карлиста»[1231]1231
Карлист – сторонник Карла X, короля Франции до 1830 г.
[Закрыть] и что семья Нессельроде «симпатизировала всем карлистам»; он, не смущаясь, излагает содержание письма к Геккерену, где поэт клеймит «двух негодяев, связанных пороком».
Рассказывая о враждебности к Пушкину привилегированного общества, он пишет: «При наличии в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности не надо удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека…»
Из второй депеши того же Люцероде мы узнаем, что сочувствие поэту выразили «второй и третий класс жителей Петербурга». И это сочувствие, оказывается, «вызвало некоторые меры надзора со стороны полиции и корпуса жандармов, особенно вблизи дома голландского посольства». Жандармские и полицейские пикеты в самом деле были расставлены в опасных местах по указанию графа Бенкендорфа. Но не все представители иностранных держав были настроены благожелательно к Пушкину. Сообщения прусского посланника Либермана[1232]1232
Либерман Август (? – 1847) – барон, прусский посланник.
[Закрыть] дышат прямою ненавистью к поэту. Любопытно, что высылку Дантеса он считает мерою слишком строгою и продиктованною не волею самого императора, а требованиями возмущенного общества. Император выслал Дантеса «для того, чтобы успокоить раздражение и крики о возмездии или, если угодно, горячую жажду публичного обвинения, которую вызвало печальное происшествие». «Это чувство проявилось в низших слоях населения столицы с гораздо большей силой, чем в рядах высшего общества…» Судьба Пушкина его пугает. Он не может скрыть от своего правительства чрезвычайной популярности поэта. Эту популярность он приобрел «благодаря идеям новейшего либерализма, которые ему нравилось исповедовать». Он, Либерман, знает о «преступных политических происках» Пушкина. «Я знаю положительно, – пишет он, – что под предлогом пылкого патриотизма в последние дни в С.-Петербурге произносятся самые странные речи, утверждающие, между прочим, что г. Пушкин был чуть не единственной опорой, единственным представителем народной вольности и проч. и проч.».









































