Текст книги "Сибирь"
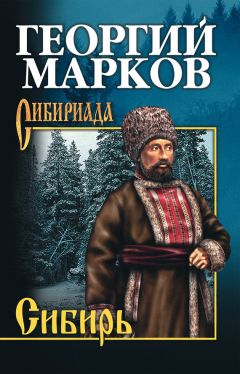
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Акимов приближался медленно, сбавляя скорость с каждой секундой, и был молчалив и строг.
– Ваня! Здравствуй, Ваня! – сказала Катя, не выдержав и заливаясь краской, опустила голову. Но тут же подняла ее и шагнула навстречу.
– Где вы ее взяли, Степан Димитрич?! Катя, здравствуй! Вот уж не ожидал! Не ожидал! Никак не ожидал! – повторял он одни и те же слова, прямо направляясь к ней. Акимов размахнул руки, чтобы обнять ее, но не успел этого сделать, потому что Катя опередила его, кинувшись к нему тоже с распростертыми руками.
Они постояли несколько секунд обнявшись и тут же отошли друг от друга.
– Боже, как он зарос! Тебя по глазам, Ваня, только по глазам можно узнать. Ваня, Ваня, какой ты стал, Ваня! Совершенно непохожий на того петербургского Ваню. – Ей, по-видимому, приятно было произносить его имя, и она не считалась сейчас с чистотой фразы, за строением которой всегда следила с педагогической щепетильностью.
– Был Ваня, а стал таежный инок Иоанн, – усмехнулся Акимов и принялся развязывать ременные постромки.
Катя подскочила к нему, чтоб помочь развязать узел ремешка, но Акимов остановил ее.
– Нет уж, мы сами, немало-с обучены этому, – смеялся он, искоса поглядывая на Катю и видя лишь ее горящие нестерпимым светом любви глаза.
Прежде чем войти в избу вслед за Лукьяновым и Катей, Акимов тщательно стряхнул с шапки набившийся снег, обнажив заросшую густым волосом, все еще мокрую от пота голову, потом рукавицей смахнул снег с полушубка, постукивая носками пимов о сосновый чурбак, валявшийся возле избы, стряхнул снег и с обуви. Катя оглянулась у раскрытой двери, предупредила:
– Учти, Ваня, это не простое жилище. Здесь обитает философ Окентий Свободный, человек, преодолевший страх перед миром. Оригинальный тип! – Сочный голос Кати дрожал от волнения.
– Преодолевший страх? Поучусь. А то ведь все время дрожу от опасения быть пойманным. Ей-богу! – Акимов поднял плечи, раскинул руки: что, мол, поделаешь – от правды не уйти.
Катя звонко рассмеялась, и Акимов понял, что ей в эти минуты море по колено. Он говорил всерьез, а она воспринимала его слова как шутку.
Глава четвертая1
После обеда Акимов и Катя остались в избе одни. Лукьянов заспешил в село, а Окентий пошел на выселок, понес в мешке рыбу, намереваясь обменять ее на муку. Пока он не произвел на Акимова того впечатления, о котором говорила Катя. Может быть, потому, что затронуть философские проблемы за обедом не удалось. Речь шла о вещах более прозаических: в какое время и в каком месте лучше, безопаснее выйти на тракт? Где, на каком участке тракта вероятнее всего можно наткнуться на «крючков»? С какой стороны безопаснее войти в город, чтоб не оказаться замеченным? А потом Катя утоляла любопытство Акимова битый час. Сколько времени он был оторван от известий о войне, о жизни страны, о событиях в мире!
Оставшись вдруг наедине, они долго сидели в полной растерянности, глядя друг на друга с каким-то затаенным недоумением в глазах.
– Вот где пришлось свидеться, Ваня! Необычно и странно. К чему бы это? Как все это понять? Что происходит? У меня просто какое-то затмение в голове. Я плохо соображаю, хотя я ехала сюда, в Сибирь, чтоб увидеть тебя. И, представь себе, именно это подталкивало меня, именно это, а не только паспорт и деньги, которые нужны тебе. Мне стыдно… Может быть, ты и осудишь меня… – Катя приложила ладони к вискам и внезапно умолкла, чуть наклонив голову над столом, на котором стояли еще не убранные глиняные чашки с рыбьими костями.
– К чему бы это? К чему бы? – подхватил слова Кати Акимов и, заглядывая ей в глаза через стол, разделявший их, как-то сразу сник, осекся, испытывая робость перед тем, что хотелось сказать и о чем сказать было непросто. – Ты получила мою записку из тюрьмы? Я запрятал ее в оторвавшийся подклад сумки. Могла и не дойти, – преодолев какое-то внутреннее препятствие, продолжал Акимов.
– Конечно, Ваня, получила! И если откровенно сказать, то не удивилась этой записке, потому что день ото дня ждала ее. Может быть, ты опять-таки осудишь меня за самоуверенность, что ли, но мне казалось, что ты не можешь не написать мне именно этих слов. И эта записочка всегда со мной. Вот и теперь она здесь, у сердца, в моем потайном карманчике. Ах, Ваня, знал бы ты, как дороги мне были твои слова! Они согревали мне душу и наподобие волшебного огонька светили всегда – и в темную ночь, и в ясный день… Прости меня, если тебе все это слышать не очень приятно, так как, может быть, тебе мои чувства покажутся неуместными в такой до удивления необыкновенной обстановке, в какой мы оказались…
Катя высказала все это с таким волнением, с такой предельной искренностью, что даже глаза ее покраснели и увлажнились.
Акимов поначалу слушал молча, будто оцепенев, и лишь слегка покручивая прядку своей жесткой темно-русой бороды. Но когда она кончила, он вскочил, подошел к ней и поцеловал ее крепким долгим поцелуем. Затем он сел рядом с ней, придвинув некрашеную табуретку, бережно обнял Катю. На него напахнуло головокружительными запахами молодого девичьего тела, которое, хотя и было прикрыто сейчас поношенной крестьянской кофтой и юбкой, цвело и буйно и пылко и тянулось к нему всеми своими подспудными силами. Катя пересела к нему на колени, обхватила его заросшую длинными волосами шею, уткнулась лицом в грудь, всхлипнула от счастья и затихла.
Акимов весь сжался. Сжался от неудержимой радости, которая так охватила его, что сердце могло не вынести этих громких, четких ударов, отзывавшихся набатным звоном в ушах. Происходило то, о чем он мечтал, как о далеком и желанном. Катя была с ним, она любила его, а он любил ее. И все, все между ними было ясно, определенно и не внушало никаких сомнений.
– Катя… родная… моя… навсегда… навечно… – Ему казалось, что он произносит эти слова вслух, отчетливо, но она чувствовала лишь, как шевелятся его губы над самым ее ухом. Да она и без слов понимала, что радость, которой наградила их в этот зимний день сибирская тайга, ни с чем не сравнима – жизнь дарит ее людям один раз. Будут другие радости, но эта уже не повторится.
Акимов поднял Катю, намереваясь перенести в угол избы, где стоял топчан старика философа, но тут же опустился на табуретку. В ушах его зазвучал густой и резкий голос ее брата и его друга Саши Ксенофонтова: «Ты что же это, Ванька, ополоумел? Разве можно вести себя так? Ведь слишком мало времени провели вы вместе, чтоб так неудержимо катиться к концу того, что называется началом жизни для двоих?.. И нашел же ты, непутевый, место для любви! Ведь едва наступит рассвет, как долг перед революцией разведет вас в разные концы планеты. И никто не скажет, будете ли вы когда-нибудь вместе. Слишком много впереди у нас трудностей и испытаний… Ты об этом-то подумал? Или страсть твоя необузданная лишила тебя рассудка и ты, как дикарь, чувствуешь лишь зов природы?.. Да время ли? Остепенись».
Руки Акимова ослабли, и он чуть не выронил Катю. Она почувствовала это и еще крепче обвила руками его шею, плотнее прижалась к нему.
– Ваня… родной… нам выпало счастье! И вспомни, какой сегодня день – канун нового, семнадцатого года… Завтра он начнет отсчет… Может быть, он принесет свободу… Ваня… Я всегда знала – ты моя судьба… Крестьянка Мамика учила меня… – Катя говорила и говорила, целуя Акимова то в губы, то в лоб, то в глаза.
Акимов же в эту минуту держал ответ перед другом, воспринимая Катин голос каким-то уголком сознания, как отзвук попутного эха.
«Не упрекай меня, Саша, – мысленно говорил Акимов. – Я не уроню ее чести, не унижу ее. Пойми, я люблю ее. Я жил мыслями о ней. Не моя вина, что был я с ней мало. Не будь тюрьмы и ссылки, живи я в условиях, достойных человека, как мы с тобой понимаем его назначение на земле, я давно был бы с ней вместе и навсегда. Сегодня, именно сегодня решается – будет ли наше будущее общим или я могу потерять ее…»
– Потерять?! – вдруг не своим голосом вскрикнул Акимов.
– Что ты, Ваня? Что потерять? – обеспокоясь его возгласом, спросила Катя и, чуть отстранясь от него, заглянула ему в глаза. В них стоял испуг, и мятежные искорки вспыхивали в расширившихся зрачках.
– Тебя потерять, Катя, – упавшим голосом сказал он.
– Почему потерять? Я твоя, Ваня. Пойми, навсегда твоя, – твердо произнесла Катя.
Словно кто-то подтолкнул Акимова. Он вскинул Катю на своих сильных руках, покружился с ней на середине избы и осторожно, подставляя под ее спину широкие ладони, положил на дощатый топчан.
В промороженное окошко заглядывало просветлевшее под вечер зимнее небо. Нежная голубизна распахнулась во всю ширь над притихшим лесом, а по ней откуда-то из глубины тайги лились и лились неудержимые розово-багряные потоки, предвещавшие поворот на сильный мороз.
2
Банка с воском догорела, и Катя запалила другую банку, с рыбьим жиром. Светильник потрескивал, источая горьковатый чад.
Напрягая глаза, Акимов вслух читал:
– «Царские опричники – эти злые церберы самодержавия – попирают элементарные права человека. Произвол, насилие, поборы, взятки – все это стало повседневным явлением. Самодержавие гниет заживо, отравляя озон нашей общественной жизни ядовитым зловонием…»
Катя сидела напротив Акимова и внимательно слушала его чтение, то и дело посматривая на него настороженными глазами. Акимов дочитал до конца листок, отложил его и тихо сказал:
– Все правильно, Катя, а все-таки листовка еще не вызрела. Во-первых, нужно вычеркнуть такие слова, как «цербер», «озон» и другие, которые знают только грамотные люди, да и то, пожалуй, не все. И, во-вторых, по-моему, необходимо перестроить композицию листовки. Все общие положения отнеси в самый конец. Начинай с главного…
– Одну минутку: вооружусь. – Катя достала из внутреннего кармана стеганой поддевки карандаш и бумагу и, разгладив ладонью лист на столе, быстро-быстро принялась писать.
– Я бы так начал, Катя. – Акимов встал, оперся ладонью о кромку стола. – «Царские опричники готовятся осуществить жестокую расправу над крестьянкой, женой солдата, потерявшегося на фронте без вести, Зинаидой Новоселовой. Истерзанная нуждой, растоптанная бесправием, доведенная до крайней степени отчаяния, Зинаида Новоселова, двадцатидевятилетняя женщина, убила полицейского Карпухина. Виновата ли Зинаида Новоселова? Нет, не виновата. Изнуренная гнусными домогательствами наглеца и развратника с полицейскими погонами, Зинаида своим вынужденным выстрелом защищала свою честь женщины, свою верность мужу, достоинство своего ребенка. Не Зинаида Новоселова окажется на скамье подсудимых, а царские опричники, самодержавие, его насквозь прогнивший правопорядок, поддерживающий произвол, казнокрадство, лихоимство, взяточничество и прочие чудовищные пороки. Не бедной крестьянке, рискнувшей поднять руку на безумства власть имущих, а царю-кровопийцу Николаю Второму, царскому правительству, всему правящему классу России суд подпишет приговор…» И тут, Катя, переход к той части, где ты говоришь о войне, о страданиях народа, о революции…
– Да, да, Ваня. Вот посмотри, как тут хорошо все смыкается. – Катя взяла листок, лежавший перед Акимовым, и, найдя необходимое место, стала читать: – «Разве одинока в своей горькой судьбе сибирская крестьянка Зинаида Новоселова? Стоном стонет русская земля. Свыше двенадцати миллионов рабочих и крестьян три года проливают кровь в бессмысленной братоубийственной войне. Война не принесла и не принесет избавления народу. Все громче и сильнее по всей земле русской слышится призыв партии социал-демократов большевиков: «Долой войну! Долой самодержавие! Да здравствует революция!»
Заключительные слова будущей листовки Катя прочла нараспев, сочно, сопровождая отдельные слова взмахами руки. Темные глаза ее загорелись. Она вскинула голову, подчиняясь настроению протеста и подъема, которое сама старалась вложить в листовку. Акимов залюбовался Катей. Подошел к ней, склонился, осыпал разгоряченное лицо поцелуями.
– Ты у меня трибун! Молодец! Уж как я люблю тебя! – отступив, сказал он с ласковой улыбкой, чуть выпятив из-под усов покрасневшие от поцелуев губы. Катя подбирала обеими руками рассыпавшиеся волосы, тихо смеялась, не в силах сдерживать своей радости от его нежности и похвалы.
– Еще не все, товарищ Гранит! Не все! Хочу с тобой поговорить о женщинах-свидетельницах. Что ты мне посоветуешь, Ваня? – Катя смотрела на него в упор, пытаясь быть серьезной и строгой. Но нет, это не удавалось. Губы вздрагивали, из глаз струился особый свет – свет любви, греющий его душу, по щекам скользила сдержанная усмешка, делавшая ее лицо бесконечно милым и одухотворенным.
– Ну, что тебе посоветовать? – Акимов тоже старался быть предельно серьезным, хотя это тоже не очень выходило. – Все, что ты рассказала, не шутка. Ты многое уже сделала. То, что на суде выступят семь свидетельниц-крестьянок, – это сильно, это хорошо. Постарайся их подготовить ко всякого рода каверзным вопросам судей и прокурора. Ясно, что суд и особенно обвинение будут их сбивать, путать и наконец просто запугивать.
– Учла все это, Ваня! Бабы мои храбрятся, обещают не бояться, стоять на своем. Зину они любят, судьба ее им близка и понятна. Не один, не два часа провела я с ними в откровенных разговорах. И снова буду видеться с ними. Провожу тебя (Катя глубоко и сокрушенно вздохнула) и опять пойду на выселок…
– Ну, а как сама подсудимая? Представляет она, что царское правосудие будет клеймить ее самыми страшными словами?
– За нее, Ваня, я не боюсь. Через одного томского адвоката нам удалось передать ей некоторые наставления. Я убеждена, что Зина будет вести себя уверенно, смело. Ах, Ваня, знал бы ты, какая горькая судьба выпала на долю этой замечательной женщины! Кстати, я ведь тебе забыла сказать, что Зина Новоселова родная сестра Степану Димитричу Лукьянову…
– Что ты говоришь?! Ну, если она обладает умом брата, его отвагой, то действительно процесс превратится в политическую демонстрацию. А как томские рабочие и студенты? Неужели промолчат?
– Конечно, не промолчат!
– Важно, чтоб власти не пронюхали о ваших действиях раньше времени.
– Кажется, все предусмотрено. И все-таки надо быть готовыми ко всему.
– Именно. Мой побег тому хороший пример.
– Где же, Ваня, по-твоему, могла произойти утечка?
– Думал я об этом часами, Катя. Одно из двух: либо жандармерия сразу, с предварилки взяла меня под свой контроль и неусыпно следила за мной, либо просочилось как-нибудь через дядюшку Венедикта Петровича. Решение о моем побеге, о том, что я направляюсь к нему в Стокгольм, товарищи должны были сообщить ему. А кто его там окружает, неизвестно. Я убежден – не могли его оставить за границей без наблюдения российские власти.
– Ну, дойдешь, Ваня, до Швеции, возможно, что-то узнаешь. – Катя посмотрела на Акимова долгим прощальным взглядом.
– Постараюсь, Катя. Постараюсь изо всех сил. Они замолчали. Вдруг Катя вскочила, кинулась к нему, прижала лохматую голову к своей груди.
– Ваня, какое это счастье, что мы встретились! Какое счастье! Мне так хорошо… Я не нахожу слов… Что мне готовит жизнь, не знаю… Но ничего я не боюсь. Я предчувствую… скоро, скоро мы будем вместе… Ваня, пойдем на улицу, посмотрим, как течет первая ночь нового, девятьсот семнадцатого года…
Они надели шубы, подняли воротники, закутались шарфами и вышли. Взойдя по снегу на бугорок, очищенный от зарослей леса, встали рядом, прижались друг к другу и подняли головы к небу. Оно было чистым, безоблачным и переливалось серебряными дорогами, уходившими куда-то в необозримую даль за чернеющий горизонт – в дебри леса, освещенного месяцем в золотой оболочке. Было безветренно. Деревья, прибранные куржаком и снегом, стояли в полном безмолвии, не шевеля даже самыми чуткими к движению воздуха ветками. От тишины позвенькивало в ушах.
– Боже, даже не верится, что под покровом этого покоя на земле страстно и яростно грохочут битвы людские, – сказала Катя шепотом.
Акимов набрал в легкие воздуха, крикнул:
– Эй ты, Новый год, будь здоров! Здравствуй, процветай на радость рода человеческого!
Эхо от звонкого голоса Акимова всколыхнуло тишину, прошумело над лесом и замолкло, не оставив следа.
– Пойдем, Катя, в избу. Холодно… Я тебе расскажу о своем житье-бытье со стариком Федотом Федотычем в Дальней тайге. Он, правда, не философ, как твой Окентий Свободный, но тоже человек существенный.
– Богата на них наша многострадальная родина, на этих существенных мужиков и баб, Ваня.
– Богата и щедра. Пойдем, Катя. Озяб я.
3
Всю ночь они проговорили, касаясь многих тем и вопросов. Под утро легли на топчан, согрелись, только заснули, у двери послышался стукоток. Акимов быстро вскочил, насторожился. Дверь приоткрылась, и в тот же миг послышался голос Лукьянова.
– Это я, Иван Иваныч. Рассвет приближается, ну я и поспешил. Прошу извинить, что не дал сны доглядеть до конца.
– Что делать?! Догляжу когда-нибудь в другое время, – усмехнулся Акимов.
В избе темно и прохладно. Акимов зажег светильник и сразу бросился к железной печке, натолкал в нее круглых березовых поленьев. Минута – и загудит печка, заполыхает жаркими боками.
– А хозяин еще не вернулся? – оглядывая избу, спросил Лукьянов.
– Не пришел. Ждали вечером, – вставая с топчана, сказала Катя. – Доброе утро, Степан Димитрич. С Новым годом!
– Доброе утро, Катя! Здравствуй! Окентий небось наменял на рыбу муки и сговорил какую-нибудь сердобольную хозяйку испечь ему хлеб.
– Возможно. Он как раз собирался так и сделать, – подтвердила Катя, потягиваясь и слегка позевывая.
– Пусть себе. Хлеб я принес. И особо тебе, Катя, послала тетка Таня шанежки с творогом.
– Вот уж угодила! – Катя подошла к столу, начала помогать Лукьянову выкладывать харчи из мешка. Акимов же кинулся к тючку в брезенте. Схватил за веревку, которой был опутан тюк, поднял, встряхнул на руке, подумал: «Пустяки, легко!» Но, подержав тюк на руке, опустил: «Не очень-то легко. Вприпрыжку с таким грузом не побежишь».
Лукьянов наблюдал за Акимовым от стола.
– Как, Иван Иваныч?
– Увесисто.
– Вот в том-то и закавыка.
– Придется хоть бегло посмотреть. Вдруг окажется что-нибудь лишнее или совсем не обязательное.
– Давайте сюда, к огоньку. – Лукьянов придвинул табуретку к Акимову и потянулся за светильником.
Акимов положил тюк, принялся развязывать замокшие узлы веревки. Узлы спрессовались намертво, не поддавались ни пальцам, ни зубам. Лукьянов рассек своим кинжалом один узел, и веревка легко снялась с тюка.
Акимов дернул за шелковый шнур, которым был стянут брезентовый чехол, и когда развел кромки, увидел связки бумаг. «Дядюшкины труды! Наблюдения ученого… Слово науки», – проносилось у него в голове, и он чувствовал, как дрожат его руки. «Ну-ну, спокойнее. Возможно, тут лишь факты… А факты еще не наука… Они – кирпичи здания… Так любил говорить Венедикт Петрович… Чтоб выстроить из кирпичей здание, необходима большая работа мозга… Мысль сводит факты в единое целое, она превращает в совокупность разрозненные явления, ей дано свойство прозрения на близкое время и необозримо далекое. И в этом ее главная сила». Акимову казалось, что он слышит голос Лихачева, всегда резковатый и откровенно задиристый…
Акимов вытащил связку тетрадей в клеенчатых корочках. Это полевые дневники Лихачева. Четыре экспедиции организовал профессор в Кетские земли. Вот тут, вероятно, записано все, что видел, узнавал, о чем думал ученый. Записано день за днем. Без единого пропуска… Эх, пролистать бы эти дневники не спеша, страница за страницей, всмотреться в зарисовки яров и песков, равнин и холмов, плесов рек и озер!.. Как ему необходимы эти материалы!.. Разве можно писать итоговый капитальный труд, не имея под руками этих документов?! Как же он будет благодарен баламуту Ваньке, если все это ляжет вдруг на письменный стол. И где? В Стокгольме, на чужбине, в изгнании.
Акимов перевязал пачку тетрадей точно так же, как она была завязана, засунул ее в мешок и вытащил другую связку. Прочные картонки сберегали ее от изломов. Акимов развязал крепкий, из конопляной нитки шпагат. Карты! Целая стопа карт…
Опасаясь погасить светильник, Акимов взял одну карту, осторожно развернул ее на столе. По верхней кромке прочитал надпись, сделанную характерным витиеватым почерком дядюшки: «Прогнозные соображения по полиметаллам Сибири». Карта испещрена росчерками, местами затушевана простым и цветными карандашами, по кромкам какие-то записи и множество значков – крестики, кружочки, кубики.
Свернув карту по старым линиям, Акимов развернул другую. А когда прочитал надпись, замер от неожиданности: «Курганы Сибири». Взглянув на отдельные пометки, сделанные рукой Лихачева, Акимов понял, что эта карта курганов особенная. На ней были обозначены не только те курганы, которые давно известны и уже подверглись опустошению, но значились и курганы неизвестные, пока что скрытые от общего людского взора. Судя по пометкам ученого, их было еще немало… Годы шли, а страсть наткнуться на курган, не разграбленный ранее, овладеть его несметным богатством, не покидала людишек. В разное время артели копачей кидались по просторам Сибири то в один ее край, то в другой, но либо натыкались они на захоронения, давно опустошенные от сокровищ, либо копали обыкновенные холмы, которые лишь по внешнему виду напоминали курганы, а на самом деле никогда ими не были.
Акимов щурил глаза, взгляд его скользил по карте. Он забыл, что рядом с ним стоят Лукьянов и Катя и нетерпеливо смотрят на него, ожидая каких-то слов.
– Что, Ваня, интересно? – спросила Катя, беря его за локоть.
– Очень интересно, Катя! Эти карты – труд его жизни. Они многое подскажут будущим поколениям.
Акимов сложил карту «Курганы Сибири» бережно, осторожно, как великую драгоценность. В эти минуты он и предположить не мог, что некий прохвост Осиповский, обитающий в Стокгольме возле Лихачева, втайне помышлял именно об этой карте. Содействие мосье Мопассану в покупке лихачевского архива для англичан – этим не исчерпывались его цели. Не исчерпывались они и полицейской службой царскому правительству. Себе на уме археолог Осиповский размышлял о другом: давненько, лет пять тому назад, один из его дружков, служивший в ведомстве путей сообщения Российской империи, дознался, что на Алтае и по Минусинской котловине имеются курганы, никогда еще не подвергавшиеся осмотру. Вот бы открыть такой курган! Разумеется, не ради интересов науки – наука проживет и без этого – открыть для собственного благоденствия… Точно или неточно, а ведь известно, что из курганов изымались огромные ценности: слитки золота, изделия из драгоценного металла, редчайшие каменья… Все это можно прибрать к рукам, а если уж и наука встрянет в это дело, кое-что и ей достанется: орудия быта, предметы древнего обихода.
Вожделенная мечта запала в голову Осиповского. Исподволь начал он вести разведку, кто в России может знать состояние курганов Сибири. К кому ни толкался, от всех слышал один ответ: «Есть такой человек: Лихачев Венедикт Петрович. Но знайте: сидит на сундуках знания, как колдун. Никого к себе не подпускает».
Вот тогда-то Осиповский и решил: «Возьму тайну, возьму не мытьем, так катаньем».
…Акимов бегло взглянул и на другие карты: «Прогнозные соображения по углям», «Размещение наиболее ценных пород леса», «К проблеме влияния лесов на температуру Обь-Енисейского воздушного бассейна», «Юганская Обь» (с отметками жировых пятен), «Минеральные источники» (свод данных), «К проекту сброса северных вод на юг».
Упаковывая карты в прежние картонки, Акимов прочитал на одной из них тусклую карандашную надпись: «Папка живота моего». Надпись была сделана рукой Лихачева и, по-видимому, являлась условным обозначением ценности этих материалов.
Акимов уложил связку карт в мешок и нащупал еще одну связку, собираясь вытащить ее, но тут вмешался Лукьянов:
– Иван Иваныч, пора пить чай. Иначе ямщик начнет беспокоиться.
– Пора, правда, Степан Димитрич. Увлекся я… – Акимов уложил связки в мешке удобнее и затянул шелковый шнур.
– Ну что, Ваня, возьмешь тюк? Как решил? Не раздумал? – спросила Катя, заметив, что Акимов стал вдруг сам не свой – растерянный, задумавшийся, со взглядом, обращенным куда-то вдаль.
– Рискну, Катя. – Он помолчал, невесело засмеялся. – Двум смертям не бывать, а голова на плечах все равно одна. – Пройдясь по избе, он остановился возле тюка, искоса глядя на брезентовый мешок, мечтательно воскликнул: – Только б довезти! Довезти бы!
– Довезешь, Ваня!
– Все обстроено, Иван Иваныч, как нельзя лучше. До города домчит вас Катин знакомец – Петька Скобелкин. Парень бедовый, ямщик отменный. А там небось тоже не олухи к делу приставлены, – успокаивая Акимова, рассудительным тоном сказал Лукьянов.
Рассвело. В окна Окентьевой избы потек нежный багряный свет ядреного зимнего утра. Катя собрала на стол завтрак: свежие шаньги, соленые чебаки, мороженую бруснику в туеске. Ели молча, торопливо.
Потом Лукьянов вышел на волю, понимая, что в последние минуты Ивана и Катю нужно оставить одних.
Минут через десять он вернулся.
– Ямщик подъехал, Иван Иваныч. Кони стоят у стогов.
– Иду, Степан Димитрич.
Акимов и Катя быстро оделись, вышли вслед за Лукьяновым. Прямиком по снежной целине Лукьянов повел Акимова к стогам, возле которых, сгорая от желания скорее приступить к исполнению порученного дела, топтался в дохе, в высоких пимах и мохнатой шапке из собачины Петька Скобелкин – верный лукьяновский связчик.
Катя отстала сразу же неподалеку от избы. Акимов, встряхивая на плече тюк с бумагами Лихачева, шел, то и дело оглядываясь. Катя прощально махала рукой. Когда Акимов скрылся за деревьями, она всхлипнула и медленно побрела в избу Окентия.
4
Был уже поздний вечер, когда на окраине города Акимов молча пожал руку Петьке Скобелкину и зашагал по узкому, темному переулку. Возле деревянного дома с закрытыми ставнями Акимов остановился. С минуту он вглядывался в сумрак, перемешанный со снегом, падавшим на землю крупными хлопьями, и, убедившись, что поблизости никого нет, вошел в продолговатый двор, обнесенный высоким тесовым забором.
На стук в дверь ответили быстро, вероятно, его ждали здесь.
– Кто там? Что вам угодно? – послышался женский голос.
– С пасеки я. Мед привез, – сказал Акимов.
– Сейчас, одну минутку. Бронислав выйдет. – Хлопнула дверь, а через минуту перед Акимовым стоял высокий мужчина с вислыми усами, с ежиком на голове, в пальто, наброшенном на плечи.
– С пасеки к вам, дядюшка Бронислав. Хозяин послал.
– Давненько поджидаю. Все ли там у вас здоровы?
Высокий мужчина пропустил Акимова мимо себя, задвинул засов и, свободно ориентируясь в темных сенях, распахнул дверь в дом. Здесь высокий мужчина обнял Акимова.
– Здравствуй, товарищ Гранит! Ну, наконец-то встретились!
– Здравствуй, товарищ Бронислав! Давно не виделись!
– Если память не изменяет, с июля четырнадцатого года, товарищ Гранит. Помните нашу встречу у Ленина в Поронине?
– Как же не помнить! Такие встречи не забываются.
– А что это у вас за груз? Я думал, что вы налегке, – ткнув ногой в тюк с бумагами Лихачева, обеспокоенно сказал Насимович.
Акимов объяснил происхождение груза, который во что бы то ни стало следовало довезти до Стокгольма. Насимович задумался, разведя длинными руками, сказал:
– Эта неожиданность вносит серьезную поправку в наш план.
– Почему?
– Ради безопасности мы решили посадить тебя в поезд на площадке Предтеченская, верстах в семи от города. Не потащишь же этот тюк на спине.
– Унесу.
– Приметно.
– Как же поступить?
– Придется вариант переиграть. Есть еще одна возможность. В течение ночи подготовим. Раздевайся, товарищ Гранит, попей чаю. Маша, угощай, пожалуйста, гостя. Он, поди, проголодался с дороги.
Из другой комнаты вышла русоволосая, круглоглазая девушка. Окинув глазами Акимова с ног до головы, кивнула ему и принялась собирать на стол. Девушка то уходила за перегородку, где, по-видимому, размещалась кухня, то возвращалась оттуда с чашками и тарелками в руках. Всякий раз, посматривая на девушку, Акимов чувствовал, что она кого-то ему напоминает, и не столько внешностью, а манерой ходить, говорить, улыбаться.
Едва Насимович и Акимов сели к столу, чтоб не только попить чаю, но и поговорить, в ставню окна, выходившего во двор, постучали. Судя по стуку – три удара и еще три удара, – кто-то пришел из своих.
– Дуся пришла! – воскликнула Маша, устанавливая на стол горячий самовар.
– Я сам, Маша, встречу. – Насимович накинул пальто на плечи и вышел.
– А я вас видела. На карточке у папки. С такой огромной щукой. Там вы другой – без бороды, совсем молодой, – сказала Маша и, взглянув на Акимова исподлобья, подарила ему чистую, кроткую улыбку.
– На карточке у папки… У какого папки? – недоумевая, спросил Акимов.
– У моего папки. У Лукьянова Степана Димитрича, – усмехнулась Маша и, прищурив глаза, внимательно посмотрела на Акимова.
– Да вон вы кого мне напоминаете! – повеселел Акимов. – А я смотрю на вас и никак не могу припомнить, на кого вы походите… Ну, рад, очень рад познакомиться с вами. Степан Димитрич – давний мой друг…
Дверь открылась, и Насимович, поддерживая под локоть, ввел еще одну девушку.
– А это Дуся, моя сестра, – сказала Маша и, подскочив к сестре, приняла от нее платок, закрывавший голову, и суконное синее пальто с белым заячьим воротничком. Повесила на гвоздь в уголке.
Дуся очень походила на Машу. Тот же рост, такое же круглое лицо, такие же большие, настороженные глаза. Даже волосы и те были туго собраны в толстые косы, как у сестры. И одета Дуся была в точности как сестра: на ногах черные валенки, платье из бумазеи – желтая полоска на светло-коричневом фоне, желтый воротничок из крашеной нитки.
– Ну, Дусенька-лапушка, спасибо, что прибежала. Вдвоем с Машей вы быстро со всей работой справитесь, – не скрывая удовлетворения, говорил Насимович.
Дуся как-то испуганно посматривала на Акимова, явно стесняясь его. Она прошла в другую комнату возле него боком и весьма поспешно. И в этой ее стеснительности и было, вероятно, единственное различие с Машей.
– Наша наборщица, – шепотом сказал Насимович, провожая Дусю благодарным взглядом. – А кстати, товарищ Зося не переправила нам текст листовки?
– Привез. Вот она. – Акимов достал из кармана листок бумаги, подал Насимовичу.
– Посмотрим, посмотрим, – с живым интересом сказал Насимович, быстро надел очки и принялся читать. – Дельно… удачно… в точку… – изредка произносил он и взмахивал крупной стриженой головой.
Дочитав листовку, заторопился в другую комнату, откуда слышался приглушенный говор сестер. Затем там все стихло, через минуту раздались тяжелые и глухие звуки, которые возникают, когда открывается у входа в подполье тугая крышка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































