Текст книги "Сибирь"
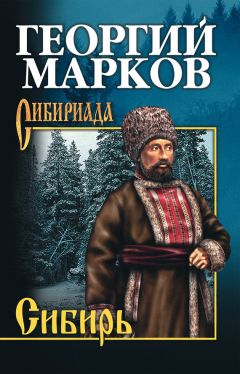
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
Приподнятое настроение Лукьянова передалось и Акимову.
– Ну, как там мужики, принимают нас на ночевку? – спросил он.
– Да что вы! Сами, говорят, потеснимся, а гостю место найдем. Как же можно иначе?
– Раз так – двинулись, Степан Димитрич, – сказал Акимов, не испытывая никаких опасений, что тут может произойти у него какое-нибудь осложнение.
Мужики толпились возле избы. Даже те из них, которые были в избе на отдыхе, поднялись, чтобы повидать Лукьянова со связчиком. Одни знали Степана как рыбака и охотника, другие – как проводника экспедиций Лихачева и партии управления путей сообщения.
Около навеса горел костер. Много мужиков сидело на сутунках и чурбаках, курили возле огня, присев на корточки, переговаривались. Теперь уже не так громко, как до прихода Лукьянова.
Акимов окинул взором мужиков. Сумерки уже надвинулись, но были еще не настолько густыми, чтобы не различать лиц людей, их одежду, обутку, уловить возраст.
С первого взгляда Акимов определил, что собрались тут люди немолодые. На него смотрели бородатые, морщинистые лица, с отпечатком трудной жизни, которая выпала на долю этих людей. Мелькнули три лица помоложе. Это бывшие солдаты. Один из них был без руки, второй – на деревянной ноге, а у третьего снаряд скосил подбородок и на щеках лежали красные рубцы, не успевшие еще по-настоящему зажить. Одежда на мужиках была пестрой. Несмотря на морозы, некоторые одеты не в полушубки, а в зипуны, а двое из бывших солдат – в подрезанных шинелях.
– Проходи, Степаха, с гостем в избу. Там все-таки можно скорее обогреться, – хрипатым голосом сказал мужик в зипуне, несколько отделившись от остальных.
– Ты не хлопочи, Иван Егорыч. Мы ведь не замерзли. На ходу-то знаешь как греет, – ответил на приглашение хозяина избы Лукьянов.
– А все ж таки… Проходи, земляк, будь у нас как дома, – обратился Иван Егорыч к Акимову, и тот заметил, что мужик ощупывает его глазами с ног до головы.
– Не беспокойтесь, спасибо, – сказал Акимов и развязал постромки лыж, поставил их стоймя, рукавицей обтер меховую обшивку, потом воткнул в сугроб.
– Чай я сейчас подогрею, уха тоже осталась. Заходите. – Хрипатый Иван Егорыч распахнул дверь избы, пропустил гостей вперед.
В избе было душновато. Воздух провонял самосадом. Но стены еще не успели высохнуть от смолы, и ее освежающий аромат перешибал все другие запахи. Потрескивал в баночке жировик с круглым фитильком из ваты.
– Хлебца, земляки, у нас нету, а вот сухари, пожалуйста, – угощал Иван Егорыч гостей, выставляя на стол ведерный котелок с остатком ухи и пузатый медный чайник.
– Как рыбалка, Иван Егорыч? Ловится, нет? – приступил к расспросам Лукьянов, стараясь заранее отвести вопросы хозяина избы от себя и от Акимова.
Хрипатым голосом, откашливаясь с натугой, Иван Егорыч заговорил о трудностях промысла. Ловилось плохо, и не потому, что оскудела река. Наоборот, рыбы стало больше, но вот снасть за эти годы поизносилась. Надо обновить и самоловы и переметы. Дело вроде очевидное, а сделать это нелегко. В городе настоящих стальных уд ни за какую цену не найдешь. Перестали делать фабричную бечеву, исчезла также дель из беленой льняной и конопляной нитки. Охотничьему ремеслу тоже труба пришла. Порох, дробь, пистоны можно добыть только из-под полы и по такой цене, что каждый выстрел чуть не золотом оборачивается.
Акимов слушал Ивана Егорыча молча, делая вид, что он увлечен едой. Лукьянов согласливо поддакивал, так как беды, о которых говорил старый чулымский рыбак, хорошо были известны ему по собственному опыту.
Пока Иван Егорыч рассказывал, в избу поодиночке стали входить мужики. Вскоре они заполнили избу от стола до самого порога, прислушивались к беседе, в которой, собственно говоря, принимали участие двое – Иван Егорыч и Лукьянов. Мужики сидели, сгрудившись на скамейке и нарах, стояли, опершись на дверные косяки. Кто как мог и как позволяли условия.
Когда хрипатый голос Ивана Егорыча умолк, послышался незнакомый голос безрукого солдата.
– Видать, дядя Степан, твой связчик – городской человек, – сказал он и уставился на Акимова. – Небось знает, как там война-то. Скоро ли замирение-то будет?
Лукьянов растерянно посмотрел на Акимова.
– Как, Гаврил Гаврилыч, можешь или нет что сказать? У кого что болит, тот про то и говорит, – призывая Акимова сдержанной улыбкой к снисхождению за любопытство мужиков, проговорил Лукьянов.
«Нет, брат, как ты ни выряжайся под голубицу, – беркута по полету узнают», – с беззлобной улыбкой подумал о себе Акимов.
– Сообщений с фронта давно я не читал. Сколько уж мы с тобой, Степан Димитрич, колесим тут по рекам-то? Но дело не в сообщениях. У войны нет другого исхода, как захлебнуться в крови народа. А у России один выход – сбросить царизм…
Акимов взглянул на мужиков и понял: нет сейчас на свете ничего другого, что так бы глубоко задевало крестьянство, как война, положение России, ее ближайшее будущее. Мужики, казалось, дыхание затаили. Цигарки и трубки пригасли. В такой момент никто не рисковал даже курить. За потягиванием дыма, шлепаньем губами о чубуки можно было упустить какие-то важные слова этого человека из управления путей сообщения, как его представил Лукьянов. Но, впрочем, насчет путей сообщения немногие верили. Видели, что этот городской человек совсем-совсем иной хватки. Не сильно-то заставишь техника путей сообщения пешком чертомелить по несчитанным таежным далям. Да и на что технику путей сообщения реки в зимнее время, когда они скрыты подо льдом и снегом? Что он тут увидит, что поймет? Хоть и ловок Степаха Лукьянов, славен и знаменит своими охотничьими делами, а тут его придумка слабовата, прямо скажем, для дураков. Ну, а кусковские мужики сроду дураками не бывали, их провести на мякине просто немыслимо. Они сами кое-что знают про тайные дела борцов с царизмом. В Старой и Новой Кусковых десятка полтора дворов Тройских, Кубицких, Яблоньских, Броневских. Это все дети польских повстанцев шестьдесят третьего года, нашедшие приют среди коренных сибирских чалдонов. Свежи еще в памяти воспоминания о том времени, когда тысячи поляков по зловещей царской милости были выброшены в суровую Сибирь на произвол судьбы. Не окажи им тогда местные жители помощи, не протяни руку сочувствия, исчезли бы с лица земли бесследно не только сами польские повстанцы, но и дети и внуки их.
Знакомы были кусковские мужики с царской милостью и в самые последние годы. В седьмом, десятом, двенадцатом годах в Старо-Кускову и Ново-Кускову нахлынули ссыльные. Это были рабочие и студенты из Москвы, Петрограда, Ростова-на-Дону, Харькова. Голодные и холодные. Ни один не загиб здесь. Всех обогрели и накормили, научили добывать пропитание из рек и тайги простейшей ловушкой кусковские крестьяне.
А скольким беглецам кусковцы подали краюшку хлеба, ковш воды, подсказали, как лучше пройти, чтоб миновать опасности в дороге?! Что касается Ивана Егорыча Зайцева, то немало поводил он по чулымским таежным трущобам, рекам и озерам любознательных студентов, будущих естествоиспытателей.
Чем больше говорил Акимов, тем очевиднее становилось мужикам, что у этого техника первая забота на уме не пути сообщения по рекам Сибири, а царь со всеми своими душегубами: министрами, сенаторами, генералами, жандармами. Мужики никогда еще не слышали таких слов, какими рисовал этот молодой бунтарь жизнь народа. Казалось, не слова, а бомбы летят из его уст. Сотрясается земля, рушатся подгнившие устои царской империи. Над всем этим смердящим пепелищем занимается заря нового дня России.
Истерзались мужики, живя отрешенными от правды. Посыпались из всех углов вопросы, едва Акимов замолк, чтоб перевести дух. «Этого царя смахнем, а другой не взберется на его место?», «Царя не будет, кто над народом стоять будет?», «Германец, не будь дурак, не кинется без царя на наши земли? Как его остановить?», «На женское сословие новая власть будет землю давать или опять бабы будут работать за здорово живешь?», «Куда девать царя с охвостьем?», «Какое размышление насчет способий калекам, солдаткам и сиротам?», «Сказали: рабочие и крестьяне должны быть заодно. Не подведут ли городские люди? Кто землю не пахал, тот и бед не видал. Поймут ли, чё мужику надо?», «Кто сильнее – бог или царь? Почему бог не рассудит с царем по-своему?»…
Акимов отвечал на все вопросы подробно, не спеша. Развивая их, он ставил от себя дополнительные вопросы. К концу беседы крестьяне многое узнали о тактике большевистской партии, о ее стратегических задачах в назревающей новой русской революции.
Говорить Акимову было тяжело. В избе стало невмоготу душно и смрадно. Жировик уже не горел, а едва-едва мерцал. Голос у Акимова, вначале громкий и отчетливый, осип, по лбу и щекам стекали капли пота.
– Ну что, мужики, не пора ли покой дать гостю? – сказал Иван Егорыч, видя, что иным способом не приостановить поток вопросов.
Мужики умолкли, выходили из избы неохотно, молчаливые, погруженные в свои думы. Вышел вслед за ними на воздух и Акимов. И тут снова расспрашивали его о фронте, о жизни крестьян в других местностях России. Наконец, проветрив избу, Иван Егорыч зазвал Акимова и Лукьянова назад и уложил их на нары, уступив прежде всего и свое место. А часа через три он же поднял их, напоил чаем в сумраке, чуть раздвинутом открытой печкой, и показал, как выйти на летнюю тропу с затесом. Лес был еще погружен в темноту. На небе никаких признаков, что приближается утро, но оно приближалось. Потянул верховой ветер. Закачались макушки деревьев, посыпалась кухта, касаясь своими острыми кристалликами щек и ресниц людей. Шумом и свистом наполнилась непроглядная Чулымская тайга.
Акимов отошел от стана саженей сто, оглянулся. Сквозь голые деревья увидел пылавший костер, скученные фигуры крестьян, обогревавшихся возле огня и ожидавших своей очереди на сон в избе, подумал: «Нет, нет, эти люди достойны лучшей судьбы. И они вырвут ее у российского царизма и капитала. Придет срок, придет!»
Он вспомнил о своем ночном разговоре с кусковскими мужиками, об их вопросах, похожих чем-то на жадные глотки истомленного зноем путника, и не пожалел, что был с ними откровенен и прям, как с товарищами по борьбе.
5
Очередной привал Лукьянов устроил на усадьбе Юксинского староверческого женского монастыря. Поляна, на которой когда-то размещался монастырь, заросла подлеском, покрылась от осевших построек буграми и ямами. Мало-мало сохранилась лишь келья игуменьи, расположенная на берегу речки, на холме, в окружении кедров и сосен. Несомненно, и это убогое, вросшее в землю строение так же сгнило и развалилось бы, как и другие постройки, если бы охотники, проходившие здесь по тропе, время от времени не протапливали избу, спасаясь в ней в зимнюю и осеннюю пору от холода, снежных буранов и проливных дождей.
Когда вошли в избу, Акимов осмотрел ее тесаные стены, покрывшиеся грибком, плесенью и трухой, и, взглянув на Лукьянова, спросил:
– Неужели, Степан Димитрич, в самом деле жила здесь игуменья?
– Без ошибки. Звали ее Евфалия. Видная, говорили, была старуха, властная. Весь монастырь в кулаке держала. Их тут, монастырей-то, по юксинским лесам несколько. Долго тут монахи и монашки жили, а все-таки, как староверчеству подорвали корни, и они стали таять.
– А какого они толка?
– Чего по-настоящему не знаю – про то и врать не буду. Называли себя некоторые бегунами, а что к чему, объяснить не могу. Родитель мой сказывал, что особые строгости блюли в этом женском монастыре. Ну, оно и понятно. Везли сюда девушек со всех мест и даже из других держав. Про саму игуменью тоже болтали, что она приехала из Вены, умела говорить по-французски и по-немецки.
– Выходит, многое видели эти стены, многое слышали, – снова окидывая глазами избу, задумчиво сказал Акимов.
– Не говорите! Сколько здесь слез пролилось – ведром не вычерпаешь. Рядом тут есть озеро, небольшое, но глубокое. Дно в солнечный день не просматривается.
Охотники назвали это озеро «Девичьи слезы». Видать, назвали не зря. Молодые монашки сигали туда с грузилом на груди. Долго в этом озере рыбу не ловили: человечиной питалась.
Акимов представил себе жизнь девушек в монастыре, все, что могло происходить под этой крышей… Каторга, секретный отсек Шлиссельбурга, ад… Захотелось встать и уйти отсюда немедля. Лукьянов словно почувствовал его настроение.
– А теперь эта келья, Иван Иваныч, сильно пригодилась. Был у нас тут такой случай: в Лукьяновке в начале войны из этапа арестантов сбежали семь человек. Сразу! Спрятались у одной старухи в погребе, в огороде, а та ко мне: «Степан, спасать людей надо! Не отдавать же их полицейским на расправу». Привел я их сюда, и жили они тут до осени, пока им в городе новые бумаги не изготовили. Передавал мне потом один мужик из Александровки – рыбой из озера кормились, шутили между собой: «Если б не «Девичьи слезы», была бы у нас одна мужская печаль». – Лукьянов рассмеялся, и его смех – смех здорового, сильного человека вывел Акимова из состояния безмолвного ожесточения.
– Все эти темные закоулки Российской империи революция вычистит морской жесткой шваброй, – тихо, с затаенной яростью проговорил Акимов, щуря глаза и оставаясь сосредоточенным на какой-то своей мысли.
Лукьянов не отозвался, понял, что сказано это Акимовым для самого себя.
Они посидели в келье игуменьи с полчаса и принялись готовить обед. Лукьянов чистил рыбу, Акимов разжигал печь, таскал из леса сухие сучья.
Узнав, что тут им предстоит ночевка, Акимов удивился: добрая половина дня была еще впереди.
– К вечеру можно и до Окентия дошагать бы, а не велено, Иван Иваныч. Теперь тут поглядывать в оба надо. Как-никак до селений рукой подать, – сказал Лукьянов.
Акимов не стал возражать. Самое разумное в его положении – уповать на товарищей. Он уже не раз приходил к этому выводу.
Когда в келье игуменьи нагрелось, Акимову она показалась более уютной и не такой уж мрачной. Можно и переночевать, а уж если припрет необходимость, то и пожить можно, как пожили здесь бежавшие из этапа мужики. Подумав о беглецах, Акимов вдруг почувствовал острое любопытство к ним.
– А куда гнали тот этап, Степан Димитрич, из которого бежали семь человек? – спросил Акимов.
– Сказать точно не могу. Одно из двух: либо на копи Михельсона в Анжерку, либо на прииски в Мар-тайгу. А может быть, к Енисею, поближе к местам ссылки.
– Фактически на каторгу. А почему гнали пешим порядком? Железная дорога ведь рядом.
– Ну, это понятно почему: то вагонов нет у дороги – ведь война, – то продукции на этап недостает. А тут шагают себе арестанты и шагают, народ их меньше видит да и пропитать легче. Где купят, где уворуют, где просто задарма возьмут…
– Смотря по обстоятельствам, – усмехнулся Акимов.
– Именно. Насчет податей и поборов только в уложениях о сельских общинах аккуратно расписано, а на самом деле кто только не берет с крестьянина!
– Поп, урядник, староста, волостной старшина, – начал перечислять Акимов.
– Ну, эти вроде свои – живут рядом, – засмеялся Лукьянов, щуря разноцветные глаза. – А чуть подальше – становой пристав, исправник, крестьянский начальник, мировой судья… Э, да всех не перечислишь!
И в минуты этого разговора, и немного позже, когда они сели обедать, Лукьянов несколько раз едва сдерживал себя от желания заговорить о бумагах Лихачева. Но в самый последний миг вдруг снова впадал в сомнения: «А надо ли говорить ему о бумагах? Не повредит ли это Лихачеву с какой-нибудь стороны?» А не сказать тоже нехорошо. Вдруг они встретятся, зайдет речь о нем, Лукьянове, профессор спросит: «Ну, а насчет бумаг моих он тебе сказал? Велел я ему побывать на Кети, выручить оттуда мои бумаги, сохранить их до поры до времени… Денег не пожалел, переслал заранее, авансом, чтоб интерес был. Незадаром просил…»
Так в сомнениях и прошел обед. Лукьянов пока ничем не выдал их, таил глубоко. Тем неожиданнее оказался для него вопрос Акимова:
– А что, Степан Димитрич, на Кети вам приходилось бывать после путешествия с дядюшкой?
Акимов вспомнил в этот час грудастые, как плывущие ладьи, залесенные холмы, раскинувшиеся вокруг Лукашкиного стана.
«Ну, вот и случай», – обрадовался Лукьянов.
– Бывал, Иван Иваныч! Как раз собрался рассказать вам, а вы сами полюбопытствовали, – оживляясь, заговорил он. – Случилось все так. Вдруг по весне четырнадцатого года прибыл ко мне гонец от Венедикта Петровича, от дядюшки, значит, вашего. При нем письмо в большом пакете с черной подкладкой. Написано крупно, разборчиво, чтоб можно было понять каждое слово. Пишет мне ученый человек с обхождением, уважительно: «Любезный Степан Димитрич, помогите в моей беде. Как вы знаете, у меня затерян тюк с бумагами. Как раз бумаги кетского путешествия: карты, снимки, зарисовки, а самое главное, мои дневники. Предполагаю, что забыты они мною на основной стоянке. Помните, чуть выше Белого яра? А возможно, где-то в другом месте. Поищите. Знаю, что прошу вас о великом одолжении, отрываю от работы, и все ж другого выхода не вижу. В покрытие хотя бы части ваших расходов по такой отлучке из дому направляю вам со своим кучером сто рублей. Не обессудьте, что не велик капитал. Обезденежел. Вытряхнули экспедиции всю мошну без остатка. Ну, да впредь в долгу не останусь. Поспешите, любезный Степан Димитрич, обрадуйте. Сердце и так заходится от предчувствия: а вдруг изгрызли мои бумаги лесные грызуны? Что тогда делать? Если бумаги окажутся целы, мчитесь с ними стремглав ко мне. Пусть падут оковы с души моей. А уж если судил господь быть по-иному – то будь что будет».
Лукьянов пересказал письмо Лихачева без запинок: видимо, не один, не два раза прочитал он его, запомнилось на всю жизнь.
Акимова обуяло нетерпение.
– А что дальше было, Степан Димитрич? – поторопил он Лукьянова, у которого, как назло, загасла цигарка и тот шлепал о нее губами, тянул воздух в себя, а цигарка никак не разгоралась. Почуяв, как захвачен собеседник его рассказом, Лукьянов открыл дверцу печки и выплюнул цигарку в огонь.
– А, холера ее забери! – выругался он и сел на прежнее место. – Что было? А было то, что начал я собираться в путь, – продолжал он. – Разве мог я не подмочь Венедикту Петровичу, не откликнуться на его зов? Да путь-то только не близкий. Это зимой встал на лыжи и дуй прямиком куда хочешь, а весной каждый ручеек норовит рекой стать. Пришлось пережидать спада воды. Месяц прошел, а то и поболе. Проплыл я по Чулыму до Лысой горы, оттуда начал пробираться до Кети по тропам. Иду, а сам думаю: «Ладно, если бумаги найду, а вдруг поход мой как холостой выстрел: дымок есть, а добыча нетронутая гуляет на просторе». Ну, пришел на Кеть, связал плот, переплыл на тот берег. Вот он и стан наш. Подхожу к шалашам, а у самого стукоток в груди. Прутья на шалашах подгнили, лист вовсе сопрел, а остовья стоят, как вчера вбитые в землю. «Где же, думаю, искать-то тюк с бумагами Венедикта Петровича? С чего начинать?» Вначале осмотрел шалаш, в котором вы, Иван Иваныч, с дядюшкой жили. Ничего не нашел. Потом осмотрел два шалаша наши, мужицкие. Тоже пусто. Приуныл я. Смотреть больше негде. И уж совсем собрался плыть вниз, на вторую нашу стоянку, да вспомнил, что у самого берега, в лесочке, был у нас еще один шалаш, в котором провизию хранили. Помните, Иван Иваныч, сразу на склоне невысокого яра?
– Как же не помнить? Помню все шалаши. А только шалаша в лесочке при мне не было: провизию хранили в подкопе берега.
– И правда, вы не должны его знать. В последнее путешествие без вас шалаш этот соорудили. Подкоп в береге обвалился, подмыло в половодье… Ну, ладно. Осмотрел я и этот шалаш. Но и в нем ничего не оказалось. Вылез из шалаша-то, стою, думаю: «Как же быть дальше? Может быть, заночевать мне тут? Вечер близится». Поднял это голову-то, чтоб взглянуть на солнышко, сколь низко оно над лесом опустилось, и вдруг вижу: напротив меня, на суку, под сосновыми ветками, висит брезентовый мешок. Я от радости-то чуть «ура» не закричал. Нашел! Ведь тут можно было всю землю сквозь сито пропустить, а мешка этого не найти. Сподобил же меня бог в тот момент оторвать глаза от земли и взглянуть чуть повыше. Не случись этого, вернулся бы ни с чем. Понял я тогда и как утрата эта произошла. Видать, когда мы лодки-то загружали, кто-то возьми да и повесь мешок-то с бумагами на сучок. А после погрузки я, как старшой, осмотрел шалаши, ничего не обнаружил, ну и ударили мужики веслами по воде. Бумаг своих Венедикт Петрович хватился аж на пятый день пути. Погоревал-погоревал да и умолк. «Найду, мол, на будущий год. Никуда не девается». А будущий год-то не получился. Пошло все через пень колоду… Ну, снял я с сука мешок с бумагами, осмотрел. Все в сохранности, порчи никакой. Брезент чуть почернел, но нигде не прохудился. Еще бы пять лет висел и вытерпел. Переночевал я у шалашей и на рассвете тронулся в обратную дорогу. Тюк хоть был увесистый, грел спину, а все-таки не изнурял. С таким грузом можно идти. Дотащился до Лысой горы, а дальше поплыл по Чулыму. В Лукьяновке передневал и скорее в город. Вот, думаю, обрадуется Венедикт Петрович! Не зря ведь писал, что душа в беспокойствии. В Томске в его доме и прежде доводилось бывать мне. Поднялся на крылечко, дергаю за проволоку, топаю нарочно погромче. Ни ответа ни привета. Вдруг выходит из соседнего дома барыня под зонтом. День жаркий, печет так, что не продохнешь. «Вы что, господин хороший, – обращается ко мне, – к профессору Лихачеву?» – «Да, говорю, к Венедикту Петровичу по неотложному делу». – «А вы что, его сродственник или еще кто?» – спрашивает она и косит глазами на брезентовый тюк. «Почти, говорю, сродственник. Сколько лет вместе путешествовал с Венедиктом-то Петровичем». – «Странно, говорит. Если вы сродственник, то должны же знать, что профессор неделю тому назад отбыл насовсем в Санкт-Петербург». – «Как, говорю, насовсем? Этого не может быть. Он ждал меня и не мог уехать». – «А вот выходит, что не очень ждал. Уехал. Навсегда. Будет теперь вносить смуту в другом месте». И барыня с этими словами застучала каблучками по доскам тротуара. Я верил и не верил тому, что она сказала. Снова принялся дергать за проволоку, а потом даже в окно постучал. Но тут из того же соседнего дома вышел важный такой барин с тростью в руке. «Напрасно, говорит, стараетесь. Профессор Лихачев отбыл в Петербург. В доме этом никого нет». Вот уж тут, Иван Иваныч, слезы брызнули у меня. «Да за какие же провинки; думаю, такое наказание мне?» Сколько я там на крыльце простоял, не помню, потом кинул тюк на плечо и поплелся на постоялый двор.
– И где же этот тюк теперь? – поспешно спросил Акимов, и Лукьянов заметил, что в глазах его вспыхнули лихорадочным блеском тревожные огоньки.
– Берегу. Дома в ящике под замком держу. Вдруг Венедикт Петрович востребует.
– Ну, событие! – воскликнул, повеселев, Акимов. – И мне ведь об этом ни звука. Не любит дядюшка о своих промашках другим расписывать.
– Он и тогда, в пути, виду особого не показывал. Погоревал, и все. «Звонок, говорит, Степан Димитрич». Я не понял, спрашиваю: «Какой звонок, Венедикт Петрович?» – «Не из приятных звонок. Напоминает он о приближении старости. Собранность уходит, память слабнет».
– Полукавил дядюшка! У него столько собранности, что другому молодому поучиться.
– «Затмение, говорю, у каждого может быть, Венедикт Петрович». – «Не утешайте, говорит. Раньше ничего подобного со мной не могло произойти, Степан Димитрич». Мне-то тогда тоже от этой потери лихо было. Вроде и мой недосмотр. – Лукьянов умолк, вздохнул, потом заговорщическим тоном продолжал: – Одним словом, Иван Иваныч, если свидитесь с профессором, передайте: буду тюк его беречь сколько надо, а уж коль смертный час придет, накажу и жене, и сыну, и дочкам… А может быть, у вас другое размышление? Прихватить бы тючок вам с собой… А только как?
Вот именно: как? Услышав о бумагах ученого, таким странным образом оказавшихся у Лукьянова, Акимов прежде всего подумал: «Заберу с собой. Вот будет радость дядюшке! Ждет меня одного, а я явлюсь с бумагами его кетских путешествий… Наверняка они нужны ему сейчас позарез».
– Сколько, по-вашему, Степан Димитрич, весу в этом тюке? – прищурив глаза, спросил Акимов.
– Не пробовал взвешивать, Иван Иваныч.
– А приблизительно?
– Приблизительно… – Лукьянов задумался. – Ну, уж никак не меньше пуда. А может быть, и побольше… Думаю все, с чем бы сравнить, и не могу ничего подходящего найти. Мешок с кедровыми шишками? Тяжелее. Гораздо тяжелее. Заплечная сумка с ружейным припасом и харчами? Пожалуй, полегче. А в ней пудик-то вполне наберется.
– А можно этот тюк посмотреть, Степан Димитрич?
– Он у меня в Лукьяновке, а нам туда заходить ни в коем разе нельзя.
– А доставить его куда-нибудь на очерёдную остановку можно?
– Можно доставить к Окентию Свободному, хотя времени у нас в обрез. Ну, постараюсь.
– Постарайтесь, Степан Димитрич.
Спать они легли рано, чуть только стемнело. Лукьянов рассудил: уж раз придется тюк из Лукьяновки тащить к Окентию, это значит, путь его завтра увеличится верст на пятнадцать – двадцать. Чем раньше они придут на заимку Окентия, тем легче обойдется ему поход в Лукьяновку за бумагами Лихачева.
Но спалось плохо. Лукьянов все думал о бумагах. Не поспешил ли он со своим признанием? Все-таки Акимов только племянник профессора, а не сам профессор. Бумаги же принадлежат профессору, и никому более. Вдруг ученый останется недовольным его решением отдать бумаги Акимову? Более того, он может в любой момент востребовать их, и что в этом случае ответит он Лихачеву? Отдал бумаги Ивану Ивановичу. Так-то так, а по чьей указке это сделано, Степан Димитрич? Разве вас об этом просили?
Мысленно Лукьянов метался, все еще оставляя за собой право в решительную минуту сказать Акимову: «А бумаги, Иван Иваныч, отдать не могу. Извиняйте за поспешность, за необдуманность. Будут вручены только профессору».
Просыпаясь и ворочаясь на жестких нарах, прикидывал возникшую ситуацию и Акимов. «Не взять бумаги дядюшки – глупость и безумие. Второй подобной оказии никогда не возникнет. Уж коли Венедикт Петрович взялся за свой труд о Сибири, легко себе представить, сколь необходимы ему материалы кетских путешествий. Неудобство в дороге, безусловно, от этого дядюшкиного тючка будет немалое, но что ж делать? Возят же товарищи и литературу и оружие, рискуют, конечно, страшно, но все-таки дело свое делают. Чем же я-то лучше их? Во всей нашей партии, пожалуй, не найдешь ни одного такого товарища, который бы, решая одну задачу, упустил бы случай, когда можно что-то сделать и сверх того! А тут у меня получается одно к другому. Не только сам еду к ученому – везу ему подспорье в виде его собственных материалов».
Нет, в отличие от Лукьянова, Акимов не колебался и, может быть, потому спал хоть и с перерывами, но крепким, здоровым сном, который и силы возвращает, и бодрость поддерживает.
6
Когда сквозь голый лес показалась бревенчатая, с покосившейся от снежного намета крышей изба Окентия Свободного и напахнул дымок, расползавшийся по примолкшей тайге, Лукьянов остановился.
– Придется вам, Иван Иваныч, немножко подождать здесь. Зайду в избу, огляжусь, переговорю со стариком, – сказал Лукьянов.
– Да разве с ним не было разговора раньше? – спросил Акимов.
– Был, конечно, разговор. А все-таки в избу я зайду поначалу один. Осторожность не мешает.
– Спору нет, – согласился Акимов.
Лукьянов скатился в лог, потом поднялся на его противоположный склон, снял лыжи, воткнул их в снег и скрылся в избе. Акимов закурил, сдвинул шапку на затылок, прислушивался к зимнему лесу. Приятно освежал морозный воздух запотевшую голову. Было хорошо и ногам, отдыхавшим в покое. Сегодня Лукьянов торопился, несколько раз переходил на такой бег, что Акимов отставал на полверсты, невольно вспоминая тунгусского озорника Николку. В том, что Лукьянов торопился, ничего необычного или непонятного не было: в течение вечера и ночи, ему предстояло сходить в село и вернуться назад на заимку. Но переход от озера «Девичьи слезы» до избы Окентия согрел Акимова, притомил. Видно, у охотников какая-то своя мера всему. Совсем не оправдались слова Лукьянова: «Тут до Окентия рукой подать». Они шли и быстро и долго. Правда, шли по равнине, прямиком, не карабкались, как вчера, по лесным завалам. В другой раз надо поосторожнее относиться к словам таежников. Настроился бы сразу же на более трудный путь, легче было бы.
Акимов выпускал изо рта клубочки дыма, взглядывал на макушки деревьев с охапками снега на сучьях, на белесое, в свинцовых пятнах небо и думал о завтрашнем дне. Именно завтра или послезавтра произойдет самое ответственное событие в его побеге, затянувшемся на столько месяцев. Наконец товарищи должны доставить его в Томск и там посадить в поезд, который пойдет на запад, все дальше и дальше от Сибири.
Все ли произойдет, как намечено? Все ли предусмотрено?
И прежде и сейчас Акимов чувствовал, как где-то внутри, за грудной клеткой, от этой мысли натягивается струна тревоги и сердце начинает стучать редкими и сильными ударами. Нетерпение… Это врывается в его душу нетерпение, жажда действий, загорается страсть к борьбе… Он сдерживал себя, старался ослабить эту струну, рисовал самое худшее… А самое худшее – это снова арест, тюрьма, стены, отрыв от природы, в которой он всегда найдет себе дело, как нашел его в Дальней тайге… лишь бы не разлучили с землей, не заковали в каменное безмолвие… А так, как он жил эти месяцы, жить все-таки можно… Наблюдать и думать ради будущего… Ради будущего, которое не может не прийти…
– Иван Иваныч! – вдруг услышал он голос Лукьянова и отбросил окурок, который прижигал уже пальцы.
– Эге! – откликнулся Акимов и заспешил на зов. Немного не дойдя до избы, он остановился и, отведя от лица темную пихтовую ветку, увидел картину, которую увидеть никогда не ожидал. Рядом с Лукьяновым стояла… Катя – Екатерина Ксенофонтова, сестра его друга и наставника в партийных делах Александра Ксенофонтова, его «невеста», доставлявшая в предварилку продукты и важные инструкции от товарищей, а самое главное, в чем он давно уже признался самому себе, его сердечная тайна, его любовь…
Катя была одета в крестьянский полушубок, в пимы, голова ее утопала в шали, но его острые глаза не могли ошибиться: это ее лицо, с круто очерченными бровями и круглым подбородком, с прямым носиком и выразительными черточками от носа к уголкам красных, ярких губ, пылало радостью. Акимову показалось даже, что по щекам ее покатились слезинки и она поспешила вытереть их черной рукавичкой.
Лукьянов слегка подбоченился, выставил одну ногу вперед и, вскинув бородку, весело смеялся. Он что-то узнал от нее в эти минуты и был доволен, что они встретились, и встретились не без заботы его самого о них.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































