Текст книги "Сибирь"
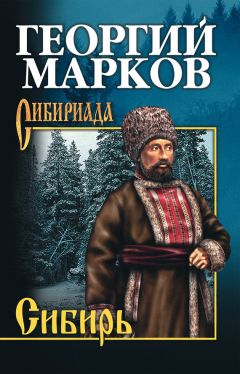
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
– Ой, расскажите, пожалуйста, Степан Димитрич! – вскинув на Лукьянова просящие глаза, взмолилась Катя, не упуская случая продолжить разговор, пусть даже совсем не о том, о чем ей хотелось.
– Это нам сегодня в Старо-Лукьяновке у Федосьи рассказали, – спокойно начал Лукьянов. – Так ли было или молва приукрасила – сказать не могу. За что купил, за то и продаю. Будто так дело было. Выехала из Томска почтовая подвода. Везли на этот раз деньги сиротам и солдаткам. На подводе – почтарь-калека да ямщик годов восьмидесяти. Ну, едут себе тихо-мирно, вдруг за Подломным в логу встречает их артелка варнаков: «Стой-постой!» Остановились. Почтаря они повалили, заткнули ему рот тряпкой, чтоб не орал, а старика огрели палкой по башке. Много ли ему надо? Ну, забрали сиротские деньги и скрылись. Сказывают: рыщут теперь полицейские по всем деревням. Да где их, грабителей-то, возьмешь?
– Слышали и мы с Машей об этом же, Степан Димитрич, – сказала Катя.
– Двое полицейских нас обогнали. Спешно куда-то скакали. А вслед за ними почтовая подвода под охраной, с солдатом, – добавила Маша, переглядываяь с Катей и как бы получая ее согласие на этом и закончить сообщение отцу о встрече на тракте. О том, как Карпухин велел их подвезти, рассчитывая, по-видимому, в Семилужном устроить увеселение, девушки рассказывать не стали: было в этом что-то недостойное, скабрезное.
– Пиши – пропало!.. Тут по Сибирскому тракту не такие дела делались. Караваны с золотом грабили. И шито-крыто до сей поры. А уж сумку-то с сиротскими деньгами найдут где запрятать. – Лукьянов усмехнулся. – Гм, двое полицейских! Хвати, так они, эти полицейские, в доле с варнаками… Нашли кого грабить, будь они прокляты! Пусть эти деньги сирот и вдов встанут у них поперек горла!
«О, да он в гневе беспощаден!» – с искоркой удовлетворения подумала про себя Катя, заметив, как разноцветные глаза Лукьянова сощурились и засверкали в сумраке каким-то металлическим отливом.
– Ты вот меня про деревню спрашивала, Катя: поднимется ли, дескать? – помолчав, заговорил Лукьянов, озабоченно морща лоб и постукивая длинными пальцами о столешницу. – Шибко трудное это дело. Лучшую силу взяла война. Заколыхалась деревенская жизнь, и теперь ничем не остановить эту тряску. Уляжется само по себе – ладно, а не уляжется – другим временам придет начало. Коренное с места стронулось, – как бы заключая свою мысль, прихлопнул ладонью о стол Лукьянов.
Кате хотелось спросить Лукьянова, в чем ему представляется выход деревни из встряски, о которой он сам заговорил, но дверь широко открылась, и на пороге показалась Татьяна Никаноровна, да не одна, а с каким-то мужиком позади.
– К тебе, Степан, вон от старосты, посыльный, – сказала Татьяна Никаноровна и отступила от двери в сторону.
Посыльный был с батожком в руках, в тулупчике под опояской, в черных пимах, в шапке-ушанке, надвинутой на заросшее бородой морщинистое лицо. Лукьянов встал, шагнул навстречу, пригласил посыльного присесть, но тот замахал рукой, дребезжащим от старости голоском сказал:
– Нет, нет, Степаха, побегу. Староста велел вечером обойти всех. На сборню поутру. И не вздумай не прийти. Загрызет он меня.
– А чего он собирает-то? Опять царю солдаты понадобились? – спросил Лукьянов. Он и предположить не мог, что не староста, а сам Судаков и его сторонники подослали старика с этим наказом. Посыльный закрутил головой.
– И не спрашивай! Велел прийти, и все.
– Ну, а писарь-то неужто ничего не пояснил?
– Писарь-то? Пояснял. Сказывают, будто Кондрата Судакова с бабой и ребятишками на судьбище выводят.
– Чем они провинились? – спросила Татьяна Никаноровна, переглядываясь с Машей и Катей.
– Рыбу, сказывают, в недозволенном месте ловили.
– Как это так? Что это за недозволенное место? Бариново, что ли? Вроде помещиков у нас нету, – сказал Лукьянов, но посыльный замотал головой и поспешил уйти.
– Не подведи, Степаха. Съест староста живьем, – бормотал старик, постукивая батожком и осторожно прикрывая за собой дверь.
Глава пятая1
«Сборная» размещалась в пустом доме Калистрата Лычкова. Таких «бросовых» домов в Лукьяновке было уже около десятка. Война делала это просто. Хозяин погибал на фронте, а хозяйка с малолетними детьми и древними стариками, стиснутая беспроглядной нуждой, отправлялась мыкать горе куда-нибудь поближе к родне, а то и в город. Какую бы цену ни вздумала назвать хозяйка за дом, даже самую пустяковую, покупателей все равно не находилось. Дома бросали, как самую ненужную ветошь, и если что-то платили за них, то платили сами же жившие тут. Платили слезами. Чем больше лет было прожито в доме, тем горше было расставание с ним, тем круче были замешены на солях печали горькие слезы, тем больше лилось их…
Дом солдатки вдовы Нелиды Лычковой просторный, как сарай. Срубленный в свое время на четыре угла, он внутри был перегорожен тесовой переборкой. Нелида вот уже два года как уехала на шахты. Сказывали, что там на мужской, тяжелой работе можно хоть заработать на кусок хлеба. А тяжести не пугали ее, лишь бы получить что-нибудь на пропитание.
Дом приспособили к нуждам «обчества». Староста велел выломать переборку, смастерить из плах и чурбаков скамейки, протапливать изредка, чтоб не завелась в нем плесень…
Уж как староста таил, о чем пойдет разговор на сходке, но еще вечером все узналось. И мужики, и бабы, и старые, и малые были взволнованы предстоящим сходом. Слыхано ли, чтоб за ловлю рыбы на омутах выводили на судилище? Нет, такого в Лукьяновке еще не случалось. Правда, прежде бывало, когда сход разбирал проступки односельчан. Лукьянов не один год жил на свете, помнил все эти случаи. Однажды вывели на сход Платона Охотникова с сыном Савкой за злостное хулиганство. И отец и сын не пропускали ни одного праздника, чтоб не учинить драку. Доходило до увечий. Напившись до потери сознания, они отправлялись в «Полтаву» – новосельческую часть села и тут так нахально вели себя, что пришельцы из Полтавской, Смоленской и Могилевской губерний хватали их за грудки. «Эй, земляки! «Сибирь» бьют!» – орали старожилы благим матом. Их связчики только этого и ждали. Ватага парней из «Сибири» врывалась к новоселам, и начиналась свалка…
Лукьянову чуждо было это деление на «своих» и «чужих». Он видел, что и те и эти хлебают нужду из одного корыта. Бросался он в самую гущу схватки, чтобы усмирить одичавших мужиков. Удавалось это не сразу и чаще всего с применением силы. Лукьянов был силач, да и ловок, как прирожденный стрелок. Поначалу он пытался утихомирить мужиков словами, но это только подливало масла в огонь. Как-то раз парни с «сибирских» улиц села огрели Лукьянова стяжком поперек спины, посчитав его заступником новоселов. Вот тут-то и вознегодовал Степан! Он надел кожаные рукавицы и принялся расшвыривать драчунов без различия, чей край они защищают – «сибирский» или «новосельческий». С той поры стоило только возникнуть драке, бабы бежали к Лукьянову: «Спаси, Степан, от смертоубийства!» Лукьянов шел. Но, еще завидев его, драчуны разбегались кто куда мог, зная, что от Степанова кулака пощады ждать не придется. Случился, правда, у Лукьянова один раз пренеприятный казус: не рассчитав силы удара, он так хватанул мужичка из своей «сибирской» стороны, что хрустнули у того ребра. Лекарь из волости определил перелом трех ребер, забинтовал мужичка, велел лежать не меньше шести недель, чтоб сросся перелом. Мужикова родня попробовала жаловаться, ездила к адвокату в город, но тот оказался разумным человеком, сказал: «Хорошо, что ребра. Мог бы Лукьянов и голову снести. Старался не ради себя – мир да покой на селе устанавливал. Пойдете против Лукьянова – все село за него горой станет». Оно так бы и случилось, да только притихли после этого возмутители спокойствия, решили, что адвокат говорит чистую правду, лучше уж молчать, чем собственную вину на другого сваливать.
…Сход «обстрамил» Платона с Савкой последними словами. Под конец встали они на колени, дали клятву бросить свою привычку. Сход предупредил: оступятся хоть единый раз – не жить им в Лукьяновке, сами не уйдут, принудят их к этому: избу по бревнышку раскатают, ворота жердями забьют, огород мусором завалят…
И еще помнил Лукьянов, как вывели на сход Кондрата Забабурина с тремя сыновьями и двумя дочерьми. А повод был такой: раньше условленного срока Кондрат с детьми проник в общественный кедровник и в великой тайне от односельчан начал шишковать. Семь кулей чистого ореха спрятал он в буераке, шишку бил только по ночам, обрабатывал ее в землянке, провеивал орех вдалеке от кедровников. И все ж попался! Один из сыновей, выйдя на гуляние, прихватил в карманы несколько горстей свежих орехов угостить свою симпатию. А девушка, видать, оказалась запасливой: мало того что грызла с милым во время гуляния, маленькую толику затаила, завязав в носовой платок. Утром дома платок возьми да развяжись. Орешки усыпали пол. Отец взглянул и сразу понял: кто-то бьет орех, хотя сигнала староста еще к этому не давал. «С кем шуры-муры разводила?» – строго спросил отец у дочери. Та таиться не стала: «С Трошкой Забабуриным, тятя. Сватов он по осени обещает заслать», – сказала дочь. «Что будет по осени – узнаем, а вот то, что Забабурины орех втайне от общества промышляют, это мне ясно». Отец собрал с полу орехи, оделся и, ни слова не говоря, вышел. Через час-другой гудела Лукьяновка. К вечеру возле церкви собрался сход. Забабурины стояли на коленях перед мешком чистого, отливавшего светло-коричневым глянцем ореха, пришибленные позором. Приговор был неумолимым: орех изъять, средства, вырученные от сбыта его, передать на нужды церкви, лишить на три года Забабуриных права промышлять орех наряду со всеми в лукьяновских кедровниках. Кондрат Забабурин заголосил по-бабьи, начал просить снисхождения у сходки, но смягчить приговор ему не удалось.
Лукьянов был тогда в числе самых непоколебимых. Знал он, что только строгостью можно сохранить богатства лесов. Дай махонькую поблажку – растащат мужики кедровые леса, обнажат земли, оставят зверя без корма.
Сейчас Лукьянов переживал сильные сомнения. Он встал затемно, беспокойно прохаживался по прихожей, курил. Татьяна Никаноровна заметила, что муж очень обеспокоен, сказала:
– А что ты за них, за Судаковых, переживаешь? Не ты общественные порядки нарушил. Пусть Кондрат сам отвечает.
– Да было бы за что отвечать, мать, – уклончиво сказал Лукьянов.
– А можно, Степан Димитрич, мне… к примеру, мне, вот посторонней, побывать на вашей сходке? – с какой-то виноватой ноткой в голосе, нетвердо спросила Катя, давно уже наблюдавшая из-за двери горницы за всем, что происходит в доме.
– Да что ты, Катюша! Что ты, милая! Там таких скверных слов наслушаешься, что уши повянут. Не девичье это дело, – с пылом сказала Татьяна Никаноровна и разбросила свои хлопотливые руки, как бы стараясь защитить Катю от ее поспешного, необдуманного желания.
«Ну точь-в-точь на ссыльных смахивает, которые у меня на постое жили. Для них, бывало, сходка как праздник – так туда и рвутся», – подумал Лукьянов, присматриваясь к подружке своей дочери пристальными разноцветными глазами.
– Слов-то наслушаешься всяких! А только если интерес к нашей деревенской жизни имеешь, то будет к месту! Сходи! Почему не сходить? Там нонче небось некоторые семьями прибудут. Судьбище! Моих вон не подымешь, а других и зазывать особо не надо. – Лукьянов повернулся к жене: – Не останавливай ее, Таня, да и не пугай. Страшного ничего не вижу.
– Мы вместе, папаня, с Катей придем, – послышался Машин голос. Она стояла у двери горницы в пестром халате, в чирках на босу ногу, сладко потягивалась.
– Вот тебе, на тебе! Еще одна сыскалась! – всплеснула руками Татьяна Никаноровна. И все дружно и весело рассмеялись.
– Ну, коли так, умывайтесь – и за стол! – Татьяна Никаноровна схватила сковородник, и ее руки замелькали около чела жарко пылающей печки.
Через полчаса Лукьянов ушел. Спустя некоторое время собрались и девушки.
– Ты вот что, Марья: если станет невмоготу от мужицких словес – их ведь все равно не переслушаешь, – не торчи там, – наказала дочери Татьяна Никаноровна.
– Да уж как-нибудь сообразим, маманя! Не трехлетние мы с Катей! – отмахнулась Маша.
2
Около дома Нелиды Лычковой людно. Мужики курят трубки и цигарки. Передвигаются с места на место – одни на своих ногах, другие – на «царевых». Не спеша разговаривают. Много женщин, молодежи. К толпе прибиваются подростки. Без этих ни одно дело в Лукьяновке не совершается. Где взрослые, там и они. Никто их не гонит. Пусть учатся жить. Пусть от старших набираются ума-разума. Завтра придет их черед держать на своих плечах жизнь в Лукьяновке. Да что там завтра, сегодня уже некоторые из них хозяева, тянут на своих не окрепших еще спинах тяжелую крестьянскую ношу. Отцы у многих либо погибли, либо пребывают в безвестности, матери истощили силы прежде времени, рухнули и душевно и физически, отошли в сторону: «Правьте и владейте, сынки, как можете! Бог вам в помощь!»
Припоздавшие и дальние спешат к «сборной» на конях: кто верхом, а кто и в санях. Вдоль забора становятся кони. Беспокоит скотину скопление людей, говор, едкий табачный дым. Кони выгибают шеи, смотрят с тревогой на мир своими круглыми, добрейшими глазами, переступают с копыта на копыто. Бессловесная животина! Есть ли на свете друг крестьянину вернее, преданнее тебя? Что было бы с мужиком, если б не твоя безответная подмога ему? Во все времена года и суток идешь наперекор невзгодам, которые подстерегают мужика в каждый час его жизни. И если удается ему побороть нужду, накормить-напоить себя и детей своих досыта, в том заслуга прежде всего твоя, бессловесная животина…
– А Кондрат-то тут, нет ли? – спрашивает кто-то, и тотчас все вспоминают о нем, говорят о его беде, которая близка и понятна каждому.
– Кондратий тута. Давненько его с понятыми привели. И сыны с ним. Повесили свои буйные головушки, – слышится звонкий бабий голосок.
– Еще не так повесишь, как начнет староста перед всем миром страмить. Горючими слезьми давиться начнешь, – встревает в разговор кто-то из мужиков.
– Да, если б по справедливости… перенесть и не то можно. Случается вон, и бьют батогами за проступок. А ну-ка если зазря. Как тогда? Замлеет от обиды сердце… До смертушки может замлеть…
– А что же?! И так может быть… Кондратий гордый, мущинство в нем в печенках сидит… Разве он за всяк просто дастся?
– Взойти в сборню, господа мужики, это самое!.. – Голос старосты перекрывает гул, разговоры стихают. Подростки стараются опередить всех, но в дверях для них заслон.
– Фулиганы в последний черед! Проходи, проходи, господа мужики. – Староста сам стоит у двери, кое-кому из стоящих мужиков жмет руки, остальных покровительственно хлопает по спинам. Баб не трогает. Пропускает их молча, хотя и примечает каждую. По наблюдениям старосты, баба на сходке беспокойнее мужика. Почтения у нее меньше к постам. Невоздержанности больше. Разумом не докажет – на крик перейдет, а в случае чего слезу пустит. А мужик таков: чем он самостоятельнее, чем тверже, тем к бабьим слезам чувствительнее, тем покладистее на уговоры… Ох как знает свой народец староста Филимон Селезнев! Всех знает, поголовно всех… и знает, от кого что можно ожидать…
– Здорово, Степан Димитрич, здорово! Проходи, отец, вон туда, к окну, там местов на скамейке полно, – говорит Филимон, сжимая костистую руку Лукьянова. Но на уме у Филимона другое: «Принесла тебя холера! Не мог ты на сегодняшний день в тайгу уйти. Во сто раз было бы без тебя легче».
Среди женских лиц Филимон видит круглоглазую дочку Лукьянова. «Вот холера, даже дочку привел! И откуда она взялась? Ведь давным-давно в городе живет. Так нет же, приехала!» – думает он, и тревога еще сильнее схватывает его за сердце. «Стой, а это кто же? Чья же это девка такая пригожая?» – приглядываясь к девице, идущей вслед за Машей, пытает себя Филимон. Ему хочется спросить у кого-нибудь из баб относительно этой девицы, но бабы уже проскользнули в угол, обосновали там свое царство, от которого будет только крик и беспорядок. У Филимона от этих предчувствий посасывает под ложечкой.
Наконец подвертывается приотставшая от других разбитная вдова Фекла Москалева, тропку в дом которой староста проложил уже давненько, еще с первых месяцев войны.
– Скажи-ка, Фекла, чья это девка? Вот там, в углу. Кажись, с Машкой Лукьяновой пришла, – задержав у двери вдову, шепчет Филимон. Но Фекла не считает еще себя старухой, чтоб вот так просто, без боя посторониться ради другой.
– Жеребец ты стоялый! Приди только! Я тебе покажу такую девку, что с неба искры посыпятся, – с яростью шепчет Фекла и, пользуясь теснотой, коленом ударяет Филимона в самое стыдное место.
– Не балуй, кобылища! – приохивает староста и отступает от порога за косяк двери. Фекла победоносно проталкивается вперед, в угол, который облюбовали бабы.
«Стой! Стой! А это еще кого Бог сегодня дает?» – с тревогой думает Филимон, вытягивая длинную шею в открытую дверь поверх голов, рассматривая идущих по тесному, узкому крылечку. Поддерживая под руки, мужики помогают зайти на ступень Мамике, древней старухе, первожительнице Лукьяновки. Сердце у Филимона трепещет, как овечий хвост. Вот уж кого он не ждал, так это Мамику. Ведь сказывали бабы, что залегла она на печь до весенних теплых дней. Пришла! Кто ж ее сподвигнул на такое дело! Не иначе как кто-нибудь из дружков Кондрата Судакова. «Ну, Филимон, не жди от такого схода добра!» – шепчет про себя староста. Если б знать, что приползет старуха на сход, ни за что бы Филимон не стал собирать его. «Может быть, распустить народ? Так, мол, и так, господа мужики, извиняйте, обмишулился. Думал, есть дело, а оно на поверку выеденного яйца не стоит… Ах, как бы хорошо!.. Хорошо-то хорошо, а что делать с обещанием свату Григорию Елизарову? Ведь сам наобещал прижать Кондратия Судакова с сынами…» – мучительно думает Филимон, подергивая себя за жидкую, козлиную бородку.
– Эй, староста, начинай! Какого хрена народ держишь?! День будний – работы по горло! – слышатся мужские голоса, в которых неприкрытое нетерпение и откровенная резкость.
Нет, распускать сход поздно! Филимон проталкивается к столу, становится рядом с Кондратом Судаковым, который смотрит на старосту исподлобья злыми глазами. Филимон на полшага отодвигается, но теперь прямо перед собой видит Мамику. Клюконосая, морщинистая старуха, закутанная в черную шаль и черную овчинную шубу, в черных пимах, сидит неподвижно. Тонкие губы поджаты, острый подбородок выпячен, глаза прищурены. Кажется, все страсти жизни чужды ей. Но так только кажется: не по-старушечьи острым слухом она ловит доносящиеся до нее обрывки разговоров, думает про себя: «Ох, Филимон, хитер ты! Однако в деда ты удался… Не без корысти сход ты этот придумал».
Мамика нет-нет да и кинет взгляд на Кондрата, как бы подбадривает мужика, опасается за него. «Горяч, в словах невоздержан».
3
– Обчество! Нелады у нас нонче в селе, как ее, это самое, – начинает Филимон, пощипывая себя за бородку. Он говорит тяжело, преодолевая одышку, что-то давит его в груди.
Все разговоры стихают. Бабы еще барахтаются, усаживаясь на пол, но молча, сдерживая даже вздохи.
– Кать, посмотри, вон Мамика сидит. Помнишь, мама тебе о ней говорила, – шепчет Маша в самое ухо Кати.
Но Катя и без Маши заметила старуху, смотрит на нее, не сводя глаз. «Лицо старое, морщинистое, довольно маленькое, но есть что-то в нем необыкновенно сосредоточенное и волевое, одухотворенное спокойствие», – думает Катя.
Староста комкает слова, вытягивает их из себя с мукой. Из каждых десяти слов только одно относится к делу, остальные мусор, шлак, вроде неизменного «как ее, это самое, значит, оно…».
– Ну, язви его, и блудит же! – вырывается у кого-то из мужиков.
Филимон надолго замолкает и просит писаря прочитать показания свидетелей. Писарь Игнат Игнатович – из недоучившихся семинаристов – первостатейный пьянчуга. Полное, мясистое лицо его с вывернутыми, мокрыми губами давно не брито, заросло серой щетиной, припухло. Под глазами висят розоватые мешки. Писарь одинокий, весь неприбранный, неумытый, нанят крестьянами «справлять бумаги» за всех. Еще утро, а он уже «на взводе», лихорадочно горят увеличенные зрачки. Но «обчество» ценит его за голос – зычный, как у дьякона, и отчетливый, как у фельдфебеля.
Из продолжительного чтения писаря наконец выясняется вина Кондрата Судакова и его двух сыновей: вооружившись неводом в тридцать семь саженей длины, они отправились на рыбалку. Вместо того чтобы орудовать неводом в водах, примыкающих к наделу Судаковых, они, отдавая себе в этом полный отчет, развернули рыбалку на омутах, к которым слева и справа примыкает надел Григория Елизарова. Прихваченный Григорием на месте преступления, Кондрат Судаков с сыновьями, несмотря на протест названного Елизарова, рыбалки не прекратили. Когда же Елизаров попытался предложить принять себя в долю, они это предложение отвергли как недопустимое покушение на их право. В свою очередь, Григорий начал изгонять их с омутов на том основании, что омута расположены в границах его земельного надела, который выделен ему общественным приговором. Завязалась ссора. Григорий Елизаров нанес несколько ударов Михаилу – сыну Кондрата Судакова, правда, без членовредительства. После чего Судаковы связали Григория Елизарова вожжами, положили на телегу и пустили коня по дороге, ведущей к селу. Конь доставил Григория к дому, и произошло это без каких-либо последствий. Но если б в дороге вдруг конь испугался, что случается часто, то жизнь Григория могла закончиться трагическим образом.
Неводьба Судаковых продолжалась целый день. Они добыли свыше десяти пудов рыбы, семь пудов из которой было продано лавочнику Прохору Шутилину.
Сие происшествие староста выносит на «обчество» для осуждения действий Судакова Кондрата с сынами как явное нарушение устоев «обчества» и ввиду того, что собственность каждого крестьянина на его надел не может быть никем оспорена или отторгнута без общественного приговора.
Употевший от прочтения длинного обоснования и свидетельских показаний, среди которых особенно сильное впечатление оставляет признание лавочника Шутилина о покупке оптом семи с половиной пудов свежей рыбы у Кондрата Судакова, писарь опускается на табуретку к столу. Снова в действие вступает Филимон.
– Как ее, это самое… значит, оно… Кондрат виноват, – начинает свою волынку Филимон.
– В чем же он виноват? В чем? – голоса раздаются из всех углов.
– Значит, оно – рыба, – уточняет Филимон.
Изба наполняется гулом, смехом, чей-то женский голосок перекрывает все остальные голоса:
– Пошто Прохор Шутилин продавал рыбу в два раза дороже, чем купил?
– Как ее, это самое… Шутилин коммерсант, – пытается отвести упреки от лавочника Филимон. Ему что? Он свои двадцать фунтов отборных окуней получил от Прохора совершенно бесплатно. Всем это известно, и «сборная» откровенно гогочет. Притихли, будто набрали воды в рот, родственники и дружки старосты. Уж лучше б помолчал Филимон, чтоб не влазить добровольно в такой конфуз.
– Тихо! Хочу спросить: какое возмещение желает получить от Судаковых Григорий Елизаров? – поднимается с лавки Лукьянов. Его разноцветные глаза останавливаются на Филимоне, потом ищут Елизарова. Тот сидит за спиной старосты и больше всего боится встречи лицом к лицу с Лукьяновым. Есть у него свои провинки перед охотником.
– Игнат Игнатыч, это самое, как ее, зачти, – просит староста.
Писарь читает ту часть бумаги, в которой излагается итог этой истории в том виде, как он рисуется Филимону со сватом Григорием: Кондрат Судаков обязан возместить Елизарову стоимость пойманной в омутах рыбы (10 пудов 30 фунтов), принести повинную Елизарову и получить от «обчества» строгое порицание с предупреждением о выселении в случае повторения своих набегов на чужие наделы.
– Правильно! – кричат сторонники Григория и Филимона.
– Ого-го! Смотри, чего захотели! – восклицают сочувствующие Судаковым.
Шум долго не затихает. Филимон и не старается унимать. «Пусть орут. Мужик поначалу надорвет глотку, израсходует себя на крике, а потом его голой рукой бери, он ласковый, как телок, становится». Так размышляет Филимон. Почти так же думает и Лукьянов; почти, но все ж не так. «Пусть покричат. Скорее поймут, что криком делу не поможешь». Он хочет сказать словцо, но не торопится, выжидает. Вот и бабы визжат. Пусть немного повизжат. И в самом деле, через две-три минуты гам в доме стихает. Теперь самое время встать и спросить старосту и Григория в лоб.
– Как, по-вашему, земельные наделы и водоемы – одно и то же? – спрашивает Лукьянов, и разноцветные глаза его ищут Григория.
Филимон дергает себя за бородку, тянет и без того длинную шею, бормочет:
– Как ее, это самое, значит, оно… Водоем при наделе…
– Каждый малец знает: между крестьянами делится только земля. Река и озера – боговы. – Это подает голос Мамика. Она говорит тихо, шамкает, но все слушают ее как завороженные. Филимон, откинув руку за спину, подает знак Григорию: выручай, сват, делай вид обиженного и униженного.
Красный, в каплях пота, стекающих по вискам, Григорий начинает плакать. Могучие его плечи под добротным (романовским полушубком вздрагивают, голос тоже дрожит. Росту в нем без двух вершков сажень, а хнычет как малолетний и немощный:
– Связать… в телегу бросить… Это что ж? Не разбой разве?..
– А Михайле скулу кто свернул?
– Мужики! Поимейте жалость: плачет-то неподдельно, как дите!
Шум, гвалт вновь будто раздирают стены дома вдовы Лычковой. Филимон машет руками, кричит:
– Как ее, это самое, неладно, мужики! По одному бы, это самое!
Крик на сходке подобен ураганному ветру: вспыхнет, ударит оземь, взметнет непроглядный столб пыли, пронесется по поляне и тут же растает, затихнет, словно бы и не было его.
Вот ведь только что кричали все и вдруг притихли, смотрят друг на друга, и у каждого в глазах один и тот же вопрос: как же быть-то? А может быть, Кондрат-то в самом деле виновен?
Лавочник Прохор Шутилин тут как тут. Он только этого затишья и ждал:
– Обчество! Это что же? Выходит, ты своему наделу не хозяин? Завтра, к примеру, приезжаешь на свои поля, а на них чужой скот. И ты не моги его тронуть, иначе тебя свяжут – и в телегу мордой… Разве порядки, господа мужики?!
– Непорядок! Правильно! – кричат дружки Григория, которым обещан еще с вечера бочонок медовухи.
– Не с той стороны сеть плетешь, Прохор!
– У него завсегда так: сорок да сорок – рубль двадцать, – отвечают сторонники Судаковых.
И тут встает с разъяренным видом Степан Лукьянов.
– Ты что там прячешься за спиной старосты, Григорий?! Выдь сюда, чтоб видел тебя мир. Поговорим при всех и начистоту. – Лукьянов останавливается. Ждет, когда Григорий выйдет. – Выходи, чего ж ты медлишь? Когда слезы лил, на середину дома выпер, а теперь снова в нору…
Григорий не спешит. Но Филимон чует, что не уступить народу нельзя. Лукьянова поддерживают изо всех углов. Он отступает влево от стола, и теперь Григория видят со всех сторон.
– Вспомни, Гришуха, нонешнее лето. Вспомнил, нет? Вспомни-ка, где ты карасей ловил? – наступает Лукьянов.
Григорий молчит. Круглое лицо его, заросшее мягкой, пуховой бородой, становится малиновым, как вареная свекла.
– Как ее, это самое, скажи, сват Григорий. – Староста и не хотел бы этого разговора, но такое упорное молчание тоже не на пользу его свату. Вместо обвинителя, который собирался испепелить своих противников, он сам подставляет бока, сам становится обвиняемым.
– В озерах ловил. Мало ли озер-то? – пытается увильнуть от прямого ответа Григорий. Ну нет, не на того нарвался! Лукьянов не собирается умолкать.
– А на Конопляном озере ловил? – спрашивает он строгим тоном.
– Где все запомнишь! – снова увиливает Григорий.
– А ну, Филимон, скажи-ка, кого мы с тобой видели на Конопляном озере, когда ехали из волости? Помнишь, кого мы встретили с бреднем?
В доме становится тихо-тихо. Все замерли, придержали дыхание. Ничего не скажешь, цепко схватил Лукьянов Григория с Филимоном за загривок.
– Как ее, это самое, Григорий ловил рыбу на озере, – признается Филимон.
– Ты слышал, Григорий?
– Не глухой, – с затаенной злобой цедит Елизаров.
– Пусть-ка скажет, на чьем наделе Конопляное озеро? – слышится бабий задиристый голосок.
– В сам деле, Григорий, скажи! – настаивает и Лукьянов.
– Да он, язви его, язык-то не проглотил ли? – подзадоривает все тот же бабий голосок.
– Я скажу, коли так, как ее, это самое, – бормочет Филимон. – Надел тот Степахи Лукьянова.
– Григорию, вишь, память отшибло. У него на свое только память, – подъелдыкивает неумолкающий бабий голосок.
4
Катя наблюдает за сходом, и у нее ощущение такое, будто перечитывает она заново статьи большевистских газет. Сколько раз она читала о классовой борьбе в деревне, о росте кулачества, о его притязаниях на власть, на землю, на рабочие руки. Все, что происходит сейчас, на ее глазах, словно происходит специально для нее. «Знают все-таки наши люди деревню!» – отмечает про себя Катя. Ей приятно сознавать и другое: в большевистских газетах, в листовках партии, в статьях Ленина в последнее время много пишется о пробуждении классового сознания в толще трудового крестьянства… И в этом не ошибаются большевики. Катя видит, что Кондрат Судаков здесь не один, что десятки таких, как он, не дают его в обиду, встают против произвола и насилия. «Побольше бы в деревню послать наших пропагандистов, чтоб крестьянин не варился в собственном соку, знал, что происходит на белом свете», – думает Катя. Но отвлекаться ей для своих размышлений надолго не приходится. Течение сходки вдруг начинает обостряться…
– Как ее, это самое, мужики, – нудит Филимон, – непорядок! Пусть Кондрат повинную принесет, как ее, это самое… Григорий при смерти был!
Сход мгновенно угадывает маневр старосты: потеряв надежду сорвать с Судаковых куш в деньгах, Филимон пытается унизить Кондрата. Что значит принести повинную? Это значит – встать Кондрату на колени перед Григорием, признать себя виновным в действиях, которые осуждаются «обчеством»…
– Не бывать этому! Кондрат ничего худого не сделал! – визжат бабы.
Теперь ожесточенно кидается в спор сам Кондрат Судаков. Он высокий, худой и гибкий, как тальниковый прут на ветру. Легко согнется в одну сторону, повернется быстро-быстро, согнется в другую сторону. Одну руку держит, прижав к животу. На ней целый только один большой палец. Остальные срезаны снарядом, как ножом. Кондрат из тех, кто пострадал на фронте в первые месяцы войны. Одет он в азям под опояской, широкие холщовые штаны и бродни с завязками выше щиколоток. Голова в плешинах после ожогов все там же, на фронте. Седоватые волосы растут клочьями, напоминая кустарник по косогору.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































