Текст книги "Сибирь"
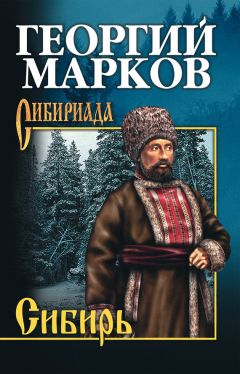
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
– А что ж им теперь будет, дяденька?
– Смертушка будет.
Поля приблизилась сколько можно к столу, осмотрела парней. Крепкие, здоровые ребята, молодые совсем.
– Неужели не сжалится царь? – спросила Поля, видя рядом с собой все того же мужика. Он вслед за ней пробился поближе к столу.
– А чё ему жалеть? Бабы еще народят!
– А ну, земляки, не напирайте, расходитесь. Подумаешь – зрелище! – спокойно сказал один из стражников.
– А что, дозволь, господин начальник, подать парням за Христа ради соленого муксуна? С одного кипятка ног не потащишь. – Бородатый старик выдвинулся из толпы. Парни услышали его слова, глаза их вспыхнули надеждой, но стражник вдруг рявкнул:
– Назад! Ты что, заодно с ними?! Их, сукиных детей, соломой кормить жалко. Изменники, цареубийцы! – Он долго бормотал всякие непотребные слова. Старик поспешил отступить от стола, скрылся за спинами мужиков.
Поля вспомнила о своем деле: осмотрев прихожую, заглянув чуть ли не всем мужикам в лицо, перешла в соседнюю комнату. Там вдоль стен тянулись дощатые нары, и некоторые заезжие тихо спали уже, прикорнув на полушубках и дохах. Здесь горела не лампа, а жировик и было сумрачно настолько, что Поле пришлось подойти к каждому спящему: не Ефим ли Власов? Нет. Ни в прихожей, ни тут Ефима Власова не было. Где же он? Что делать теперь с Гаврюхой? Он остался во дворе и ждет ее, мерзнет.
Поля вышла во двор, позвала Акимова в дом обогреться, рассказала, что на постоялом дезертиры со стражниками, а ямщик еще не подъехал. Акимов заколебался: идти в дом или коротать время во дворе. Холодновато, но терпеть можно. Любопытство все же взяло верх. Интересно посмотреть на молодых ребят, которые предпочли бегство, жизнь в тайге службе в армии. Акимов вошел в дом боком, готовый в любую секунду кинуться обратно во двор.
Стражники накормили дезертиров и велели людям разойтись.
Люди расступились, очистили проход, но уходить не собирались.
Едва увели дезертиров в отдельную избушку, чтоб поместить под замок, завздыхали мужики и бабы о судьбе парней.
– Как же они дались-то им? Уж трое-то с двумя совладали бы!
– Обманом взяли. Короче сказать, один набожный старовер подкараулил, стражников привел…
– Душегуб! Чё, они его хлеб ели, чё ли? Или ему тайги стало жалко?
– Ну, бог шельму достанет. Все едино!
– Бог-то, может, и не достанет, а люди не простят. Плохое его житье будет. Сука, искариот распронесчастный…
Понемногу стали расходиться: одни к нарам – поспать, другие во двор – задать коням корму.
Поля и Акимов у двери замешкались: идти к нарам им нерезонно, тащиться во двор, на холод, тоже нет смысла. Ямщик может появиться в любую минуту. Ведь не зря сказано: «Ранним вечером, в потемках». Поля кивнула Акимову, показывая в угол на охапку дров. Акимов сел на поленья, нахлобучил шапку. Свет лампы сюда, за печь, почти не проникал, но отсюда он видел всех, кто входил в дом. Тут можно и подремать немножко. Все-таки не на улице. Поля тоже нашла себе местечко: напротив Акимова на широкой лавке, заваленной хомутами, седелками, шлеями.
Просидели они на своих местах две-три минуты – не больше. Вдруг во дворе поднялась какая-то суматоха: крики, скрип саней, звук колокольцев под дугой, стук ворот. Что там? Может быть, дезертиры отчаялись и дали дёру? Или новый обоз прибыл? А где они тут разместятся? Что он, этот постоялый двор, медом, что ли, обмазан? Все в него лезут и лезут…
Акимов привстал на дровах, насторожился. Поля тоже вопросительно посматривала на дверь. Лучше всего в такой момент смыться отсюда, переждать во дворе. Там сейчас совсем темно стало: один фонарь на столбе много ли насветит? Акимов встал, но шагу не успел сделать. Дверь широко распахнулась, и в дом повалили один за другим полицейские чины.
Акимов втиснулся в угол и глазам не верил: вначале вошли четыре урядника, потом ввалился сам становой нарымский пристав.
Акимов думал: ну, на этом будет конец нашествию полицейских. Да не тут-то было. Дверь вновь распахнулась, и вошли два жандармских офицера. Все чины громко разговаривали, смеялись. Перед становым приставом семенил хозяин постоялого двора, богатый чигаринский мужик.
– Ты вот что, Олиферьич, всех своих постояльцев – вон! Пусть с богом едут дальше, ночь светлая. А нам давай изладь ужин и подготовь постельки. А как – сам знаешь…
– Изладим, вашество, изладим, – бормотал хозяин. Он засуетился, стал звать на помощь старуху и сына.
Крестьяне, и те, которые уже расположились на ночь, и в особенности те, которые не успели этого сделать, пришли в движение. Кто кинулся к хомутам, кто – к мешкам с провизией, кто – к одежде, сваленной в кучу у входа. Перечить полицейским никто не хотел, да и знали – связываться с ними опасно. От назьма подальше, меньше вони. Акимов улучил минутку в этой суете и шмыгнул из своего закутка в дверь. Поля, наоборот, не спешила. Ей хотелось послушать и узнать, чем вызвано это сборище полицейских, но в гуле голосов трудно было понять что-нибудь определенное. Поля вышла во двор, потому что оказаться замеченной полицейскими тоже не входило в ее расчеты.
– Принесла их нечистая сила! Разъязви их в душу!
– Пока не поздно, подавай бог ноги! А то ведь начнут кураж свой выказывать!
Мужики ругались, крыли полицейских матом, в спешке запрягали коней. Стучали дуги, оглобли, позвякивали уздцы.
Поля вышла за ворота. Где же он, черт его подери, этот тогурский ямщик Ефим Власов? Пора бы уже и подъехать. Ранний вечер кончается, и потемки тоже, месяц взбирается на небо все выше и выше и светит уже так, что иголку можно в сене искать.
Надо как-то перехватить его здесь. Иначе попрется ямщик в дом, а там, чего доброго, начнут спрос да расспрос с него.
– Вон ты где, девка! А я тебя в доме ищу, – услышала Поля позади себя голос. Обернулась, а перед ней стоит сам Ефим Власов. Он небольшого роста, ладный, крепкий. Полушубок под опояской, а за опояску ременный бич заткнут. Шапка сдвинута на затылок. Шея шарфом повязана. На ногах не пимы – бродни с толстым чулком, вывернутым на кромку высоких голяшек. Пимы в пути сушить необходимо, в сырых пимах загибнешь, а на ином постоялом к печке не подойдешь, не то что сушкой обувки заниматься. Куда удобнее в большой дороге в бродешках!
– Здравствуй, дядя Ефим! А я уж побоялась: приедешь ли? А тут видел, сколько их нагрянуло? – шептала Поля.
Блеснули в сумраке бойко и озорно глаза Ефима:
– Ты чё, девка! Пообещал ведь куму твердо. А я, вишь, в хвост полицейским пристроился. Обгонять побоялся: могут еще заприметить. В Нарым их становой везет. Обучать будет, как на двуногих зверей ловчей охотиться. Ну, пусть себе обучает, а мы проживем! – Ефим задорно рассмеялся, но вмиг стал серьезным, строго спросил: – А где седок-то? Пора нам трогаться.
– Приведу сейчас в проулок.
– Ляжет в сани, закутается в доху, сенцом прикрою и – айда!
Подводы одна за другой потянулись из двора. Лениво шагали приуставшие кони. Угрюмо чернели на облучках невыспавшиеся мужики.
Поля кинулась в один конец двора, в другой. Гаврюха как провалился. Нашла его возле амбара. Он прижался к стене и заметно уже дрожал.
– Пошли скорее! – нетерпеливо позвала Поля.
– Приехал! – воскликнул Акимов и, перепрыгивая через сани, обходя короба, заспешил за Полей.
Ефим был уже на месте с конями. Сани просторные, полозья по-нарымски широкие, как лыжины. На таких полозьях сани устойчивы на раскатах, легки, а если снегопады вдруг прикроют дорогу, на них опять же беды нету, кати себе. Хороши нарымские сани и для езды по снежной целине: держат груз, как нарты, не зарываются в сугробы до головок.
Кони у Ефима запряжены «гусем». Коренной конь, тот, что в оглоблях, длинноногий, поджарый, тонкошеий, сразу видно – из рысаков. Впереди, в постромках, конь светлой масти и ростом пониже, поприземистее, но, судя по мосластым ногам, подобранному брюху, резвый, упорный в беге.
Только подошли к саням, Ефим раскинул собачью доху, набросил ее на плечи Акимова.
– Ложись, паря, зарывайся в сено, теплее будет. Акимов утонул в дохе, повалился в сани, тяжело ворочая замерзшими губами, сказал:
– Прощайте, Поля! Спасибо вам и за осень и за зиму.
– Счастливой дороги до самого конца, – сказала Поля, жалея, что не может пожать Гаврюхе руку.
Ефим со свистом взмахнул бичом, кони рванулись и через минуту скрылись в сугробах и кустарниках за деревней.
Глава вторая1
– Ты куда, земляк, везешь меня?
– Куды надоть, туды и везу, паря.
– А мы с тракта не сбились? Что-то дорога неторная пошла.
– По тракту, паря, мы почесть и не ехали. Только за Чигарой немножко, до своротка.
– К этим чертям, которые на постоялом дворе остались, ты не привезешь меня?
– Ты чё, паря, шутишь? С каждой верстой мы от них все дале. Пусть себе там, а мы проживем! – Власов засмеялся, и Акимов почувствовал, что это был смех превосходства в ловкости и хитрости: «Пусть себе там!»
– Пока не перепрыгнул, не говори «гоп», – сказал Акимов. Ему казалось веселье ямщика преждевременным.
– Дураками не будем, поглядывать надоть, – вполне серьезно отозвался Ефим и, помолчав, добавил: – А все ж, паря, счастливый ты, видать, в рубашке родился, смотри-ка, ночь-то какая выдалась! Тихо, и месяц вон как играет. Тут сейчас деревушка будет. Мы ее, паря, проедем без остановки. Народишко ненадежный живет, услужливый.
– Ну, вот видишь, а ты говоришь: «Проживем!» – обеспокоенно сказал Акимов, с содроганием подумав: «Не хватало еще, чтоб здесь меня застукали после такого удачного начала».
Деревня оказалась в семь дворов. Избы были разбросаны по широкой поляне и окружены высоким березником, похожим в эту лунную ночь на блестящие серебряные подсвечники. Дорога проходила мимо изб, но не под окнами, а саженей за сто, в сторонке. Все крепко спали, нигде ни огонька. Даже собаки и те не всполошились.
На выезде увидели, что крайняя изба наполовину сгорела; чернел обуглившийся сруб, вокруг снег был обмят, и торчали ледяные кочки от замерзшей воды. Беда, по-видимому, произошла день-два тому назад. Снег еще не припорошил пожарище. Оно было совсем свежим, будто люди только что разошлись отсюда, побежденные огнем.
– А чей же это след? – спросил Акимов и от удивления даже привстал в санях. От пожарища через снежную поляну к лесу тянулся какой-то странный след: ступни были круглые, резко вдавленные и располагались друг от друга на большом расстоянии. Ни конь, ни корова не могли оставить таких следов. Казалось, что кто-то из людей уходил отсюда на высоких ходулях, какие иной раз мастерят потехи ради деревенские подростки.
Ефим Власов, присмотревшись, сразу понял, что это след лося. Сохатый, вероятно, приходил сюда пощипать сенца, которое неподалеку продолжало стоять, сложенное в стожок и чудом сохранившееся от пожара. Но ямщик решил позабавить своего седока. Чувствовал он, что беглец наскучался в тайге да и сейчас сидит и потрухивает: не кинутся ли на него из-за каждой березы неугомонные нарымские стражники?
– Ты знаешь, паря, чей это след? – многозначительно сказал Ефим. – Это след домового.
– Домового? – удивленно переспросил Акимов.
– Его, точно. Дом, слышь, сгорел, и он пошел искать нового хозяина. Долго бедняга будет скитаться, как неприкаянный, пока найдет себе по душе новую избу.
– Ты что же, земляк, веришь в домовых? – с усмешкой спросил Акимов, про себя подумав: «Деревню проскочили, где живут услужливые мужики. Может быть, пронесет и дальше».
– А у меня у самого в избе живет домовой. Зову его Ромкой. Хороший парень. Иной раз приеду с ямщины, лягу спать, а он обрадуется, что я приехал, гладит меня по волосам.
– Во сне?
– Какой там во сне! Чуть дремлю.
– Сущая чепуха! – удивленный услышанным, воскликнул Акимов.
– Летом на луга уезжаем всем семейством, я бабе наказываю: «Ты вот что, жена: припас Ромке оставь», – не обратив никакого внимания на недоверие Акимова, продолжал с увлечением рассказывать Ефим. – Приезжаем, все вроде на месте, а только лежит иначе. У них, у домовых, все, слышь, паря, не как у людей: они нюхом питаются. Домовой – воздушное существо. Ему натура не подходит. А бывает, что обличье свое выказывает как человек. Редко, а бывает. Как-то раз довелось мне подсмотреть. Приехал с ямщины. Тоже посылал меня кум Федор Терентьевич. Не приходилось знавать такого? Ну, нет так нет. Приехал, значит, я, истопила мне баба баню, попарился я, поужинал и лег отдохнуть. Задремал немного. Баба мне с кухни говорит: «Не спал бы ты сейчас, Ефим. Солнце под закат идет. Голова затяжелеет». Я прикрыл глаза-то. Правда, вечереет. В горнице свет какой-то синий-синий и чуть розоватым подернуто. Кинул это я глаза в угол горницы, смотрю, а там сидит домовой. Лицом на меня самого смахивает: бородка, нос, как и у меня, с загнутыми ноздрями. Волосы такие же. А вот, слышь, глаза не мои. Ехидные и до того хитрющие – до смерти не забудешь. Ну, руки, ноги – все как у человека, а только рыжеватой шерсткой покрыты. На пальцах ногти длинные и загнулись, а в чистоте он их содержит. Прищурил я глаза-то, смотрю и думаю: что он дальше будет делать? Достает он с полки книжку, открыл ее, уставился в лист и вроде читает. Квартировали у меня тогда как раз ссыльные: двое, обходительные люди, городские, образованные. Вот, думаю, рассукин же сын, пока я с ямщиной шатался по Нарыму, он грамоте выучился. Долго я смотрел на него. Сам посуди, в кои-то веки домового в натуральном виде собственными глазами вижу. А все ж, видать, как-то он заприметил, что глаза-то у меня не совсем закрыты. Взглянет в книжку, а потом взглянет на меня. Чем бы все это кончилось, не знаю. А только слышу – идет в горницу моя баба. И опять свое: «Не спи, Ефим, на закате. Чё будешь ночью-то делать?» Он, домовой-то, как услышал ее шаги, и будто растаял. Был – и нету. Рассказал я бабе. Она в слезы: «Быть светопреставлению! Боюсь я! Ни за что одна в доме не останусь». Едва я уговорил ее… «Дура, говорю, полезное естество – домовой. Человека ни в жисть не тронет». Да, слышь, паря, пожар для домовых – труба, – глубоко вздохнул Ефим. – Выгоняет огонь их на простор. А вон какая стужа. Куда ему, бедняге, податься? В иную бы избу и зашел, да там свой домовой жительствует. А парами у них жить не принято… В одиночку держатся…
– Ну, а как же они плодятся? – с той же серьезностью, с какой вел свой рассказ Ефим, спросил Акимов, пряча лицо в воротнике дохи и сдерживая смех.
Но вопрос Акимова не застал ямщика врасплох. Понукнув коня, он с тем же увлечением продолжал:
– Был у нас в Тогуре старик Евстигней Захарушкин. До больших годов дожил. Старше его в округе не было. Годов сто двадцать ему было, когда он преставился. Умственный старец был. Столько всего перевидал, столько всего знал, что мы всем селом диву давались! «Многое, ребятушки, узнаете, когда в мой возраст войдете». Ну, мы, конечно, соберемся, бывало, вкруг него и начинаем пытать: «Дед, а бога ты видел?» – «Видел, говорит, много раз». – «А ангелов видел?» – «Ну, этих сколько угодно». – «А чертей видел?» – спрашиваем. «И чертей, отвечает, видел». – «А как они сотворяются?» – допытываем его. «А очень просто, говорит, от божьего дыхания. Дыхнет бог – и готово: либо ангел, либо черт». Спрашиваем: «А зачем он чертей-то плодит? Плодил бы одних ангелов». – «А уж так заведено у него, у бога-то, искони. Если доволен и весел – ангелы появляются, а если вдруг рассердится на что-нибудь – черти плодятся…»
– Ну, а все-таки откуда же домовые берутся? – давясь смехом, спросил Акимов, чувствуя, что его ямщик не привык оказываться в затруднении.
– А домовые, паря, из печного тепла происходят. Собьют печку, начнут ее сушить, вот тут из пара он и рождается. Печное существо домовой. И живет он постоянно тоже за печкой…
Акимов окончательно развеселился, а Ефим только удовлетворенно похмыкивал.
Ночь уже была на исходе, когда сквозь поредевший лес впереди зачернели строения одинокой заимки…
– Ну, паря, попьем сейчас у Филарета чайку, поспим часок-другой и тронемся дальше, – сказал Ефим.
– Кто такой Филарет? – спросил Акимов, слегка освобождаясь от дохи, в которой ему было и уютно и тепло всю дорогу.
– А путем, паря, никто этого не знает. Живет себе в этой трущобе – и все. Охотничает, рыбалит. Старуха у него, сын глухонемой. Давненько я с Филаретом в дружбе. Ничего худого за ним не примечал. Откель взялся в наших краях – бог его ведает. Может, местный какой, от деревни отбился, а может, пришлый – поселенец, а то и совсем беглый. Живет и живет. Обогреться пускает с охотой. Ну, и на том спасибо. В наших краях, паря, людишки занятные, с причудами, оттого и не любят излишних расспросов. Чего сам расскажет, за то и благодарствуй. Уж так повелось.
– Хороший обычай для нашего брата, – усмехнулся Акимов.
– Вот то-то и оно, – отозвался Ефим с пониманием.
Филарет и его старуха встретили приезжих с почтением. Несмотря на ранний час, печка уже топилась, и ее круглое чело было заставлено чугунами. В одном из них оказалась картошка. Старуха быстро очистила с картофелин шкуру, разрезала их пополам и на четвертушки, горкой наложила на широкую сковороду и, залив сметаной, сунула снова в печь.
Акимов сроду не едал такой вкусной картошки. Сметана вскипела, поджарилась, накрыв картошку хрусткой темно-коричневой корочкой. За ночь он сильно проголодался, ел с охоткой, запивал из кружки чагой. Филарет гостей ни о чем не расспрашивал: куда едут, зачем едут? И так все было ясно: едут от царевых слуг, стараются избежать встреч с ними… Старуха тоже не лезла с допросом.
Правда, Акимов заметил, что Ефим с первой минуты захватил разговор в свои руки. Он без передыху расспрашивал Филарета и старуху то о медосборе, то об урожае на кедровый орех, то о зимней рыбалке на озерах.
– Приустали мы, Филарет Евсеич, в дороге. Дозволь нам с парнем поспать часок-другой, – сказал Ефим, когда Акимов отодвинул от себя кружку из-под чаги.
– А проходите вот сюда, в горницу. Я сейчас на пол кину тулупы и подушки подам. – Филарет собрал с вешалки целую охапку овчинных шуб и унес их в другую половину дома. Потом он нагрузился у кровати подушками и тоже отнес их в горницу.
Прямо на полу возникло обширное ложе из тулупов и дох. Акимов сбросил пимы, снял верхницу, вытянулся во весь рост, закинув руки за голову. Ефим вышел на минутку во двор – освободить коней от выстойки и кинуть им корму. Скоро ли он пришел, когда лег рядом, Акимов не почуял. Он спал целых три часа беспробудно. Его разбудил Ефим, встряхнув за плечо:
– Вставай, паря Гаврюха, день на дворе. Пора нам дальше ехать. К ночи надо до Лукашкиного стойбища добраться. Тут нам припаздывать нельзя: дороги готовой нету. Хорошо, если тунгусы нартами накатали, а если целяк пойдет, сильно не поскачешь.
Но Филарет, услыхавший слова Ефима, обнадежил: дорога есть, недавно тунгусы выходили к нему на заимку за мукой. На четырех нартах приезжали. Олени прошли путь свободно, даже бока у них не впали. Да и снегу пока не предел. С осени выпал до колен, и на том застопорило. Гляди, вот-вот подбросит еще. К середке-то зимы так надует, что сугробы возле заимки выше труб поднимутся.
На дорогу хозяева вновь покормили гостей. Старуха вытащила из печки и подала на стол, на сковороде, жареного карася. Это был карась-гигант. Его жирные, желтые бока спускались со сковороды, а сковорода занимала четверть стола.
– Вот это зверь! Ей-богу, таких ни разу не видел! – воскликнул Ефим, присаживаясь рядом с Акимовым. – Где ты его такого, Филарет Евсеич, выхватил? Да ведь, если такого приручить, он за всяк просто лодку таскать сможет!
Диковал над такой рыбиной и Акимов.
– Речной кит! Смотри-ка, какой у него лобяка! Чем же он такой выкормился?
Филарету было приятно удивление гостей. Он степенно поглаживал длинную, почти до пояса, сивую бороду, улыбался беззубым ртом.
– Озерный он. А кормежки тут в озерах – сколько хочешь. Сеть с сыном поставили. Вот он и ввалился. Да так запутался, что простую нитку перегрызть не смог. Вытащили мы его на лед – глазам не поверили.
А уж как изжарен был карась, до чего вкусен он был – тут ни у Акимова, ни у Ефима слов не хватило! Они только языком прищелкивали.
Акимов еще в пору своих путешествий с Лихачевым заметил, что здесь в Сибири, – в деревнях ли, на плесах ли рек, на охотничьих станах – еда отличалась особенным вкусом. Доводилось ему бывать в Петрограде в самых лучших ресторанах, посещал он и званые обеды дядюшки, на которые собирались светила русской науки, – уж там-то чего только не подавали! Иное блюдо так заковыристо называлось, такой иностранщиной веяло от этого названия, а вот есть такое хитроумное угощение приходилось с трудом. А тут простой жареный карась, а удовольствия от него больше, чем от званого обеда. Акимов помнил, как однажды на Кети он высказал свои наблюдения об этом дядюшке. Лихачев усмехнулся, сказал:
– Тут все ближе к природе, Ваня, а природа полна и тайн и чудес. Вот простая штука – пельмени. Ел ты их множество раз. А знаешь ли, что настоящий сибирский пельмень стряпается из четырех сортов мяса: говядина, свинина, баранина, дичина (сохатина, оленина, козлятина). И дело не только в мясе, а и в тесте, в которое необходимо плеснуть несколько ложек крепкой заварки чая. Чтоб пельмень получил неотразимый вкус, его непременно промораживают насквозь, а потом ссыпают в мешок из грубой конопляной нитки и держат в мешке на улице. Хитрое ли дело – конопляный мешок? А вот нате-ка! Содержит, по-видимому, какие-то такие свойства, которые превращают пельмень в волшебство.
Вот и в этом карасе было что-то такое, что можно было назвать волшебством.
– Как вы, хозяюшка, сумели так вкусно изжарить карася? – спросил Акимов смутившуюся старуху, для которой даже странным показался этот вопрос.
– Как всегда. Распорола, очистила, посолила, на сковороду положила, в печь поставила, – перечисляла старуха, все-таки польщенная вниманием гостя к ее стряпне.
– Ан нет, Фекла, про одно забыла сказать, – перебил ее Филарет.
– Ты чё, старик?! Все сказала.
– Нет, не все. Забыла про молоко, – напомнил Филарет.
– И вправду забыла про это, – спохватилась старуха. – Как класть карася на сковороду, подержала его в молоке.
– А для чего это? – продолжал любопытствовать Акимов.
– А чтоб тинный дух от него отошел и мясо стало нежнее, – объяснила старуха.
– Вон оно в чем дело! Вот в этом-то, видать, и загвоздка, – заключил Акимов и переглянулся с Ефимом, который так был увлечен этим разговором, что позабыл о конях. Их надо было напоить прежде, чем запрячь в сани.
Прощаясь у ворот с Филаретом, Акимов попробовал предложить плату за приют и еду, но старик даже слушать об этом не стал:
– Да что ты, паря, как можно такое? Разве мы торгаши какие? Не по-людски это! Нет, нет, паря, не позорь нас.
По правде говоря, Акимов не должен был делать этого. Все заботы такого рода лежали на Ефиме. Но уж очень растрогала Акимова и вкусная еда, и простота стариков с затерянной в тайге заимки.
Однако, когда отъехали от усадьбы с полверсты, Ефим отчитал Акимова:
– Ты, паря, на будущее остерегайся давать плату за приют. В наших местах такое не принято, и можешь людей ужасть как разобидеть. У нас пригреть человека, накормить его почитается божьим делом. Здешний ли ты, беглец ли, а умереть с голоду тебе не дадут и замерзнуть – тоже. Одни вот только старообрядцы да скопцы такое вытворяют, так за это люд-то наш ни в какую их за своих не считает… Ну, еще эти душегубы, какие в Чигару на постоялый двор слетелись. Да тех что считать?! Коршуны!
– Понравились старики мне… Виноват, дядя Ефим. А сын-то у них где?
– Рыбалит на озерах. Вишь, карась со дна наверх пошел.
– Совсем глухой и немой?
– Вон как та елка.
– Несчастный парень.
– А чё? Пакостные-то слова разве счастье слушать?
2
Ефим-то не зря сказал, что парень в рубашке родился. Пока Акимову везло. Путь от заимки Филарета до Лукашкиного стойбища, самый трудный участок маршрута, оказался вполне пригодным. Олени перемесили копытами снег, а нарты пригладили его. Свежий снег слегка притрусил дорогу и не успел еще слежаться. Кони шли легко, свободно, и кое-где Ефим переводил их на рысь. Небольшим препятствием оказались речки, которые пришлось пересекать по целине. Подледная вода уже выступила наружу, и старая дорога была скована наледью. Пришлось искать новый переезд.
Ефим вытащил из саней пешню, походил с ней по снегу, поковырял лед, сковавший речки, и, найдя пологий спуск, пересек русло в новом месте.
– Ну теперь, паря, покатим без задержки, – удовлетворенно сказал Ефим и объяснил свое беспокойство: – Эти речки, язви их, ужасть какие капризные в зимнюю пору. Случалось, вздуются, встанут поперек льдинами, и ну хоть плачь. А нонче, вишь, не успели еще обрюхатиться. И откуда, холера их забери, сила у них берется? Взламывает лед, как ореховую скорлупу. А ведь он чуть не в сажень толщиной. Старики-то, может, правду говорят, когда стращают нечистой силой…
Акимов мог бы, конечно, высказать Ефиму свой взгляд на его рассуждения: живая земля, мол, в Нарыме, мощные процессы происходят в ней, никакой тут нечистой силы и в помине нету, – но ему не хотелось отвлекаться от своих наблюдений.
Равнина, поросшая мелким пихтачом и ельником, простиравшаяся от горизонта до горизонта, была изрезана резко выступавшими холмами и увалами. Акимов знал, что они находятся где-то неподалеку от тех плесов Кети, на которых дядюшка Венедикт Петрович Лихачев производил свои изыскания. Тут одно лето вместе с профессором провел и Акимов. Он вспоминал сейчас те дни с тихой улыбкой. О многом они тогда переговорили с Лихачевым. И немало спорили, касаясь не только общественной жизни России, постановки просвещения и образования в ней, но и специальных вопросов землеведения. Именно тогда Акимов высказал мнение об особенностях геологической структуры междуречья Кеть – Чулым: оно непосредственно смыкается с плоскогорьем, с выходами изломов палеозоя. Дядюшка тогда не то что оспаривал Акимова, а как-то подзадоривал его, будил в нем все новые мысли.
– Молодец, Ванька. Не зря носишь на плечах предмет под названием голова! – пошутил Лихачев и дружески похлопал своего юного друга по крепкой спине.
Приглядываясь сейчас к местности, Акимов мысленно возвращался к своим соображениям, высказанным профессору Лихачеву. «Правильно оценил, Иван, интересную гипотезу изложил, – разговаривал сам с собой Акимов. – Была бы возможность, зазвать бы сюда еще раз дядюшку, пройти эти площади до берегов Енисея, посмотреть на все собственными глазами. Нет, не случайны здесь эти складки».
Думал Акимов и относительно Обь-Енисейского канала. Практически свое значение он уже потерял. Железная дорога, пересекшая всю Сибирь от Урала до Тихого океана, вызвала к жизни новые пути, связывающие обжитые районы с окраинными. Но сама идея Обь-Енисейского канала казалась Акимову и теперь весьма разумной. «Это не только кратчайший стык двух великих рек, но самое главное – это кратчайший выход глубинной Сибири на океан, выход в большой мир человечества. Рано или поздно Россия не здесь, так где-то поблизости будет снова искать путь к Северному Ледовитому океану. Не может она предать забвению свои интересы в арктической области. Такой великий народ, как русский, вдохнет жизнь и в эти обширные пространства».
Мысли Акимова уносились в далекое будущее. Он временами забывал, где он, что с ним.
Ефим не приставал к нему с побасенками о домовых и чертях, не пел он и протяжных, заунывных песен, которые, по-видимому, любил всей душой, так как вполголоса тянул невнятные слова во всякую свободную минуту. Сегодня Ефим помалкивал, чувствовал, что седок его объят раздумьями, ему не до него.
– А вон, паря, и Лукашкино стойбище. Видишь, дым над лесом?
В синеве приближающихся сумерек Акимов не сразу рассмотрел на фоне морозного неба клочья тусклого дыма.
К ночи лес помрачнел, и откуда-то из-за увалов потянуло резким, пронзающим до челюстей холодным ветром.
– Завтра, паря, как провожу тебя дальше, заспешу в обратный путь. Что-то сиверко потянуло. Может ударить сильный мороз, – сказал Ефим и, помолчав, добавил, видимо, для подбодрения Акимова: – Тебе-то на лыжах мороз не помеха, все равно соль выступит на плечах, а вот на конях ехать шибко плохо. Мороз прошибает насквозь и тулуп и доху.
Акимов и ранее предполагал, что Лукашкино стойбище – это не село, даже не деревня. Но то, что он увидел, превзошло самые худшие его ожидания.
На маленькой полянке, окруженной, будто изгородью, малорослым смешанным леском, утопая в снегу, стояли три круглые юрты. В отверстия возле самых макушек выползал дымок, изредка вместе с дымом выскакивали бойкие искорки. Они игриво вздымались в небо, посверкивая своим горящим тельцем, и загасали как-то неожиданно, трагически отставая от клубков дыма.
Возле юрт бродили низкорослые и кривоногие олени, покрывшиеся длинной шерстью, с мохнатыми бородами в ледяных сосульках. Тут же барахтались в снегу рыжие собаки, обросшие, как и олени, плотной, скатавшейся на боках шерстью.
Ни олени, ни собаки даже голов не повернули в сторону подъехавших.
– Эй, Егорша, где ты?! – крикнул Ефим. Долго никто не откликался и не выходил из юрт.
– Что они, в другое место откочевали, чё ли? Пойду посмотрю, – обеспокоенно сказал Ефим и направился к одной из юрт.
Но войти в нее не успел. Навстречу ему, отбросив меховой полог, вышел низкорослый, с раскрасневшимся лицом, с жидкими усиками тунгус, одетый в короткую дошку из оленьей шкуры, в унтах, в беличьей серой шапке.
– О, Ефим! Здорово! Опять приехал, опять Егорша проводника давай, – заговорил тунгус, показывая из-под обветренных, красных губ белые крепкие зубы. Тунгус говорил по-русски чисто и твердо и лишь звук «д» произносил как мягкое «т».
– Здорово, Егорша! Опять к тебе с докукой: проводи человека. Хороший человек.
Акимову показалось, что в голосе Ефима излишне подчеркнуто прозвучала просительная нотка и от этого ему стало как-то не по себе. «Завишу целиком от каприза тунгуса. Что-то товарищи мои тут не додумали. А если он откажется?» – мелькнуло у него в уме.
– Уходить собрались, Ефим, на Васюган. Зверь туда пошел. Орех нынче был там. Многие уже откочевали.
– Ну, не завтра же ты решил уходить? Проводишь и уйдешь.
– Николка проводит, – помолчав, сказал Егорша и, впервые посмотрев на Акимова, пригласил его и Ефима в юрту. – Пошли. Баба мясо сварила. Лося на днях тут подвалили.
– Добро! Погреться малость у меня тоже найдется чем, – подмигнул Егорше Ефим. Акимов заметил, что тунгус весело сверкнул белыми зубами и даже прикрыл глаза от предстоящего удовольствия.
– А лыжи, Ефим, привез? Ничего у меня не осталось. Все на нарты в тюки сложил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































