Текст книги "Сибирь"
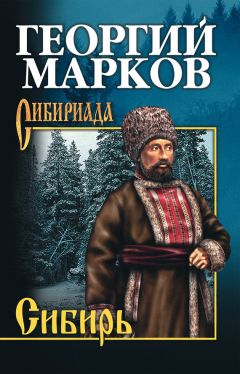
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Разбудил Катю говор в избе. Она подняла голову с полушубка, прислушалась.
– Уж такой ветер, тетка Степанида, что с ног валит. Ни зги не видно. Заплот наш и тот будто растаял. Едва об него не расшиблась, – рассказывала словоохотливая женщина.
– Раз к утру не стихло, теперь самое меньшее до вечера будет шуметь, – сказала старуха и, погремев ведром, подала его женщине.
– Погоди, Анисьюшка, тут у меня на загнетке в горшочке кусочек маслица припасен. Вымя-то небось задубело на холоде, – сказала Мамика, и Катя поняла, что происходит: старуха уже не может сама доить корову, и вот пришла соседка, с которой, видать, есть уговор.
Женщина вернулась в избу никак не ранее чем через полчаса. В избе стало уже светлеть. Катя чуть отогнула занавеску, которой были прикрыты полати, увидела Мамику и высокую женщину в полушубке. Они разливали молоко по кринкам, тихо переговаривались:
– Корму корове и овцам я дала, тетка Степанида. В полдень сама им еще подбросишь, а вечерком я приду снова.
– Ну и хорошо, Анисьюшка. Дай бог тебе здоровья. Чем нонче заниматься-то будешь?
– Молотим у лавочника. Ладно, хоть до бурана кладь успели в ригу перевезти. Есть что молотить.
– Ну, а как там на селе-то, Анисьюшка, что слышно?
– А эту городскую толстуху все клянут, а молоденькую-то шибко жалеют. Чо она, разве не правду на сходке сказала? Чистую правду! Мужики сильно на урядника со старостой зуб точат. Мой-то Демьян какой? Полмужика: одна рука да одна нога. А и то куда там! Вот, говорит, как нас тут, фронтовиков, поболе соберется, мы этим начальникам живехонько фортификацию сообразим… Так и говорит, фортификацию.
– Ишь ты! Это, значит, как же?
– А так, говорит: были – и нету! На их место поставим своих, из бедняков, кому хомут шею трет и днем и ночью…
– И поверь мне, Анисьюшка, сделают, как говорят, и взыскивать будет не с кого. С народом шутки плохие.
– Ой, плохие шутки с народом! Уж коли захочет – поставит на своем, – согласилась Анисьюшка и заторопилась домой. – Ну, тетка Степанида, я побежала. Прощевай до вечера. Кинуть сенца корове и овцам не забудь…
– Помню, Анисьюшка, помню.
Когда шаги Анисьюшки смолкли, Катя подала голос:
– Доброе утро, Степанида Семеновна!
– О, да ты проснулась, голубушка?! Небось Анисья разбудила. Громогласная она. Привыкла кричать со своим мужем. Искалеченный он. Мало что руки и ноги нету, глухой, как стена. Снарядом его шибануло. Едва, сказывают, из-под земли отрыли. Как спалось-то? Не знаю вот, как тебя родители нарекли?
– Катей зовут меня. А спалось мне хорошо, Степанида Семеновна.
– Ну раз так, вставай. Я сейчас только на крыльцо выйду, посмотрю, не бродит ли кто поблизости. Погода-то хоть и не к тому, а все-таки…
Однако Степанида Семеновна не успела выйти: в сенях послышался топот, и, широко распахнув дверь, в избу вбежала запыхавшаяся Анисьюшка.
– Тетка Степанида, ты послушай, чо деется на белом свете! – торопливо заговорила женщина. – Та молоденькая-то сбежала из скотной избы урядника. Ищут ее Феофан со старостой по всему селу. Сказывают, лихоимка-то толстая, которая на сходке распиналась, велела землю взрыть, а беженку найти…
– Ну и слава богу, Анисьюшка, что девица сбежала. Ни в чем она не виновата. – Степанида Семеновна повернулась к иконам, перекрестилась.
– Пошли ей, царица небесная, удачи, – громко подхватила Анисьюшка и, вытянув шею, замахала трехперстием, стараясь не отставать от старухи.
– А сказывают, нет ли, Анисьюшка, как она побег свой учинила? – спросила старуха, встав под полатями и рассчитывая, что Катя услышит весь разговор.
– Как же, тетка Степанида, сказывают! И прямо чудеса какие-то! Рано утром Феофан будто понес ей еду. Открыл замок, входит в избу, а в ней – никого. Он к окну – окно цело. Он на печь – там пусто. Он в подполье – и там никого. Стал он потолок простукивать – все плахи на месте. Побежал на улицу: окно как было с осени забито, так и стоит. Следов – никаких. Снегу надуло вокруг на два аршина. Сгинула – и все! Феофан-то, сказывают, бормочет: «Оборотка эта девка! Ей-богу, оборотка! Через трубу ушла!»
Степанида Семеновна покачала головой, с укором сказала:
– Оборотка… Дурень Феофан. А ей, может, сам господь бог помогал. Тогда как?
– Вот то-то и оно, тетка Степанида, – согласилась женщина и, сожалея, что ей нужно торопиться на молотьбу, скрылась за дверью.
– Слышала, дочка, как тебя урядник-то малюет? – с усмешкой спросила старуха. – Ах, негодяй, ах, казнокрад!..
– Слышала! – весело сказала Катя и спустилась с полатей.
– А все ж поберегись, дочка. Все они сейчас обшарят: и дома, и овины, и бани. Знают ведь: в такую погоду из села ходу нету…
– А к вам придут?
– Могут. А ты не бойся. Поешь сейчас – и снова на полати. От печки заслоню тебя мешком с шерстью, а с этого краю сама лягу. Только не прослушать бы их в воротах, хоть и скрипят они у нас – за версту слышно.
Катя сбегала на улицу, вернулась, вздрагивая:
– Ну и метет! Сильнее, чем ночью!
Она умылась над лоханью, подсела к столу. Старуха придвинула глиняную кружку с молоком, клинообразный ломоть ржаного хлеба и себе взяла такую же кружку, такой же кусок хлеба. Только в ее кружке была вода. Кате стало стыдно перед старухой. «Себе отказывает, последнее мне отдает», – мелькнуло в голове.
– Много вы мне налили, Степанида Семеновна. Дайте отолью вам, – предложила она, берясь за свою кружку.
– Молоко, дочка, есть. День у меня сегодня постный, – успокоила старуха Катю и принялась угощать ее. – А ты ешь, не смотри на меня. По моим годам мне еды-то вот столечко требуется! – Старуха выставила жилистую руку, оттопырила скрюченный мизинец.
Катя быстро выпила молоко, съела хлеб и полезла на полати.
– А коли станет скушно там, можешь сойти снова. Я пока приберусь тут, – сказала старуха.
– Помочь вам, Степанида Семеновна, не надо? – спросила Катя, испытывая острое желание приняться за какое-нибудь дело.
– Управлюсь, дочка. Спешить мне некуда. А ты все-таки полезай. Не ровен час, нагрянут. Ничего тут не оставила? – Старуха осмотрелась.
– Все на мне, бабушка, кроме полушубка. А он на полатях.
Катя мелькнула юбкой и скрылась. Свернувшись клубком, она лежала неподвижно, прислушиваясь к свисту вьюги. «Кто же это придумал насчет моего освобождения? Маша? Тимофей? Петька? А может быть, сам Лукьянов? Ну, кто бы ни придумал, придумал хорошо!.. Если не накроют меня здесь, ускользну в Томск, а там, может быть, и Ваню встречу».
– Не спишь, дочка? – вдруг послышался голос Степаниды Семеновны. Она карабкалась на полати.
Катя схватила ее за руку, стала помогать.
– Залезу, дочка, не первый раз.
Старуха легла на самом краю полатей, почти рядом с Катей.
– Придут сейчас, – сказала она с уверенностью, будто кто-то невидимый сообщил ей об этом.
– Откуда вам известно? – спросила Катя.
– По времени пора бы.
Они лежали молча. Катя напрягала слух: не скрипят ли ворота? Не подымаются ли по ступенькам крыльца староста с урядником? Но никакого скрипа со двора не слышалось. Все так же свистел ветер за стеной, и рядом, с хрипом в груди, дышала Степанида Семеновна.
– А ты, дочка, замужняя, нет ли? – спросила вполголоса старуха.
Катя давно ждала этого, зная, что такой человек, как Мамика, не оставит ее без расспросов.
– Не успела еще, бабушка, замуж выйти. Жизнь у меня такая…
– Какая бы жизнь ни была, а замуж выходить надо. Уж так господом богом нам начертано.
– Да ведь за кого попало выходить замуж страшно, а желанного еще не встретила.
– Ищи, милая, нареченного. Муки мученические – быть всю жизнь с чужим. По себе знаю. Два мужа судил мне господь. Первый когда умер, я осталась вдовой с тремя детьми… Ну, поначалу трудно было, а все ж почуяла свободу. С души-то будто цепи свалились. Восемнадцать годов прожила я вдовой. Наравне с мужиками в поле и в обчестве. А в сорок два вышла замуж снова. Когда второй муж умер – прожили мы с ним всего-то восемь годков, – показалось мне: померк белый свет. Хоть и был он не всегда ровный и ласковый. Случалось, и бивал меня…
– Да что вы говорите?! За что же? – Катя поднялась на локоть, удивленная словами старухи.
– Да ни за что, дочка. Поверье ведь есть: от мужниных кулаков молодеет баба.
– Дикое поверье, Степанида Семеновна! – возмутилась Катя.
– Ну не скажи, – спокойно возразила старуха. – Приметила я и по себе, и по другим бабам: синяки пройдут, и становишься ты вроде на личность лучше, краше, а на тело крепче и моложе…
– Что вы, Степанида Семеновна, говорите?! Да разве можно допускать рукоприкладство! Это же варварство!
– Уж как хочешь называй, а только говорю тебе от души, – убежденно сказала старуха.
Катя ушам своим не верила. «Боже мой, как же глубоко вкоренилось невежество!.. И ведь это говорит старая, мудрая женщина, голос которой смиряет страсти всего села… Чего же ждать от других крестьянок, более забитых судьбой!»
– А найдешь нареченного, дочка, сердце само тебе скажет: он. Оно никого больше не примет, – продолжала Степанида Семеновна, ничуть не смущенная несогласием, которое так горячо и запальчиво высказала ее нежданная гостья.
Вдруг завизжали ворота, заскрипели ступеньки, и клубы морозного воздуха ворвались в широко распахнутую дверь. Катя сжалась в комок, застучала в висках кровь, сердце забилось сильными толчками. «Урядник!» – промелькнуло в голове. Но вот дверь захлопнулась, кто-то с разбегу шлепнулся на середину избы, и Катя услышала громкий веселый смех Петьки Скобелкина.
– Барышня, эй, барышня, а тебя, оказывается, волки слопали! – Смех душил Петьку, он катался по полу. – Бабка Степанида, не бойсь, не придут. Сидят горюют, трясут штанами. И толстуха там небось тоже подмокла…
Степанида Семеновна выставила с полатей голову, а Катя приподняла занавеску.
– Чо там, сынок? Обсказывай, – строгим тоном приказала старуха.
Петька перекувырнулся еще раз-другой, встал на колени, снял шапку-ушанку, похохатывая, начал рассказывать:
– Как только урядник поднял тревогу – я тут как тут. Позвал он старосту, велел привесть мужиков избу осматривать, беглянку искать. Дал и мне лопату. «Пойдешь с нами, чурбан, будешь дорогу нам пробивать». – «Как изволите, а обзываться можно опосля. Еще неизвестно, кто из нас чурбан». Ну, об этом, конечно, я только подумал, а слов никаких молвить не посмел. Пошли. Он рвется вперед как бешеный, хрипит, будто жеребец запаленный. «Оборотка энта девка! В трубу она вылетела!» – кричит он про вас, барышня. А сам в одну избу, в другую, в амбары, в бани, зыркает как очумелый.
Прошли мы по верхней улице, а на нижнюю надо по проулку идти. Метет тут – ужасть как, с ног валит! Однако бредем. Мужики кроют старосту и урядника последними словами. А те, суки, молчат, как в рот воды набрали. Уже светать стало. Вижу: впереди бугорок. Я толк в него лопатой. В снегу – клок овчины. Ну, все застопорили, сгрудились. «Что это за невидаль?» – спрашивают друг дружку. А староста заблеял, как баран: «Как ее, это самое, может, тово, ее волки изничтожили». Мужики аж позеленели, принялись ругать урядника. «Да ведь ты, холерская твоя душа, стравил человека зверью! Это же клок от полушубка ее. Тебе же за это пощады ни на том, ни на этом свете не будет!» Урядник онемел, опустил руки, стоит сам не свой. Староста струхнул и того боле. Заурчало у него в брюхе сильнее ветра. Скидывает порты прямо на ветру: «Извиняйте, мужики, приперло, как ее, это самое». А мужики на него: «Пусть тебя наизнанку вывернет, убивец ты разнесчастный!» Тимка отковылял еще чуть подале, толк костылек в сугробчик, а там – валенок. Ну уж тут каждому картина яснее некуда: барышня, видать, хотела убежать по тракту, а волки будто стерегли ее, разорвали на части, раскидали косточки и одежку по всей поляне. Где их теперь найдешь? По весне разве вытают. Тут мужики в такую ярость пришли – страхи страшенные. Я думал: конец и уряднику и старосте. «Ищите, кричат, понятых себе на том свете, а мы вам не служаки!» И айда кто куда, по домам. Я тоже лопату на плечо. Тимка догоняет меня, а плечи у него от смеха ходуном ходят. Хвалит меня изо всех сил: «Молодец, Петька! С тобой не пропадешь!» Ведь я это, барышня, придумал!
Катя слушала Петьку Скобелкина, высунувшись чуть ли не до пояса. Она живо представила все, что происходило в раннее утро этого вьюжного дня. Лицо ее, вначале встревоженное, строгое, повеселело, и она залилась звонким смехом.
– Ты, Петя, просто прелесть! Так им и надо! Мы им еще не то придумаем!
– Шутник ты, сынок, – не скрывая усмешки, сказала Степанида Семеновна. – Одурачил их хорошо. Того заслужили. А только придут они в себя и станут еще злее. Не думай, что взял верх над ними навсегда.
Трезвый голос старухи несколько остепенил и Петьку и Катю, которые в эту минуту забыли и думать об опасности.
– Не стращай, Мамика! Вот я еще поднатужусь и такое придумаю, что земля закачается! – похвалился Петька, и в голосе его не чувствовалось никаких сомнений в своей силе.
– Петь, а вьюга не утихает? – спросила Катя, про себя подумав: «Уходить мне скорее из Лукьяновки надо. Старуха не зря предупреждает».
– Ни капельки, барышня! Наш дед Андрон говорит, что еще два дня буран не уймется – по костям чует.
– Ну ты там, сынок, не зевай. В случае чего: стук-постук нам в окошко, – сказала старуха, видя, что Петька вскочил и нахлобучил до бровей шапку.
– Само собой, Мамика! Я сроду никого не подводил!
5
В сумерках опять пришла Анисьюшка, забрала ведро, отправилась доить коров. Едва она, справив свои дела, удалилась к себе домой, послышался топот на крыльце, и порог переступил Лукьянов.
– Здравствуй, Степанида Семеновна, здравствуй, Катя! – сказал он, окинув избу быстрым взглядом.
Старуха сидела у стола, вязала. Поднялась навстречу Лукьянову, приветливо поздоровалась. Катя узнала голос Машиного отца, отдернула занавеску полатей.
– Ой, вон кто! Здравствуйте, Степан Димитрич!
– Недолго Петькина хитрость спасала тебя, Катя, – заговорил торопливо Лукьянов. – Раскусили лиходеи обман. Опять по избам пойдут с двух концов села. Не верит эта Затунайская, чтобы ушла ты, Катя, в такую погоду. Велит отыскать живую ли, мертвую ли…
– Как же быть, Степан Димитриевич? Уж очень не хочется снова попадать к ним в каталажку, – вздохнула Катя.
– Потому и зашел. Придется в ночь уйти в тайгу. Хоть идти по такой пурге будет лихо, а выбора другого нету. Иначе схватят они тебя.
– А куда ты ее, Степан, поведешь? Не на выселок?
– Нет, тетка Степанида. Выселок они тоже не обойдут. У Окентия Свободного хочу ее спрятать. Дня на два, на три. А дальше видно будет.
– Место хорошее, только путь-то туда шибко тяжелый.
– За ночь пробьемся, Степанида Семеновна.
– А у тебя-то были, нет ли?
– Все углы обнюхали.
– Обыск делали? – беспокоясь за лихачевские бумаги, спросила Катя.
– Заглянули в подполье, в амбар, баню осмотрели. Схватился я с ними. На ножах расстались.
– Давно такого, Степан, не было. Пожалуй, с той поры, как из этапа семеро бежали. Помнишь, нет ли?
– Как же, помню! Вместе с тобой, тетка Степанида, подмогли им тогда. Кажись, в погребе они у тебя день просидели? К Окентию же Свободному я тогда их увел… Ну, будь готова, Катя, к вечеру попозднее. На лыжах хаживала?
– Немножко случалось. С родителями в финскую деревню на каникулы ездила, каталась с гор…
– Ну ладно. Жди.
Лукьянов ушел. Старуха отложила вязанье и принялась готовить ужин. В избе совсем стемнело. Если бы не полоски света, падающие в дырочки дверцы железной печки, то и углы можно спутать – где какой. Но старуха передвигалась по избе ловко, и Катя не успевала следить за ней. Вот она загремела заслонкой у чела большой печи, а через минуту, как будто перелетев избу от стены к стене, застучала уже посудой у стола.
– Спустись, дочка, ужинать. Поешь получше, дорога у тебя длинная, – пригласила старуха. – Тут я сальца кусочек сберегла, да есть картошка, печенная в золе.
Катя спустилась с полатей, ощупью нашла стол, села на лавку.
– А кто этот человек – Окентий, Степанида Семеновна?
Старуха помедлила с ответом. Видимо, не так прост был этот Окентий Свободный, чтобы сказать о нем что-то существенное двумя-тремя словами.
– Не поймешь его сразу, кто он. Не то вероотступник, богохул, не то блаженный чудак. Поглядишь сама, – уклонилась от прямого ответа старуха.
Ужинали не спеша, по-прежнему без света. Старуха вспомнила историю с побегом семи каторжан. Дело было осенью четырнадцатого года. Этап двигался из Томска на прииск. Гнали партию осужденных солдат, офицеров, рабочих, протестовавших против войны. Партия была многочисленной, разноликой, буйно-веселой, несмотря на тяжкие приговоры: меньше пяти лет каторги ни у кого не было. Во время утренней поверки произошел обман. Подставные голоса отозвались за отсутствующих. Побег семи обнаружился только в дороге. Случалось подобное нередко, но исчезали один-два. Тут же убежали сразу семеро.
Лукьяновку обшаривали по всем швам, как старую шубенку. А беглецы в это время сидели у Мамики на огороде, в погребе. Погреб был старый, обвалившийся, безо льда. Кругом стеной – конопля, вымахавшая в рост человека. Никому в голову не пришло искать арестантов в коноплянике. Ночью Лукьянов провел арестантов к Окентию Свободному, а оттуда они ушли в Томск.
– Теперь, дочка, и тебе по этой же пути доведется иттить, – закончила свой рассказ Степанида Семеновна.
Поздно вечером в избу вновь с шумом ввалился Петька Скобелкин.
– Прощальный час, барышня, наступил. За овинами, возле леса, тебя ждет дядя Степан. А до него – проводник я. Ужасть, как жалко отправлять тебя из Лукьяновки! Если чо не так было, барышня, извиняй. Может, чо сказанул опять же по темноте, просим прощения. – Петька говорил серьезно, в голосе его не было обычной шутливости, и это тронуло Катю до слез.
– Ты не темный, Петя, нет, нет! Ты верный товарищ! Дай я тебя обниму на прощанье! – Катя прижалась к Петьке, похлопала его по спине. Потом обняла старуху. – Недаром, Степанида Семеновна, прозвали вас Мамикой. Спасибо за приют, за ласку, за науку! Вечно вас буду помнить!
Старуха всхлипнула, сунула Кате в руки ломоть хлеба.
– Положи, дочка, за пазуху. В дороге подкрепишься.
Едва спустились с крыльца, снежный смерч ударил Катю в лицо. Из глаз посыпались зелено-фиолетовые искры. Катя сжалась, присела, ждала нового удара.
– Прикрой глаза шалью, барышня, – посоветовал Петька.
Катя стянула платок к носу, однако новый порыв вихря так секанул ее по щекам, что ей показалось, будто брызнула из них кровь.
– Рукой, барышня, прикрывайся. Вот так. – Петька прикрыл лицо рукавицей. Третий удар вихря Катя упредила: Петькины советы помогали.
Они перебежали улицу, по узкому проулку спустились к речке, закованной в лед, пошли вдоль высокого яра.
Берег надежно защищал их от ударов ветра. Вскоре впереди показалась темная полоса леса. От его непроницаемой загадочности у Кати заныло сердце.
– Ну, барышня, конец страданиям – лес начинается. Там и в бурю спокойствие, – оглянувшись, сказал Петька. Он словно почувствовал состояние Кати, ее острую неприязнь к этой темной стене, чужой и грозной.
Возможно, Катя и поверила бы Петьке, чтобы хоть капельку сбавить то напряжение, которое, как в тисках, сжимало ее сейчас всю – с ног до головы, но только парень умолк, где-то неподалеку раздался жуткий треск, и земля содрогнулась от грохота.
– Ого, как выламывает, холера ее возьми! – выругался Петька, а Катя от испуга на несколько секунд остановилась, замирая.
– Не трусь, барышня, дядя Степан проведет тебя как по плотуару, – щегольнул Петька своими познаниями.
А Лукьянов уже ждал их. Он на полшага отделился от толстой сосны, сказал:
– Катя – ко мне, а ты, Петро, поворачивай назад! И смотри в оба!
– Не сумлевайся, дядя Степан! – крикнул Петька и вместе с порывом ветра исчез из глаз в облаке снега.
– Вставай, Катя, на снегоступы. Я покажу, что к чему, – сказал Лукьянов, вытаскивая откуда-то из тальникового куста лыжи. Катя приняла их и удивилась тому, что они были совсем непохожими на те финские, на которых каталась когда-то. Те лыжи были длинные, узкие, с подстилками и креплениями. Эти, наоборот, оказались короткими, широкими. К тому же они были обшиты жестким мехом.
– На таких я не ходила, Степан Димитрич, – виновато сказала Катя, ощупывая легкие, гибкие лыжи, с ремнями на середине и с веревочками, тянувшимися от передней кромки.
– На других тут не пойдешь, а не идти нельзя. Поставь вот сюда ноги. Я ремнями их обвяжу…
Кате показалось, что в голосе Лукьянова прозвучал упрек. Она поспешила встать на лыжи, сказала:
– Постараюсь, может быть, и сумею.
– Не боги горшки обжигают, – утешил ее Лукьянов и принялся за дело. Завязывая ремни, он рассказал, как легче двигаться на этих лыжах. Потом на минуту исчез за кустом и вышел оттуда также на лыжах.
Они пошли. В вихрях снега Лукьянов то скрывался совсем, будто проваливался в преисподнюю, то возникал на расстоянии вытянутой руки. Хотя лыжи были совсем иными, старый опыт пригодился. Катя на первой же версте пути приноровилась к ним. Лыжи не скользили назад: ворс меховой обшивки взъерошивался и тормозил. Особенно это помогало при подъеме на взлобки. Оттого, что лыжи были широкими, они хорошо держали на снегу, не тонули. Быстро поняла Катя и другие преимущества лукьяновских лыж. Будь они длинными, ими невозможно было бы маневрировать в таежной чаще.
Раза два концами лыж Катя въехала под валежник и тут же поняла свою оплошность: необходимость натягивать веревочки. При натяжении носы лыж вздымаются, и мелкий валежник не преграждает пути. Поняла Катя и другое: веревки помогают удерживать равновесие, вносят в движение ритмичность.
Местами Лукьянов прибавлял скорость, и Катя едва успевала за ним, но после такой пробежки он давал большую передышку, и она успевала отдохнуть. Катя не могла знать тогда, что знал Лукьянов. Лес не был повсюду одинаковым. В отдельных местах он рос на супесках, корни деревьев здесь обычно простирались по поверхности и при ударах вихрей легко обнажались. Лукьянов опасался и за себя и за Катю. В ночном сумраке, в непроглядном месиве снега легко попасть под дерево, сокрушенное ветром. Тайга то и дело оглашалась треском. Лукьянов спешил пройти наиболее опасные участки как можно быстрее. Катя следовала за ним по его лыжне, и это облегчало ей путь. Она заботилась только об одном: не отстать, не потерять из виду своего проводника. Ее лыжи скользили по лыжне как-то сами, без особых усилий, и Катя ни разу не уклонилась в сторону.
В логу, в затишке, Лукьянов остановился, поправил ружье, висевшее за спиной.
– Ну, Катя, считай, что мы у цели. До Окентия не больше двух верст. А ходишь ты хорошо. Даже не ожидал. Уморилась, нет? – Лукьянов вынул кисет, начал набивать трубку, которая всегда была при нем – про запас. В такой ветер не так-то легко завернуть цигарку, хотя он и предпочитал этот способ курения.
– А сколько же мы прошли, Степан Димитрич? – спросила Катя, вдруг почувствовав страшную усталость.
– До этого лога от села пять верст, я считаю. А по дороге, кружным путем, до Окентия от Лукьяновки пятнадцать верст.
– Так мы спрямили?! – удивилась Катя, про себя подумав: «Ну, на две-то версты у меня сил хватит, а вот если б пришлось идти дальше, опозорилась бы!»
Остановку Лукьянов не стал затягивать, курнул трубку, объяснил:
– Затемно надо в село мне вернуться. Пойдем дальше.
Катя с трудом двинула ногами. Они подламывались в коленях, дрожали икры. «Шагай, шагай, теперь уже недалеко!» – мысленно подбодрила себя Катя. Сил сразу как-то прибавилось, она заскользила вслед за Лукьяновым.
6
Здесь, в логу, был словно другой свет. Ветер свистел где-то над головой, и снежные вихри проносились по оголенным ребрам лога. Идти было легко, и Катя удивилась, когда Лукьянов, круто вывернув свои лыжи, сказал:
– Ну, вот он и Окентий Свободный. Стучать сейчас будем.
В двадцати шагах от себя в окружении молодых пихт, запорошенных снегом, Катя увидела избу с двумя окнами. Вокруг избы не было не только двора, но даже изгороди. Не было амбаров. Не облаяли пришельцев и собаки. Лес сумрачный, небо непроглядное, земля промерзшая, и ни единого живого звука…
Лукьянов кулаком забарабанил в окно. Переждал немножко и снова принялся стучать.
– Ишь ведь как заспался Окентий! Ни ответа, ни привета, – бормотал он, продолжая дубасить по раме.
– Эй, кто там?! Заходи, изба не закрыта, – послышался голос издали.
– Здорово, Окентий! Это я, Степан Лукьянов. Идем, Катя, очнулся наконец хозяин.
Лукьянов и Катя сняли лыжи, обогнули избу и остановились возле двери, не решаясь войти.
– Куда ж он девался? Не то в избу вернулся, не то куда-то ушел, – вслух рассуждал Лукьянов.
– Входи, Степан, входи. – Окентий на руках нес охапку дров от поленницы, белевшей между двух больших елей. Лукьянов посторонился, открыл дверь, пропустил хозяина вперед.
Когда Окентий зажег жировик, Катя осмотрела избу и самого Окентия. Изба была просторная, рубленная из круглых бревен. Кроме глинобитной печи, стола с лавкой, маленькой железной печки, вынесенной на самую середину избы, ничего здесь не было. Правда, по стенам избы, особенно в углах, висели метелки какой-то травы.
Видать, хозяин не жалел дров. Тянуло теплом и от большой печи, гудела и маленькая печка, постреливали еловые обрубки. Но всего этого Катины глаза коснулись мимолетно, потому что, дойдя до Окентия, остановились на нем. Кате вспомнились слова Мамики: «Не то вероотступник, богохул, не то блаженный чудак…»
Это был щуплый старик с круглой лохматой головой, непричесанной, редкой бородкой, с морщинистым лицом и носом, выразительным до удивления. Поражала не величина носа, слишком крупного для такого худого, скорее даже испитого лица, а форма его. Начавшись между глаз высоким переносьем, он неожиданно растекался по щекам, становясь приплюснутым. А кончик был вздернут и будто бросал вызов всему окружающему миру. Стоило взглянуть на Окентия, как становилось ясно: этот человек необычный задира, неуживчивый с другими. Но так ли это было на самом деле, Катя не знала. Окентий скинул полушубок, остался в длинной холщовой рубахе до колен, в пимах, с напуском широких шаровар, – стал приглашать Лукьянова пройти. Катю он, казалось, не замечал.
– Ты чего это, Степан, в этакую сгинь по лесам шастаешь? – спросил Окентий негромким писклявым голоском. – Я мог бы и напугаться твоего стука. – Он потешно замотал головой, протяжно засмеялся, прищуренные юркие глазки его округлились, заблестели от огня светильника.
– Нужда, вишь, Окентий, прижала. Уж ты не обессудь, – сказал Лукьянов и быстро снял с себя свою суконную короткую тужурку, устраивая ее вместе с шапкой на длинный кляп, вбитый в стену.
– Из-за нее, что ль? – Окентий кивнул на Катю.
– Крючки прицепились, – кратко объяснил Лукьянов.
– Сымай одежу, дочь. Проходи вон на лавку, отдыхай, – обратился Окентий, впервые взглянув на Катю. Теперь старик говорил твердым, низким голосом, и Катя поняла, что ее новый знакомый умеет придавать своему голосу разные тона.
Катю пошатывало от усталости. Она устроила полушубок на тот же кляп, на котором висела тужурка Лукьянова, и с удовольствием опустилась на лавку, положив подрагивавшие руки на стол.
– Прошу тебя, Окентий, подмочь мне. Пусть подружка моей дочки переднюет у тебя, а послезавтра под вечерок выведи ее к выселку. И никому ни гугу. Крючки прицепились, – повторил Лукьянов слова, раз уже сказанные.
– Вот уж кого гром бы разбил! – воскликнул Окентий твердо и заверещал пискливым голоском: – А хоть и больше пусть поживет, пить-есть найду чего… И на дорогу к выселку выведу. Чего же не вывести…
– Путь испытанный. – Лукьянов переглянулся с Окентием. Катя заметила это и вспомнила рассказ Мамики об арестантах, переправленных Лукьяновым из села к Окентию. Может быть, они пробивались к своей свободе по этой же дороге…
Окентий достал из широкого чела печи большой чайник, вытащил из столешницы круглые чашки, выдолбленные из кусков дерева, достал из подполья туесок с медом, сухарницу из бересты и пригласил отведать с устатку чайку.
Кате очень хотелось пить, но еще сильнее ей хотелось спать. Обжигаясь кипятком, она выхлебала чашку крутого навара чаги, откровенно попросила:
– А лечь мне можно где-нибудь, дедушка?
– А почему нельзя? Все можно. – Он стащил с печи дерюгу, кинул ее в угол. – Вот тут и ложись.
Катя взяла свой полушубок, завернулась в него, край дерюжки свернула в комок и легла. Она не слышала ни того, когда ушел Лукьянов, ни того, когда, загасив светильник, залез на печку Окентий. Она спала непробудным сном человека, силы которого были исчерпаны до предела.
Проснулась Катя поздно. Окна стояли светлые и белые-белые от налипшего снега. Буран, по-видимому, утихал. Ветер торкался в стены все реже и реже. Дрова в железке прогорели, и в избе становилось прохладно. Катя подбросила в печку дров. Угли еще тлели, и заново поленья разжигать не потребовалось.
Окентий куда-то уже ушел. На столе стоял чайник, тоже изрядно остывший, тут же была чашка с брусникой, лежала связка вяленых чебаков и черный сухарь. Катя поняла: хозяин не дождался ее пробуждения, но и не забыл о ней, оставил поесть. Можно жить хоть целый день.
Катя прежде всего занялась собой: умылась над корытцем, тщательно причесалась. Темно-вишневые волосы ее сбились, переплелись так, что гребенка сразу не брала. Вот уже двое суток она не занималась своей прической. У Мамики на полатях тесно, потолок не давал приподнять голову, ну, а вчера, после пробежки по ночной тайге, ей было не до волос. Она, кажется, высохла от пота только под самое утро… Умываясь, Катя обнаружила на лице две царапины от сучков. Слава богу, они уже засохли и не болели.
Завтракала Катя не спеша. Впереди у нее бездна времени, и его нужно было чем-то занять. Из еды, оставленной Окентием, ей особенно понравилась брусника: крупная, сочная, схваченная морозом, она была сладкой и ароматной. Катя съела все, что оставил Окентий, а сок выпила через край чашки. Потом она принялась за уборку избы. Подметая пол, перемывая посуду, невольно думала о хозяине избы. Жилище его, человека уже престарелого, нельзя было назвать запущенным. Стол, видать, обмывался горячей водой, а лавка, примыкавшая к столу, сохраняла следы скобления. Правда, по углам кое-где висела паутина, но зато мух в избе не водилось. Катя с удивлением осмотрела передний угол: ни икон, ни креста, ни лампадки – ничего.
«Что он все-таки за человек, этот Окентий? Неверующий? Безбожник? Когда придет, надо его порасспросить», – думала Катя, продолжая свои хлопоты в избе.
В течение дня она несколько раз покидала избу, но, сделав двадцать-тридцать шагов от двери, останавливалась: снег вздымался сугробами, лес переходил в чащу, ветер дул в упор…. Катя поспешно возвращалась в тепло. Вспоминая ночной переход в буран и темноту, себе не верила: неужели же это была она с Лукьяновым, она шла на лыжах, она вынесла такое физическое напряжение?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































