Текст книги "Сибирь"
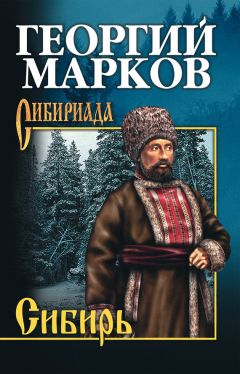
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
Катя оделась и вышла в прихожую. В печи уже пылали дрова, гудела железная печка. Степан Димитриевич сидел у стола и в полусумраке курил. Катя присела к нему на лавку, осведомилась, как он себя чувствует после выхода из тайги.
– Отдохнул, Катюша! Ночь-то в зимнюю пору длинная. И так ляжешь и этак повернешься, а ей все конца нету. А ты-то что так рано поднялась? Спала бы себе на здоровье!
– Выспалась, Степан Димитрич. А вставать привыкла рано. Живу от типографии далеко, чтоб вовремя на работу поспеть, за целый час до звонка надо выходить, – присочинила Катя.
– Нелегкое дело в молодые годы, – посочувствовал Лукьянов.
– Приучила себя, – вздохнула Катя.
– Ко всему привыкнуть можно, – согласился Лукьянов и, про себя решив, что на этом разговор с Катей закончится, запыхал цигаркой, выпуская через ноздри струи едкого дыма. Но девушка уходить не собиралась. Лукьянов замахал широкой ладонью перед Катиным лицом, разгоняя дым.
– Обкурил я тебя, Катюша, – извиняющимся тоном сказал Лукьянов, вопросительно поглядывая на девушку.
– А, не беда! Я как-то к табачному дыму равнодушна, – усмехнулась Катя и заговорила сразу о другом: – Очень заинтересовали меня ваши охотничьи обычаи, Степан Димитрич. Любопытно…
– Неизвестное, Катюша, всегда любопытно. А мы к своему привыкли, вроде бы так и надо и так было вечно…
– И когда же вы теперь снова в тайгу, Степан Димитрич? – спросила Катя, прислушиваясь к шагам Татьяны Никаноровны, суетившейся за перегородкой в кути, и опасаясь, что она может помешать разговору с Лукьяновым.
– Зимой два захода у меня в тайгу будет: после рождества недели на две, на три, а потом в начале марта.
– Опять за пушным зверем?
– За ним.
– И всю жизнь в одно и то же место ходите?
– Что ты, Катя! За жизнь-то во многих местах довелось мне побывать! – Катя думала, что Лукьянов начнет перечислять эти места, но он жадно курнул и замолчал.
– А вы, оказывается, и рыбалкой занимаетесь, Степан Димитрич. На стене препотешная фотография у вас висит. Та щука небось пуда два весила? – Кате не терпелось, и она упорно направляла разговор в нужное ей русло.
– Не взвешивали, Катя, эту щуку. Но была огромная, чуть не с меня ростом, – усмехнулся Лукьянов. – Водятся такие великаны по таежным рекам, в омутах и курьях. На жерлицу с живцом берутся. В сеть или невод их не возьмешь. Всю дель исполосуют, наделают «проломов» и сами уйдут, и всю рыбу выпустят… А с жерлицы тоже взять ее, холеру, не просто. С берега потянешь – сорвется с крючка или бечеву оборвет… С обласка берем. Подтягиваешь ее по воде к борту, а сам багор наготове держишь… Чуть голова покажется – бей точно в лоб. А пропалишь или ударишь слабо – выкупает, язва, перевернет обласок, как ореховую скорлупку… – Лукьянов готов был и дальше рассказывать о тайнах лова больших щук, но Катя прервала его:
– А на рыбалке у вас тоже артель, как и на охоте? Там, на снимке, ваши артельские?
– Какие там артельские! И не рыбаки это и не охотники, Катя. Совсем это другие люди, – с некоторой долей таинственности в голосе сказал Лукьянов и многозначительно умолк.
– А, поняла! Должно быть, ссыльные, – поспешила Катя.
– И опять же нет. Ученые это люди, Катя! – Гордость послышалась в голосе Лукьянова. – Тот, что с бородой, – профессор, Венедикт Петрович Лихачев прозывают его. А молодой – его племянник, студент Акимов Иван Иванович. А звал я его просто Ваней, сам он велел мне не навеличивать его. Молод, дескать, я для этого. Но скажу тебе, Катюша, хоть он и молод, а в своем деле горазд был. Бывалоча, схватятся они с профессором в споре, аж страх берет. Оба тычут пальцами в карты или в книги, доказывают друг другу… Нашему-то брату, неучу, конешно, их разговор – секрет за семью печатями, а все ж и у нас голова на плечах.
– Ой, интересно-то как, Степан Димитрич! Расскажите, пожалуйста, расскажите! – Катя будто вспыхнула вся, заблестели ее глаза, загорелось возбуждением лицо, придвинулась поближе к Лукьянову. Ее жгучее любопытство словно опалило Степана Димитриевича. Он подался всем корпусом навстречу девушке, загасил цигарку, приткнув ее к подоконнику.
– Про это, Катюша, про все за день не расскажешь. – Лукьянов повеселел, приосанился, хлопнул широкой ладонью о стол. – Одним словом, хорошая жизнь была у меня. Лучше тех лет не было.
– А с чего началось? – вставила Катя, опасливо косясь на дверь. Не приведи господи, если встанет сейчас Маша, придет сюда к ним и нарушит их беседу, которая только-только завязалась.
– А началось так: смотрю как-то, по весне это было, подъезжает вот к этим воротам подвода. Кинул я глаза, опознал сразу: упряжь, конь, да и телега не крестьянская, из города, видать, кто-то припожаловал. Выхожу во двор, а встречь мне идет крупный человек, годов не молодых, но еще крепкий весь, на ногах твердый, борода до груди, глаза круглые, зоркие. При шляпе он, в длинном брезентовом дождевике. Поздоровкались. Он спрашивает: «Лукьянов Степан Димитриевич?» Он, говорю, самый. Провел я его в дом, усадил. Так и так, говорит. Профессор я, Лихачев Венедикт Петрович, из Томского университета. Простор сибирский для науки познаю. Исколесил, говорит, вдоль и поперек горную местность, теперь вот на равнину вышел. Собираюсь обойти Обь и ее притоки. Годов пять-шесть загадываю на это. Потребуется больше, тоже не посчитаюсь. Дело немалое.
Ну, слово за слово, объяснил он мне свою нужду. Требуется ему проводник и пять-семь сильных молодых мужиков: лодки сплавлять, на стоянках шатры сооружать, какие потребуется земляные работы в тайге производить. Тут я не утерпел, спрашиваю: «А кто, ваше превосходительство, извиняюсь, мой дом вам указал?» Все-таки, думаю, не зря он сразу ко мне прискакал. «Ну, во-первых, говорит, не называй меня, Степан Димитриевич, превосходительством, зови попросту: Венедикт Петрович. Сам я, хоть и ученого звания человек, лицо важное в империи, – поясняет мне, – а пробился к этому из крестьянского рода. А во-вторых, говорит, показали мне на тебя, Степан Димитриевич, твои дружки из ссыльных, которых водил ты по таежным просторам». Кто именно, не назвал он. А водил я в самом деле не одного, не двух. В десяток не складешь. Иной к рекам склонность имел, иной, наоборот, на поля больше тянулся. А был один – так тот всех козявок, какие у нас водятся, в бутылочки собирал. Потешно! Бывало, как малое дите, гоняется с сачком за бабочками на лугах у нас. А был и такой случай: в лесах живет у нас паук-плетун. Пошло это название оттого, что паук этот плетет такие сети, что не только мушки или мелкие козявки не могут вырваться из этих сетей, иной раз залетит паут – и конец ему. А паут – сильная тварь, и все же побарахтается, побарахтается да притихнет. И вот задумал мой постоялец во что бы то ни стало изловить этого плетуна. А изловить его не просто. Одному создателю известно, когда он свою работу справляет. Я-то уж на что таежный человек, а сроду не видел. Идешь по тайге, то и дело встречаешь его сети. Иной раз угадаешь на такую крепкую нить, что слышно даже, как лопается она от разрыва. А вот где хоронится в сей миг сам плетун, хоть убей, не знаю. Как-то раз и говорит мой постоялец, Андрей Андреич звали его: «Помоги мне, Степан Димитриевич, изловить этого негодяя. Без него мне ни в какую нельзя. Нужен он науке позарез». Подшутил я над ним, над Андреем Андреичем-то. «За что, говорю, царь-то с правителями так возненавидел вас? Безобидный вы для власти человек. Только до козявок у вас охота». Посмеялся со мной и он сам, Андрей Андреич-то.
Ну, долго ли, коротко ли, а все-таки сговорил меня Андрей Андреич пойти в тайгу и изловить плетуна. Дал ему урядник разрешение на трехдневную отлучку. Пошли. Нашел я Андрею Андреичу местечко отменное. Ельник, пихтач, разнолесье. Сушняку много. Все паутиной опутано. Сели. Сидим час, два. Нет, не выходят пауки. Притомился я на такой охоте. Вздремнул. Очнулся. Сидит Андрей Андреич на стреме. В глазах ни капельки утомления. Просидели до вечера. Тошно мне стало. «Уволь, говорю, Андрей Андреич. Пойду лучше на стан. Ужин варить пора». Пришел он вскоре, выпил кружку чая и снова отправился на пост. Я его стал отговаривать: ночь, мол, на дворе. «Вся живность на покой укладывается. А он свое «пойду!» – и только. Всю ноченьку просидел! Вернулся утром веселый, довольный. Смотрю: в бутылке паук. Крупный, брюхо как барабан, больше его самого в два раза. «Вот он, говорит, таежный ткач-плетун. Вышел на работу перед рассветом, когда темнота особенно сгустилась. А как только первый луч брызнул, он юркнул в гнездо. Тут-то я его и настиг…» Вот какие люди у нас бывали в Лукьяновке, Катюша. Когда Андрей Андреич отжил свой срок, собрал он своих козявок с превеликой осторожностью. Берег пуще глаза своего. И все мне говаривал: «Не смейся, Степан Димитриевич (а я все над ним подшучивал), огромадный интерес в этих козявках для науки. Не зря прожил я три года под твоей крышей…»
Прости, Катюша, убежал я в сторону малость… Выслушал я Венедикта Петровича, говорю ему: «Если, господин профессор, вы меня за опытного проводника принимаете, то напрасно. Обь и Приобье знакомы мне, но только по охотничьим надобностям тут я хаживал. Лоцманом не могу быть. Фарватера рек не знаю. На Обь-Енисейский канал плавал, но за всяк просто, гребцом на купеческом карбазе». Венедикт Петрович говорит мне: «Да нет, я не заблуждаюсь. Мне лоцман не требуется, у меня вся экспедиция на плоскодонных лодках. Мне нужен как раз такой человек, как вы: молодой еще, сильный, честный, чтоб без плутовства все обходилось между нами. А остальных мужиков сами подберите. Плату вам положу божескую – без обсчетов, без обирательства. Я ведь не купец, за барышом не гонюсь. Мой интерес в том, чтобы пройти по рекам, осмотреть земли, отыскать их для науки. Поймете, что дело это святое, хорошо, ладно, а не поймете, бог с вами. Заработок оправдает весь ваш труд и невзгоды, какие встречаются на пути. Уж без этого в большой дороге не обойдешься, не в первый раз в поход отправляюсь…»
Ну, короче сказать, поладили мы. Он мне понравился, да и я, видно, ему приглянулся. «Единственно, говорит, о чем прошу тебя, Степан Димитрич, не бери в нашу компанию пьянчуг. Я, говорит, и сам не из монахов, порой очень даже люблю пропустить рюмку-другую горькой, но всему свое время. Срок путешествия у нас, по краткости лета в Сибири, ограниченный, объем работы большой, уж тут не до пьянки. А что касается выпивки от устатка или от стужи и сырости, то тут мне подсказывать не надо, я и сам каждому по стакану поднесу. На такой случай водка в экспедиции положена по расписанию». Пообещал я ему все исполнить. Подобрал мужиков – один к одному. Не раз я с ними в тайгу ходил, испытал их силу и сноровку. Вот с той поры стал я у Венедикта Петровича чуть не правой рукой. Пять годов подряд ходили мы с ним по рекам. Два лета провели на Кети, оба раза переваливали на Енисей. Любил этот край Венедикт Петрович. Уж не знаю почему, а только тянуло его в эти места, хоть и почитал всю землю, куда бы ни привелось заплыть. Бывалоча, выйдет на берег, ноги расставит широкошироко, бока подопрет руками и смотрит вдаль долго-долго. В глазах довольство, на губах улыбка. Иной раз так молча и простоит, а иной раз скажет негромко, сам для себя: «Кто б ни сотворил ее, матушку-землю, а сотворил премудро. Ах, сколько здесь загадок хоронится!» И обведет рукой круг по небу, по лесам, по рекам, потом в задумчивости сойдет в лодку, кинет нам, гребцам: «Трогай, мужики!» А это словцо «мужики» исключительно любил. Когда довольный, скажет: «Славно, мужики, нонче поработали». А если неудовольствие, опять тем же манером: «Что-то нонче, мужики, приослабли вы. Уж не затосковали ли по женам, по детям?»
– А племянник его чубастый тоже с вами ходил по рекам? – спросила Катя.
– Ходил один год. Как раз мы по Кети к Енисею пробивались. Венедикт Петрович души в нем не чаял. Чуть что – кричит: «Ваня! Иди скорей сюда! Посмотри!» А тот, бывалоча, сядет на обласок и был таков. Смотришь, а он куда-нибудь либо в курью, либо в протоку заехал. Шарится там. Ямы, промоины, обвалы – это любимые его места. Часами, бывалоча, сидит там молча, как кулик на болоте. Смотрит, разминает в пальцах куски земли.
Вечером за ужином заведут разговор – конца не дождешься. Мы уйдем в шалаши, а они сидят, то на карты отметки наносят, то дневник пишут в этакие вот длинные тетради. Держались с нами как с равными, ели из общего котла, пили тоже из одного медного чайника. Ничего худого не скажу. И расчет был – копейка в копейку.
– А что же, Степан Димитрич, всего-навсего один снимок у вас? Неужели только один-разъединый?
– У меня один. А снимались множество раз. Был у Венедикта Петровича помощник Егор Васильич. Тоже знающий и видный из себя мужчина. Он был по травам знаток. Растительность собирал. Он же и аппаратом ведал. Бывалоча, едем по реке, а красивых мест не счесть, как попадем на живописный плес, стой, остановка. Егор Васильич тащит свою треногу, ставит, где потверже, съемку делает. Венедикт Петрович обходился с ним препочтительно. А был Егор Васильич в годах тоже, никак не моложе самого профессора Лихачева. Но дело, конечно, не в том, что плес красивый – для науки такие съемки требовались. Берега, растительность, течение реки разительным было и, видать, обнадеживало. Пока по рекам ходили, всего от нашего Венедикта Петровича наслышались. Бывалоча, любил говорить: «Пустых, никчемных земель нет, есть земли, более доступные человеку, менее доступные и совершенно недоступные. Постепенно люди все обратят себе на пользу, иного выхода нет. Планета только кажется непостижимо обширной, на самом же деле это самообман. Ведь наступит такое время, когда ее население может превзойти пять миллиардов». Любил, очень любил рассуждать наш Венедикт Петрович. Нам-то, конечно, из его рассуждений не все было по уму, а все-таки мы много от него узнали.
– Ах, как жаль, что у вас только одна карточка! На память бы! – воскликнула Катя.
– Ну, у него на память есть еще кое-что, – вдруг послышался Машин голос. Она несколько минут стояла позади Кати, увлеченная рассказом отца. «Ой, боже, и зачем она подошла? Не даст мне договорить до конца», – промелькнуло в голове Кати, и она, обернувшись, кинула на Машу недовольный взгляд.
– Ты это про что, Марья? – спросил Степан Димитриевич, и Кате показалось, что в его голосе послышалась нотка неудовольствия.
– Как про что? Про связку бумаг, папаня, которая в ящике под замком лежит. – Маша тронула Катю за плечо, с лукавинкой взглянув на отца, пояснила: – Бережет папаня эти бумаги, как сокровище. Никому даже посмотреть не дает…
– А потому, Машутка, и берегу, что бумаги чужие, у них хозяин есть. Вдруг востребует…
Катя растерянно посмотрела на Лукьянова, потом перевела глаза на Машу. Теперь в ее глазах светилась мольба: «Ну, не замолкай, не замолкай, ради бога. Ведь, может быть, в этих бумагах есть что-нибудь важное для Вани». Маша, конечно, не могла знать в точности, какие мысли взволновали сейчас Катю, но она поняла, что той очень, очень хочется узнать что-нибудь поподробнее о бумагах, хранящихся в ящике в доме Лукьяновых.
– Расскажи, папаня, Кате, как бумаги попали к тебе. Ведь ей интересно, – немного заискивающим голосом сказала Маша, притрагиваясь к руке отца, лежавшей на столе.
– Пожалуйста! – воскликнула Катя, заглядывая Лукьянову в лицо.
– Болтушка ты, Марья! Вот кто ты. – Тон отца был строгим и не предвещавшим ничего утешительного. Катя смущенно опустила голову, не нашлась и Маша. Долго молчали. Наконец Лукьянов смягчился. Сверкнув серым глазом, прикрыв при этом коричневый, он сказал:
– В спешке связка бумаг была забыта на одной из стоянок. Подобрал я ее года два спустя. Когда повез Лихачеву в Томск, он отбыл уже в Питер. Вот и лежит у меня… И больше не болтай, Марья, об этом. Не нашего ума эти бумаги. Случай приведет – Венедикт Петрович бумаги спросит. По его наказу я за ними на Кеть ездил… Вот так-то…
– Ну-ну, – понимающе закивала головой Катя. Ей хотелось отнестись к этому сообщению как можно равнодушнее, но мысли ее вдруг забурлили, как кипяток в таежном котелке, неостановимо, буйно. Ведь если ее партия проявляет заботу о Лихачеве, организует такой труднейший побег Ивану Акимову из Нарыма в Стокгольм, то как же она, курьер этой партии, активная участница побега, может вот так просто, спустя рукава отнестись к сообщению о целой связке бумаг Лихачева, оказавшихся, по странности обстоятельств, в доме охотника? Нет, нет. Ее партийный долг… Но в чем состоял ее партийный долг в данной ситуации, она точно не знала. Стараясь хоть как-нибудь сгладить возникшую неловкость в отношении всех трех – Лукьянова, Маши и ее самой, Катя принялась благодарить Степана Димитриевича за беседу, будто ни о каких бумагах Лихачева здесь речи не было.
Лукьянов чувствовал, что девушка старается смягчить его резкость, но сразу переломить себя не мог. Он снова задымил цигаркой, покашливал в кулак, прятал глаза, прикрывал их густыми ресницами.
Вошла с подойником в руках Татьяна Никаноровна. Катя не слышала, когда прошла она из кухни, направляясь во двор, но все равно приход ее был сейчас кстати.
– Небось таежные байки девчатам заливаешь? Они, охотнички-то, по этой части мастаки, – усмехнулась Татьяна Никаноровна. – А все-таки вот что, Степан, поди-ка поколи мне березовых дровец. От еловых дым да треск.
Лукьянов быстро встал, молча надел полушубок, шапку, вышел на улицу с поспешностью.
3
Весь этот день Катя в доме была одна. Старшие Лукьяновы ушли в соседнюю деревню проведать прихворнувшую сестру Татьяны Никаноровны, а Маша отправилась к Черновым. Выпало какое-то пустяковое заделье – отнести безмен, что ли. Ну, а у Черновых Тимофей дома. Вот Маша и задержалась «на минутку» – от утра дотемна.
В тишине лукьяновского дома Катя вновь и вновь обдумывала всю ситуацию, в которой она оказалась.
Через несколько дней по указанию Насимовича ей предстояло вернуться в Томск. Если Акимов по-прежнему в безвестности, то не исключено, что Кате предложат возвратиться в Петроград. Да и какой смысл ей задерживаться в Сибири, когда там, в Питере, у нее работы непочатый край? К тому же близятся выпускные экзамены, пора садиться за книги.
Но закавыка была теперь в другом. Может ли она, имеет ли она такое право уехать отсюда, из Лукьяновки, не распознав досконально, что собой представляет связка бумаг Лихачева, находящаяся у Лукьянова на сохранении? Может быть, партийный долг и состоит в том, чтобы завладеть этой связкой бумаг, доставить ее в Петроград и вручить брату. Какая гарантия, что эти бумаги профессора Лихачева не будут здесь потеряны или расхищены, или, что еще хуже, попадут в чужие руки? Катя, естественно, не знала всех конкретных забот своей партии, но из того, что говорили ей брат и Ваня, а также из того поручения, которое возложено на нее в связи с побегом Акимова, ей было совершенно очевидно, что большевики приход рабочего класса к власти считают делом ближайшего будущего и им абсолютно небезразлично, у кого и где окажутся завоевания науки, ее истины и предначертания, добытые долгим трудом лучших умов России.
Разные проекты созревали в голове Кати в эти часы одиночества. Порой ей казалось, что она допустит непоправимую ошибку, если собственными глазами не осмотрит бумаги Лихачева. Но тут же она задавала себе вопрос: что это даст ей? Лихачев – крупный ученый, исследователь. Вероятно, бумаги его – это материалы экспедиции. Значит, скорее всего в связке карты, полевые дневники, зарисовки. Все это Катя встречала в великом множестве в квартире Лихачева в Петрограде, когда изредка забегала к Ване. Да и у самого Вани полки его комнаты были забиты подобными бумагами, имевшими, кстати сказать, какой-то подержанный вид. Следовательно, что-то понять из этих бумаг, схватить самое существенное, если они действительно представляют научную ценность, она не смогла бы. Будь еще эти бумаги посвящены каким-то историческим временам или событиям, ну тогда другое дело, все-таки она историк, социолог, экономист, а природа, ее тайны – непостижимая круговерть для нее.
Отвергла Катя и свой проект захвата связки. Как она это сделает? Уговорить Лукьянова, чтоб он по своей воле, так сказать, совершенно добровольно выдал ей бумаги Лихачева, конечно, ей не удастся. Лукьянов дал уже почувствовать, что бумаги неприкасаемы, у них только один хозяин – Лихачев. Да и куда она с ними денется? Ей не только бумаги, собственную бы голову сохранить в целости.
В конце концов Катя избрала единственное решение: укрепить в сознании Степана Димитриевича убеждение, что бумаги Лихачева должны быть сохранены в полном порядке и неприкосновенности до того самого часа, когда он сам лично востребует их. Еще одно решение приняла Катя: в Томске при первой же встрече с Насимовичем она сообщит о бумагах Томскому комитету партии. Неизвестно ведь, как сложится дальнейшая судьба Лихачева, вернется ли он из-за границы и востребует ли свои оставленные на Кети бумаги. Все это пока неизвестно, проблематично. А было бы большим несчастьем, если б по тем или иным причинам бумаги профессора Лихачева оказались в забвении.
Размышляя обо всем этом, Катя несколько раз подходила к фотографии и, всматриваясь в облик Ивана Акимова, мысленно советовалась с ним, как ей лучше поступить. Когда все ее тревоги улеглись и решение сложилось как окончательное и самое разумное, она достала из потайного кармана записную книжку и сокращенными словами, зашифровывая имена и фамилии, буквенными обозначениями и условными именами записала все события истекших дней. Насимович в этих записях назывался мастером, Лукьянов – сохатым, Зина – красавицей, а Маша – белочкой. Почему именно белочкой или сохатым, Катя объяснить не смогла бы. Ни Маша белочку, ни Лукьянов сохатого не напоминали.
За этим занятием ее и захватила Маша. Она была весела, разговорчива, и счастье так и плескалось из ее смеющихся глаз.
– Ой, Катюш, что я тебе расскажу-то! – заговорила Маша, едва переступив порог. – Твой стих, который ты на вечерке декламировала, гуляет уже по всему селу. У Тимофея Чернова братишка есть младший, в школе еще учится. Пришел сейчас с улицы и говорит: «Тим, а я про вашу солдатскую долю стих знаю». И слово в слово! Тимофей спрашивает: «Кто научил?» – «А все знают. Друг от дружки. А начало всех начал – Петька Скобелкин. Он мужикам на бревнах рассказывал…»
– Хорошо ли это, Маша? Не прицепятся ко мне? – с тревогой сказала Катя и вопрошающе посмотрела на Машу. Но той в эти минуты море было бы по колено. Она беззаботно махнула рукой, со смешком сказала:
– А кто прицепится-то? Урядник? Он тумак из тумаков.
Слова Маши немножко успокоили Катю, но все-таки совсем тревогу не погасили. Она то и дело поглядывала в окна в предчувствии чего-то неожиданного. Там, за окном, падал хлопьями снег, мрачнело к вечеру небо, покачивались на ветру голые ветки черемушника.
Пока старшие Лукьяновы не возвратились, Катя решила переговорить с Машей о бумагах Лихачева. Раз уже она получила нахлобучку от отца за болтовню, может быть, на этом бы поставить ей зарубину навсегда?! То, что она рассказала ей, Кате, спасибо, но чтоб не поползло это дальше, не привлекло внимания людей, способных причинить вред ученому. Понимает ли значение этих бумаг Маша? Понятно ли ей, почему отец с такой резкостью осудил ее?
Катя начала осторожно, несколько издалека, но Маша быстро поняла, куда та клонит.
– А я думала, что ты обиделась на папаню! Он ведь и тебя осадил, а ты гостья… Разве так можно? Что-то наехало на него, Катюша. Он к нам, к детям своим, ласковый.
– Ну какая же обида! Его тоже, Маша, понять можно. Бумаги не его. Имя этого ученого известно и в России и за границей. Пойдет слух, начнут допытываться – что, почему? А ведь, хочешь не хочешь, у Степана Димитрича трудное положение: его долг сохранить бумаги и вернуть их только одному человеку – Лихачеву.
– Да разве я не понимаю, Катюш! Все понимаю! Сказала тебе одной-разъединой. И все! Больше никому ни звука!
– Ну и хорошо! И ты, пожалуйста, скажи отцу, чтоб он за меня не беспокоился. Я его не подведу.
– Да был уже разговор. Он во дворе меня встретил и прострогал. Еще сильнее, чем утром! А я его заверила: за Катю будь покоен, она услышала о бумагах и тут же забыла.
– Забыть не забыла, но еще раз говорю: от меня никто ничего не узнает. – И Катя крестом сложила руки на груди. Маша невольно поддалась ее порыву и приняла такую же позу.
– А вот и папаня с мамой идут! – взглянув в окно, сказала Маша.
Лукьянов и Татьяна Никаноровна шли друг за другом. Впереди она, след в след ей Степан Димитриевич. Снег уже успел покрыть их белыми пятнами. Черная папаха Лукьянова удлинилась почти на ладонь: снег лежал на макушке стопой. Возвышался белый кокошник из снега и на голове Татьяны Никаноровны. Надбровные дуги и у нее и у него тоже были очерчены полосками из снега, лежал снег и на плечах этакими эполетами, вытканными из чистого серебра. «Обязательно сейчас поговорю с ним… Счастливый, целое лето с Ваней был», – промелькнуло в голове Кати.
– Ставь, Марьюшка, самовар. Пить что-то охота, – едва переступив порог, сказал Лукьянов. На крыльце он сбил с папахи снег и вошел, неся ее в руках. С шалью в руках вошла и Татьяна Никаноровна.
– Напоила тебя Федосья медовухой, вот и потянуло теперь на питье, – усмехнулась Татьяна Никаноровна.
– Ну уж напоила! Меня напоить-то – ведро надо. Я сроду на хмель крепкий. А хороша медовуха! Мастерица Федосья. – Лукьянов, конечно, не опьянел, но все-таки был немного навеселе.
– Как они живут-поживают? – спросила Маша, поспешно берясь за самовар.
– В нонешнее время, дочка, жизнь повсюду в одной колее. Сегодня сыт, и слава богу, а завтра – что господь пошлет. – Татьяна Никаноровна пристроила на вешалку свою праздничную шаль, купленную ей старшим сыном и потому особенно сейчас дорогую для нее.
– Ты помнишь, Машутка, в Старо-Лукьяновке жил охотник Парфен Савельев? – повесив на крюк полушубок и шапку, спросил Лукьянов.
– Как же, помню! С тобой еще на озерах рыбачил…
– Вот, вот. Убит он. А помнишь Тихона Чернопяткина? Тот самый, который со мной на Кеть на заработки ходил?
– Помню. Рябоватый такой на лицо.
– Во, во! Убит и он. А Филиппа Коноплева помнишь? Тоже со мной на заработки на Кеть ходил. Мужик был как писаный – красивый, сильный. Один с лодкой против течения управлялся. И он убит.
– Да что же это делается, папаня? Конец-то этому будет или не будет! – воскликнула Маша и выразительно посмотрела на Катю. Та вначале не поняла, чем вызван этот взгляд, что хочется Маше сказать ей? Может быть, только то, что это напоминает разговор с солдатом дорогой?
– Конец-то будет когда-нибудь, да много ли вот работников у царя останется – неизвестно. Из моей артели, с которой на Кеть ходил, половины нету. – Лукьянов тяжело опустился на табуретку у стола, втянул голову в острые, приподнятые плечи. При упоминании отца о Кети Маша вновь посмотрела на Катю. Только теперь Катя поняла значение этого взгляда. Лукьянов сам заговорил о Кети. Может быть, конечно, он уже призабыл свою гневную вспышку утром, а может быть, обмяк душой, понял, что ни дочь, ни ее городская подружка не причинят ему никакого беспокойства с этими учеными бумагами, которые у него под большим замком в ящике. Зря на дочь взъелся, да и не гостеприимно получилось.
Почувствовав, что Лукьянов настроен добродушно, хотя и грустно, Катя присела к столу напротив него. Почти целый день она молчала, думала, и сейчас ей очень хотелось поговорить. Как знать, может быть, Лукьянов и расскажет что-нибудь интересное о Ване Акимове, о путешествиях по сибирским рекам, а если расскажет что-нибудь про тайгу, про труд людей, которые в ней обитаются, она тоже будет довольна. По возвращении в Петроград ей наверняка придется делать сообщение перед комитетом.
Степан Димитриевич как-то интуитивно угадал настроение Кати. Еще утром ему показалось, что она из тех молодых людей, которых все окружающее интересует и они не чуждаются старших по возрасту, хоть те и превосходят их по годам в два-три раза.
– Я вот слушала сейчас ваш разговор с Машей – мороз по коже пошел… Поднимется деревня, Степан Димитрич? Как, по-вашему? – сказала Катя.
– Нету сил, Катя, у деревни. Опустошила ее война. Головы не приложу, что дальше будет. – Лукьянов задумался, помолчал, но вдруг как-то встрепенулся, заговорил торопливо и не по-обычному нервно: – Откуда же ей, деревне, силу взять? Лучшая ее сила полегла навозом в земле. Пока подрастут новые работники – пройдут годы. И ничего не сделаешь, и этой беде ничем не поможешь.
«Помочь, впрочем, можно, Степан Димитрич. Помочь можно революцией, свержением старого строя», – подумала Катя, но выразила эту мысль более осторожно.
– А может быть, переменятся порядки? Перемена принесет обновление жизни…
– От порядков наших изныл народ. Это правда. Да только не простое это дело – обновить жизнь. Как помню себя, говорят об этом люди, а пока бег на месте.
«Неужели Ваня, путешествуя с ним по Кети, не убедил его в правоте революционных идеалов?» – снова подумала Катя, пристально всматриваясь в неподкупно строгое лицо Лукьянова.
– Ну уж нет… Самосознание народных масс растет, – сказала Катя и покраснела, застеснявшись, поняв, что произнесла слова книжные, хотя и правильные по существу.
Лукьянов бросил на Катю вопросительный взгляд и отвел свои разноцветные глаза в сторону.
– Плакальщиков, Катя, о народе развелось больше, чем надо. А толку от них ни на грош.
Лукьянов сказал как отрезал. Он отвернулся к окну, и Кате стало ясно, что пустословие не в характере Лукьянова. «Не верит мне, не верит нисколечко», – обиженно подумала Катя, но сразу же урезонила себя: «А почему, собственно говоря, он должен быть с тобой откровенным? Странная претензия! Чем ты могла вызвать его расположение?» Самое лучшее сейчас – изменить бы тему и тон разговора, пока окончательно не оборвалась нить, которая как-то еще связывала их. Катя это почувствовала остро, до смятения. Но она не знала, о чем заговорить, какую струну тронуть из тех невидимых струн, которые вели к тайникам души этого человека. Выручила Татьяна Никаноровна.
– Отец, ты расскажи-ка девкам про грабеж на тракте. Ой, страхи господние!
– И все-то ты норовишь запугивать, – усмехнулся Степан Димитриевич, переводя взгляд с жены на Машу и Катю.
– Ну, а как же! Как, по-твоему, может материнское сердце в спокойствии быть? Она вон, Марья-то, за нонешний год третий раз пришла. Этот раз хоть не одна, а в прошлые разы?
Татьяна Никаноровна, как всегда, торопилась. Она схватила бадейку с пойлом корове и вышла во двор, не зная, будет ли отец рассказывать дочери с подругой о каком-то страшном происшествии или отмолчится. Случалось с ним и такое.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































