Текст книги "Сибирь"
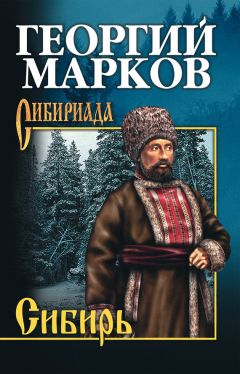
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
– Это кто такая?! Что ты тут делаешь?! – вдруг раздался над Катиной головой громкий голос прапорщика. Как он сумел войти неслышно, дьявол его знает. Пожилой солдат смолк, вскочил и вытянулся. То же самое проделал и высокий, тощий солдат. Причем, когда он вскакивал, его колени-шарниры захрустели на всю прихожую. Катя скомкала письмо, засунула его за кофточку.
– Солдаты неграмотные. Попросили меня помочь написать им письмо на родину, – спокойно сказала Катя, оставаясь на своем месте и приглядываясь к толстому, полнолицему прапорщику в добротном полушубке с погонами, в новых, еще не разношенных валенках, в папахе, поблескивающей свежей кокардой. От прапорщика несло самогоном.
– Ты почему лезешь к моим солдатам? Что тебе угодно? Или, может быть, хочешь, чтоб я тебя выбросил на мороз?! – крикливо продолжал прапорщик.
– Вы напрасно кричите, господин офицер. Я дочь капитана, погибшего на фронте. Беженка из Риги. Иду в город по поводу пенсии матери. Оказалась на постоялом дворе с вашими солдатами случайно. Если вам так угодно, я сейчас же удалюсь.
Катя произнесла эти слова подчеркнуто твердо, хотя сердце ее колотилось отчаянно.
Прапорщик задержал на ней свой взгляд, на полшага отступил, сказал сдержанно:
– Тем более вам тут делать нечего. Прошу прощения.
– До свидания, господин офицер. До свидания, солдатики. – Катя надела полушубок в рукава и, хотя ее подмывало броситься в дверь бегом, медленно вышла во двор. Выходя, она услышала отборную ругань прапорщика, набросившегося на солдат. «Хорошо, что хоть письмо у меня, а то было бы хуже», – подумала Катя.
Ночь она скоротала на другом постоялом дворе, у самого края деревни.
3
До Томска Катя добралась без особых приключений. Всего лишь два раза она сходила с дороги, чтобы пропустить встречные подводы, показавшиеся ей подозрительными.
Она шла не спеша, зная, что в город лучше всего прийти в потемки. Время ее не подгоняло и голод – тоже. На постоялом дворе ей подвернулся случай произвести небольшой торг: за свой платок, который носила вместо кашне на шее, она выменяла у одной бабы полбуханки хлеба и кусочек сала. Это было, по ее понятиям, целое сокровище. Два дня можно не забивать голову заботами о животе.
По городу Катя шла настороженно, прятала лицо в воротник полушубка, цепким взглядом осматривала прохожих. Когда кто-то появлялся позади, чуток сбавляла шаг, пропускала вперед, увеличивала расстояние так, чтоб нельзя было оглядеть ее. Может быть, все эти предосторожности были и не нужны, но Кате очень хотелось повидаться с Лукьяновыми и Насимовичем, и ради этого стоило поберечь себя.
Войти в подвал Лукьяновых ей было нелегко. У людей горе, тяжкое несчастье, но придумать иного выхода Катя не могла. Тут осталась ее городская одежда, сюда же пан Насимович обещался передать указания, как ей поступать дальше.
Дома был один Степа. Он сидел возле семилинейной лампы, ужинал и так увлекся едой, что не сразу обратил внимание на Катю.
– Здравствуй, Степа. Ты что-то и дверь не закрываешь?
Степа вскочил, но сразу сел, смущенно пригладил волосы. Катя посмотрела на него, подумала: «Он ничего еще не знает о происшествии на выселке. Как я ему скажу об этом, какими словами?»
– А сестры где, Степа? – спросила Катя, стараясь до конца убедиться в своих предположениях.
– Ой, у нас такая беда! Жутко! – сказал Степа и сморщился, как от страшной боли.
– С Зиной? – спросила Катя. Она сняла полушубок, платок, валенки, которые сегодня в ходьбе почему-то натерли ей до жжения икры.
– А вы откуда знаете? – удивился Степа.
Катя рассказала о своем пребывании на выселке. Степа слушал сосредоточенно, слегка двигал бровями, изредка взглядывал на Катю. «Тетя Зина, тетя Зина», – неслышно шептали его губы.
– Дуня с Машей пошли к тюрьме. Может быть, увидят, как ее привезут из Лукьяновки.
– Придут скоро?
– Ну что вы! Будут ждать до глубокой ночи. Должны сегодня привезти, но, может быть, и завтра. А пан Насимович передал, чтобы вы к нему пришли, только после девяти вечера. Он сказал, что адрес вы знаете.
– Да, конечно. – Катя посмотрела на стенные часы-ходики – уже полчаса девятого. Пока она переоденется и доберется до Болотного переулка, будет не меньше десяти. Степа предложил Кате чаю, но ее уже охватило нетерпение.
– Ты, Степа, продолжай ужинать, а я сейчас переоденусь в свое. Передай Дуне спасибо за полушубок и валенки – спасло меня это. И скажи, что я очень извиняюсь: полушубок на спине порвала. Это о гвоздь, когда меня Скобелкин в Лукьяновке из скотской избы урядника вытаскивал. – Теперь все прошедшее казалось обычным, даже смешным, и Катя засмеялась.
– Ну, подумаешь, извинения! – отмахнулся Степа.
– Нет, все-таки, Степа, скажи. Вдруг я ни Машу, ни Дуню не увижу.
– Ладно уж, – пообещал не очень твердо Степа. Катя раздвинула занавеску и скрылась в закутке, где она когда-то ночевала с Машей. Через минуту она попросила у Степы лампу и вскоре возвратилась оттуда совершенно в ином виде. В чемодане у Кати лежал запасной английский костюм из тонкой синей шерсти с продольной белой полоской и блузка с гипюровой отделкой. Костюм был очень к лицу Кате. К тому же она привела голову в порядок, причесалась, взгромоздила корону из своих темно-вишневых волос на самую макушку. На ноги натянула ботинки на высоких каблуках, с длинными голяшками и шнурками. Как ни тяжело дались Кате эти дни, она много часов провела на воздухе, в физическом напряжении, и от всего этого как-то посвежела, окрепла. Высокая, стройная, с зарумянившимся на морозе приветливым лицом, она показалась сейчас Степе просто красавицей. Он посмотрел на нее и не смог скрыть своего восхищения. Неподкупно строгие черты его смягчились, вспыхнули щеки.
– Вы все ж таки не одевались бы так приметно. Вчера двоих студентов забрали, – заботливо сказал Степа, наблюдая за Катей, за тем, как она перед зеркальцем на стене устраивает на голове черную шляпу. – И холодно в шляпе к тому же, – рассудительно добавил он.
Ему и в голову, конечно, не пришло, что, одеваясь так тщательно, Катя думала об Иване Акимове. Ведь мог Ваня оказаться сейчас у Насимовичей? Разумеется, мог.
– Учту, Степа, но в следующий раз.
Она ушла, оставив в лукьяновском подвале как бы на память Степе тонкий аромат духов и свечение своих глаз, таких лучистых, таких ласковых, что забыть их сразу не было сил…
4
К дому пана Насимовича Катя не просто подошла, а, точнее сказать, подкралась. Она долго наблюдала за глухим и сумрачным переулком, прячась за тумбой, на которую наклеивались афиши и объявления. Выждав момент особенного затишья, когда вдруг пригасли звуки от раскрываемых калиток и ворот, не по-обычному гулко разносившиеся в морозном воздухе, Катя вбежала во двор Насимовича, и вот уже стукоток ее каблуков раздался на дощатом крыльце.
Дверь открыл сам Бронислав Насимович. Он радостно схватил Катину руку и, не выпуская, стал звать жену:
– Стася, Стасенька, скорее сюда!
Тетя Стася, напуганная возгласами мужа, прибежала из второй половины дома в чем была: легкое домашнее платье-халат, мягкие туфли, опушенные белой овчиной.
– Зося! Здравствуй, милая Зосенька! – Тетя Стася слегка отстранила мужа и обняла Катю. Потом она выпустила из своих объятий девушку, отдалилась от нее на два-три шага и, осматривая Катю, заговорила торопливо, с подъемом:
– Ты посмотри, Броня, посмотри, как она похорошела! Прелесть! Очаровательная прелесть!
– Ну, что вы, тетя Стася, какая там прелесть? Обыкновенная обыкновенность, – засмущалась Катя.
– Нет, право так, Зося. Ты как-то переменилась… Тебе не кажется, Стасенька, что она как-то повзрослела, что-то появилось в ней такое внушительное, – говорил Насимович, то отходя от Кати, то приближаясь к ней.
Катя вообще не любила оказываться в центре внимания, но восторги Насимовичей выражали лишь их свойство замечать других. Это были восторги людей бескорыстных, искренних, любящих, товарищей по борьбе, и Катя почувствовала, что похвалы Насимовичей ей приятны.
Катю провели во вторую половину дома, в маленькую комнату, в которой она уже обитала, и велели раздеваться. Насимович сказал ей, что, поскольку у Лукьяновых стряслась такая беда, она поживет здесь, пока не сложатся какие-то новые обстоятельства.
Переходя из комнаты в комнату, Катя все посматривала то на вешалку, то на полку для головных уборов, не встретится ли что-нибудь Ванино. Тетя Стася словно угадала Катины мысли и, когда они все трое присели, сказала:
– Не томи, Броня, Зосю, сообщи ей главную нашу новость.
– Сей момент, Стасенька. Ну вот, Зося: из Нарыма получено сообщение: товарищ Гранит жив-здоров, и, поскольку за ним идет усиленная охота, он запрятан в тайге у охотников.
– Это уже хорошо! Как я рада! Это очень хорошо, – стараясь быть как можно сдержаннее, сказала Катя и, помолчав, спросила: – Долго продлится его таежная жизнь?
– Ну, сказать точно трудно, Зося. Думаю, однако, что продолжение его побега было бы целесообразно отложить. Пусть у полиции сложится убеждение, что он гуляет где-то в Москве или в Петрограде.
– Если позволяют условия, дядя Броня, то, конечно, лучше всего сделать именно так, но можно ли Граниту не торопиться, я не убеждена…
Катя опустила голову. Ей вспомнилась спешка, с какой отправляли ее из Петрограда в Томск с деньгами и документами для Ивана Акимова, беспокойство брата Саши, который доверительно сообщил ей, что дядюшка Вани профессор Венедикт Петрович Лихачев очень плох и что вокруг него в Стокгольме увиваются уже темные личности, решившие, вероятно, завладеть его научным архивом.
– А как ты, Зося, поездила? – нарушая Катину задумчивость, спросил Насимович.
– Ой, дядя Броня! Так интересно, так интересно… Сейчас все, все расскажу. – Катя вместе со стулом придвинулась поближе к тете Стасе и Насимовичу.
– Повремени, Зося, с рассказом. Чуточку повремени. – Насимович вдруг встал и, подхватив жену под руку, торопливо вышел.
– Поскучай, Зосенька, с полчасика, – обернувшись, сказала тетя Стася.
Катя осталась в комнатке одна. Она увернула в лампе фитиль, слегка отдернула плотную темную шторку. За окном стояла светлая морозная ночь. Месяц висел над городом низко-низко. Изогнутое чашей звездное небо переливалось, мерцало, и казалось, что оно течет, как река. Глядя в окно, Катя прислушивалась к звукам, которые доносились до нее из комнат Насимовичей. Вначале там звякала посуда, потом то и дело открывались и закрывались входные двери, и говор людей становился все более многоголосым. «Что это у них там? Неужели еще заказчицы не могут успокоиться?» – думала Катя.
– Пойдемте, Зося. Все в сборе, – заглянув в дверь комнатки, сказал Насимович, и Катя направилась за ним, несколько озадаченная.
Они вошли в большую комнату. На середине ее стоял все тот же продолговатый стол, заставленный кушаньями, за которым уже сидели семь незнакомых Кате товарищей. Четверо мужчин и три женщины встретили Катю неотрывными, изучающими взглядами. Катя чуть задержалась, слегка поклонилась, сочным, низким голосом сказала:
– Добрый вечер, товарищи.
Ей ответили – кто тихо, кто громко, кто просто кивком головы. Насимович посадил Катю рядом с собой. Задвигались его усы, глаза стали улыбчивыми и лукавыми.
– Итак, товарищи, приступим к делу, – сказал Насимович. – Знаменательный день моего пятидесятидвухлетия совпал с одним примечательным событием. Сегодня из поездки по Сибирскому тракту вернулась товарищ Зося. В ее лице я хотел бы сердечно приветствовать наших петроградских товарищей, помощь которых мы уже неоднократно чувствовали здесь, в Сибири. Расскажите, Зося, все-все, что вы намеревались рассказать мне и Стасе. И еще одно: пейте чай, товарищи, ешьте Стасино печенье и не сидите так чинно, как на именинах губернатора или архиерея? Ведь я всего-навсего дамский портной…
Все весело рассмеялись, но, увидев, что Катя поднялась, поспешили смолкнуть.
5
Катя сидела в маленькой комнатке за столом и увлеченно писала.
«Сашуля, здравствуй, братишка! А я все в Сибири. И, вероятно, еще задержусь здесь на некоторое время. Дней прошло сравнительно немного с той поры, как я приехала, а столько всяких событий произошло. Спешу тебе сообщить, что побывала в деревне и жила несколько дней в настоящей тайге, общалась с крестьянами, охотниками, фронтовиками, молодежью. Была арестована, но освобождена крестьянами. Потом бежала. Если свести все мои впечатления к одному итогу, то скажу вот что: народ в Сибири жаждет революции, ждет ее и, несомненно, поддержит нас.
Вчера сделала подробное сообщение здешним комитетчикам. Отнеслись очень заинтересованно, кое за что похвалили меня. (Говорю правду, Сашуля, ей-богу, не бахвалюсь.) Товарищи попросили меня помочь в некоторых делах.
Во-первых, я взялась написать листовку, посвященную положению сибирских крестьян. Тут царит произвол – и богатеев и властей – чудовищный.
Во-вторых, поставили мы задачу превратить процесс одной вдовы-крестьянки, убившей полицейского, в политический процесс. Есть тут адвокаты, сочувствующие революционному движению. Постараемся установить с ними контакт, привлечь в качестве свидетелей максимальное количество крестьянок из трактовых сел, которые изобличат полицейского как первостатейного негодяя, характерного представителя царского прогнившего режима. С крестьянкой, о которой я пишу, мне удалось познакомиться. Она грамотная, благородная и, по моему ощущению, готова к борьбе. Мне поручено подготовить ее к процессу. Будем делать все, чтоб проникнуть к ней в тюрьму.
И третье. Знаю, что ты этому удивишься и, может быть, даже сразу не поверишь. Представь себе, в селе Лукьяновке я встретила одного из проводников профессора Лихачева в пору его путешествий по Сибири. Случайно я узнала, что у этого человека хранится тюк с бумагами ученого. Нет никаких гарантий, что бумаги не будут утрачены по тем или иным причинам. А ведь неизвестно, что это за бумаги. Может быть, это ценные материалы нашей отечественной науки.
Товарищи, которым я об этом рассказала, правильно решили: спасти бумаги ученого во что бы то ни стало. Возможно, я сумею уговорить проводника и запрятать бумаги в тайге у одного препотешного старца по имени Окентий Свободный, который хотя и далек от революции, но человек, сочувствующий угнетенным, поскольку и сам он продукт социального гнета.
Через несколько дней я снова отправлюсь в села, расположенные по Сибирскому тракту. Думаю, что и на этот раз все обойдется хорошо.
О Ване ничего не сообщаю, так как основное тебе известно от Нарымского центра. Он в безопасности, но продолжение побега пока невозможно. Буду счастлива, если сумею с ним все-таки повидаться.
Ну, а ты как живешь, Сашуля? Не вздумай, негодный, привести без меня жену. Должен же ты спросить на это мое разрешение. Ведь я тебе ничего худого не посоветую.
Ах, Сашуля, знал бы ты, какое сильное впечатление на меня произвела Сибирь! Все здесь обширное, могучее, крепкое и какое-то по-настоящему величественное.
Твоя сестренка Катя».
Дописав письмо до конца, Катя медленно перечитала его. Задумалась и разорвала на ровные квадратики. «Что я, глупая, делаю? Да разве можно такое письмо посылать? Попади оно в жандармерию, ей станет известным весь план ближайших действий местных большевиков.
Нет, по-видимому, время для таких писем еще не наступило. Считай, что побеседовала с братом, и достаточно этого».
Рассуждая сама с собой, Катя подошла к печке-голландке, открыла дверцу топки и бросила скомканную бумагу в огонь. Пламя стремительно охватило листки, превращая их в пепел.
Катя пододвинула стул, села поближе к огню. Отблеск пламени коснулся ее лица, и оно стало бронзовым, литым. С детства Катя любила смотреть в огонь. Глаза от этого не уставали, и рождалось желание думать, думать – обо всем и обо всех.
Книга вторая
Часть первая
Поля
Глава первая1
Зимние дороги в Нарыме в пять, в десять раз короче летних. К рождеству промерзают на перекатах чуть ли не до самого дна большие и малые реки, непроходимые зыбкие болота покрываются саженным панцирем мерзлоты, озера и курьи лежат неподвижные, прикрытые гладким, отполированным ветрами стеклом в два аршина толщины. Мчись куда хочешь, лети куда тебя душа зовет!
Для зимних дорог у Епифана Криворукова все наготове: длинноногий, поджарый конь, с подобранным хвостом и короткой гривой, – такому коню никакой занос не страшен; легкая кошева на широких, как лыжи, полозьях; просторные, до самых пят, дохи – лосевые, собачьи, овечьи; закутаешься – никакой мороз не страшен, никакой ветер не пробьет.
Весточку Поле о том, что и ей предстоит дорога, принесла вездесущая Домнушка. Было раннее утро. За стеной буянила вьюга. Бренчало от ударов ветра стекло в оконной раме. Поля проснулась и лежала, прислушиваясь. Вот-вот наверху в горнице Анфисы Трофимовны настенные часы отстукают пять ударов.
Тогда она быстро выскочит из-под одеяла, оденется и, схватив ведро, помчится вместе с Домнушкой доить коров.
Но часы словно замешкались и не торопились оглашать дом протяжным зычным звоном. Уж не остановились ли? Или она проснулась в неурочное время?
Вдруг в дверку комнатки под лестницей послышался легкий стук. Поля приподняла голову. Казанки чьих-то пальцев снова прикоснулись к двери: и раз и два. Поля набросила на себя платьишко, сунула ноги в пимы.
– Кто там? Кто это? – обеспокоенно прошептала Поля, прикладывая ухо к двери.
– Откройся, Поля.
– А, Домнушка! Сейчас отомкну. – Поля осторожно, боясь разбудить свекра со свекровью, вытащила крючок из петли, медленно-медленно отвела дверь. – Входи, Домнушка. На стул вот здесь не наскочи.
– Не бойся, Поля. Месяц-то эвон как светит! Вижу.
– Садись-ка на ящик, Домнушка. – Поля отступила в глубь комнатки, присела на неприбранную, теплую еще от ее тела постель. Сердце заныло, застучало от нерадостных предчувствий.
– Ты что не спишь-то, Домна Корнеевна?
– Вздыматься нам пора. Вот-вот часы пробьют. Слушай-ка, Поля, чо наши верхние идолы удумали-то. Никишку в город с обозом отослали, а тебя Епифашка нонче на промыслы увезет.
Поля сразу вспомнила сон, виденный в минувшую ночь: извилистая река в крутых лесистых берегах, пароход, плеск воды на перекатах. Пароход не плывет, а скачет, и кажется Поле, охваченной тревогой, что еще миг – и он ударится о выступ берега, и трудно сказать, уцелеет ли она после этого удара.
«Пароход – к дороге. А только какая у меня может быть дорога? Разве в Парабель проведать папку сбегаю», – подумала Поля и постаралась скорее уснуть, чтоб заспать неприятный осадок на душе от этого несуразного сна. А сон-то оказался в руку! Поля пересказала сон Домнушке, та всплеснула руками, зашептала:
– Ой, Полюшка, худой сон. Пароход-то, говоришь, так и скачет, скачет, как стреноженный конь. Страхи-то какие!
Наверху скрипнула цепочка с гирями настенных часов, и по дому разнесся протяжный звон.
– Ты встала, Поля, нет ли? – нарочно громко сказала Домнушка, безбоязненно постукивая в дверку.
– Иду, Домна Корнеевна, иду! – отозвалась Поля и хихикнула в подушку.
Проделывалось все это для Анфисы. Чуть замешкайся они со вставанием, сию же минуту заскрипит пол под тяжелыми ногами Анфисы. Она спустится на три-четыре ступеньки и спокойным, но пронизанным ядом упреков голосом скажет:
– Домна! Палагея! Вы что ж это ноги-то до сей поры тянете? Или я за вас коров доить пойду?! Ишь вы, негодницы какие! Небось как за стол садиться, так и резвость откуда-то берется. Кусок, что пожирней да повкусней, не от себя, а к себе все норовите тащить… Ну-ка, быстро у меня за подойники!
…Через пять минут Поля и Домнушка в полушубках, пимах, пуховых полушалках, с подойниками в руках ушли во двор. Дойные коровы содержались в стайке, срубленной из толстых бревен и проконопаченной по углам мохом с глиной. Коровы замычали, застучали рогами в забор, почуяв, что идут хозяйки. Домнушка прикрикнула на них:
– Тихо вы, лупоглазые!
Поля кинулась открывать воротца стайки, но Домнушка ее остановила:
– Погодь, Полюшка. Расскажу тебе, как секреты их вызнала. Сюда она, жаба, не придет, холодно ей, а нам, вишь, жарко.
– Ну-ну, Домна Корнеевна, – как-то обреченно, без особого интереса к тому, что скажет Домнушка, отозвалась Поля, про себя думая: «Нет, нет, не жилец я в их доме. Вернется Никиша, лишнего дня не проживу тут. Папа с дедушкой не выгонят нас от себя, а дальше видно будет».
– Наверху приборкой я занималась, – заговорила Домнушка. – Ну, залезла под кровать, шурую там тряпкой. Они зашли в горницу, сели на диван. Она, змея подколодная, спрос ему учиняет: где бывал? Сколько рыбы закупил? По какой цене? Сколько пропил? Взяла у него бумажник, пересчитала деньги. Недохваток! Как поднялась, как расходилась! Туча! Он – вяк, вяк, а она его хлещет по мордасам. Вижу – и он взъярился. Ударил ее, она шлепнулась об стенку. Замерла я под кроватью. Хоть за перегородкой, а боязно. А только отшумели они, опять сели рядом и гу-гу-гу, будто и ничего между ними не было. Считают что-то, деньги туда-сюда перекладывают. Он-то вдруг и скажи ей: «Отпусти ты со мной Полю. Счет будет вести, девка грамотная, бойкая». Она вроде бы обрадовалась: «А что, бери! Толку от нее тут мало, все к отцу бегает. А там с тобой, гляди, и привыкнет, подучится». На том и порешили… А ты, Полюшка, бойся его, жеребец он стоялый, обормот бесчестный…
«И тут не сахар, и там будет не малина, скорее бы Никита возвращался», – с унынием в душе подумала Поля, но выдавать себя не захотела, не очень-то доверяла Домнушке, хотя и чувствовала ее расположение.
– Постою за себя, Домна Корнеевна. Я ведь с виду только тихая, а так-то в душе вольная, – стараясь подбодрить себя, сказала Поля. – Зажигай фонарь.
Домнушка присела, чиркнула спичкой, зажгла фонарь, вошла в стайку, повесила его на деревянный кляп, вбитый прямо в стену.
Поля подошла к пестрой корове, прозванной Субботкой, ласково потрепала ее за ухо, полотенцем обтерла вымя и начала доить. Звякнуло ведро от удара струи. Полю обдало сытным теплым запахом молока. Субботка покорно стояла, не шелохнув ни разу длинным хвостом. Поля быстро подоила ее, передвинулась к другой корове – Красотке.
«Надолго ли увезет он меня? Неужели до конца зимы? Какая из меня торговка? Вот уж чего не ждала, не гадала… Накажу через Домнушку, чтоб Никита приехал за мной сразу, как вернется из города… И к папе надо сбегать… Сейчас же сбегать, сказать ему, что увозит меня Епифан Корнеич с собой на промысла», – думала Поля под мерное треньканье подойника.
С полными ведрами молока Домнушка и Поля пошли в дом. На крыльце Поля придержала шаги. Заглядывая в сумраке в лицо Домнушки, спрятанное в полушалке, попросила вполголоса:
– Как приедет Никита, не забудь, Домна Корнеевна, сказать ему: жду его, как соловей лета.
– Не переживай, Полюшка. Не токмо скажу Никишке, а спокойствия ему не дам, пока он к тебе не уедет. Слыханное ли дело в такую пору молодых друг от дружки отрывать?! Людоеды, вампиры!
Домнушка так взволновалась, что не заметила, как ведро ее накренилось и молоко потекло через край на ступеньки крыльца.
2
Во время завтрака Епифан объявил семейству о своем решении.
– Стало быть, Палагея, собирайся в путь, – подув на блюдце с горячим чаем, сказал Епифан. – После обеда поедем с тобой на Обь, на Тым, на Васюган деньгу загребать. Недельки две-три проездим. Достаток – прибыток в пух… пух… пуххалтерскую книгу зачнешь писать. Как у настоящих купцов! А то ведь головы не хватает все в уме держать. Займись! Не зря ты у городских, образованных людей науку перенимала. Будешь стараться – не обижу, обдарю. – Епифан взглянул исподлобья на Полю, с озорством подмигнул ей лукавым глазом.
– А чего бы ей, отец, не стараться-то? – подхватила Анфиса. – Небось не о чужом доме, о своем радеть будет. Мужнино добро – женино добро.
– Домой бы мне, к папке сбегать, – переводя глаза с Анфисы на свекра, тихо сказала Поля.
– Домой бы… Дом у тебя теперича здесь. Пора бы и обвыкнуть, – с упреком в тоне и недоброй усмешкой сказала Анфиса. Но Епифан не дал обидеть Полю.
– Ты чо, мать, попрекать-то взялась? Пусть сбегает. Как-никак, все ж таки отец там. Не какой-то, прости господи, чуждый человек, а родимый батюшка.
– Уж раз приспичило, пусть пойдет. Не к полюбовнику побежит, к отцу, – смягчилась Анфиса, но смягчилась на один миг. Вздохнув, строго посмотрела на Полю, повелительно очертила рукой полукруг. – К дому, Палагея, все пригребай. Сама об себе думай. На чужой счет не рассчитывай.
– Это о чем ты, матушка? – не понимая Анфисиных намеков, с искренним недоумением спросила Поля.
– А ты подумай, Палагеюшка, подумай покрепше, уж не дитя теперь, с мужем живешь как-никак. – Анфиса произнесла эти слова степенно, тоном полного доброжелательства, но черные глаза выдавали ее настоящие чувства: в сноху летели зловещие искры.
– Я тебе обскажу, Поля, свекровкину мудрость, – швыркнув длинным носом, усмехнулась Домнушка и кинула на Анфису недружелюбный взгляд. Анфиса мгновенно выпрямилась, подобралась, готовясь принять удар. – Как, значит, тебе Епифашка кинет подарок, ты его не вздумай посчитать своим. Сдашь его матушке-сударушке. Она приберет его в ящик в горнице, чтоб, значит, он понадежнее сохранялся, поближе к ее руке был…
Домнушка скосила глаза на Анфису, поспешно склонилась над блюдцем с горячим чаем. Продолговатое, костистое лицо ее покраснело, и даже уши, прикрытые жидкими волосами, стали пунцовыми. Видно, нелегко ей дался этот выпад против Анфисы.
– Уж чья бы корова мычала, а твоя бы, Домна Корнеевна, помолчала, – сдавленным голосом сказала Анфиса и обратила взгляд своих черных глаз на Домнушку. Вспыхнули они жаром, загорелись затаенной ненавистью.
– А в сердцевинку она саданула тебя, мать! – захохотал Епифан, с удовольствием наблюдая за поединком жены с сестрой.
– Смотри, Анфиса Трофимовна, от жадности свой толстый зад не изгрызи! – Домнушка вскинула голову, и, хотя жар Анфисиных глаз обжигал ее, она только морщилась от этого, но не сдавалась.
Анфиса, видимо, почувствовала, что Домнушка не уступит, и перенесла свой гнев на мужа:
– Кобель ты старый! Другой-то разве позволил бы жену выставлять на потеху! А тебе все едино – лишь бы погоготать: ха-ха-ха!
– Веселье мне, мать, завсегда по душе! Ей-богу! – закатывался Епифан, подергивая себя за ухо с серьгой.
Поле захотелось встать и уйти, но она пересилила свое желание, еще больше сжалась, сидела, ни на кого не глядя. Все ели молча, не задирая больше друг друга. Наконец Епифан перевернул чашку вверх дном, сказал:
– Давай, Палагея, собирайся. Пособи Домнушке харчи вон в мешок скласть. А ящики с товаром в короб поставите. Поедем на двух конях: сами в кошеве на переднем, а припасы и товар на втором коне. В сани его запряжем и на поводе привяжем к кошевке.
– Сделаю, батюшка, – покорно вставая из-за стола, сказала Поля и вопросительно посмотрела на Епифана. Он догадался, чего она ждет.
– А как сборы управишь, к отцу сбегай. Да лучше коня запряги: туда-сюда путь все-таки не ближний.
– Ох, разбалуешь, Епифан, сношку, разбалуешь! Спохватишься потом, ан будет поздно. Их, молодых-то женок, сысстари повыше под уздцы держат! А ты?.. – Анфиса тяжело, не спеша встала с табуретки, вскинула голову, повязанную полушалком, к иконам, в передний угол, замахала рукой. Вначале положила на себя большой крест от лба до живота, потом поменьше и под конец совсем маленький – от подбородка до груди.
– Спаси и сохрани нас, царица небесная, – пробормотала она и вдруг, заметив, что Домнушка набрасывает на плечи полушубок, совсем другим тоном сказала: – А ты куда, Домна? Уж не в церковь ли опять? Хлеб-соль братца лопаешь, а работаешь на отца Вонифатия. Он и без тебя не пропадет. У него мошна покрепше нашей. Посуду вот прибери да иди коровник почисть. Коровы в стойле до рогов в назьме заросли!
– Постыдися! Только ведь лоб-то крестом осеняла! А что делать, знаю. Запрягу вот коня Поле и тут приберусь, и на дворе. – Домнушка не стала одеваться до конца, скомкала шаль, вышла, хлопнув дверью.
– И сама бы она запрягла. Не велика барыня, – бросила ей вдогонку Анфиса и медленно, не отрывая ног от пола, поплыла к лестнице, ведущей на второй этаж дома.
– Епифан, подымись-ка за мной, – задержавшись на первой ступеньке, обернулась Анфиса. Епифан небрежно перекрестился, не глядя на иконы, крякнул, пошел вслед за женой.
Как только они скрылись, Поля быстро оделась и кинулась во двор. Скорее, как можно скорее побывать у отца! Правда, свекор велел вначале собрать все в дорогу, а потом уже ехать в Парабель на свидание с родителем. Да мало ли что говорится в этом доме? Тут если одну матушку-свекровь Анфису начнешь слушать, и то можно голову потерять, а уж коли ко всем судам-пересудам Криворуковых прислушиваться, то окончательно с ума спятишь. Каков был разговорчик сегодня за утренним столом? И так ведь всегда! Не беседуют, а поленья друг в друга бросают. Нет, нет, нельзя терять ни одной минуты. Тем более что Анфиса повела мужа наверх. Будет его теперь долго-долго учить уму-разуму. А уж что добросердечию не научит, в том Поля не сомневалась. Недолго прожила под криворуковской крышей, а многое увидела и поняла.
3
Домнушка уже запрягла коня. Поля поблагодарила ее, вскочила в сани, щелкнула вожжой коня по спине и скрылась за деревней. На резвом коне в самом деле от Голещихиной до Парабели рукой подать! Подкатила к дому отца и, еще не въехав во двор, бросилась к окну: дома ли он? Не умчался ли на край белого света врачевать какого-нибудь обездоленного ссыльного? К этим людям у него по-особому отзывчиво сердце. Поля это с детства приметила.
Дома! Сидит за своим столом, колдует с аптечными весами, грызет мундштук, дымит, как пароход. Поля чуть не задохнулась от радости: видит отца, будет говорить с ним!..
– Здравствуй, папка! Как ты живешь-поживаешь?! – Она проскочила через прихожую, чуть не сбив с ног стряпуху, которая уже толклась возле пылающей печи.
Горбяков увлекся работой, не заметил, как она подъехала. Услышав ее звонкий голос, вскочил, рассыпая по столу какой-то желтоватый порошок, обнял дочку, прижал к себе.
– Доченька! Золотце мое ненаглядное! Уж как я по тебе соскучился! И зачем я отпустил тебя в чужой дом? Зачем выдалась твоя непрошеная, негаданная любовь к нему? – Слезы навернулись на глаза, сердце застучало сильнее, отзываясь где-то под лопаткой. Но Горбяков спохватился, замолчал. Да ведь он упрекает дочь! Разве это допустимо? Разве это отвечает его представлениям о человеке, о любви, о жизни? Ни в коем случае! Дочь выбрала того, кого подсказывала ей душа. Она взрослый, самостоятельный человек, ей самой суждено выбирать свои пути-дороги… – Ты что это, Полюшка-долюшка, в неурочный час? Мне почему-то казалось, что ты вечером ко мне прибежишь… Ну, а я все равно рад… очень рад, – бормотал Горбяков, испытывая неудобство от своих первых слов, какими встретил дочь, и называя ее именем, каким любил называть, когда еще была жива Фрося, жена. То время теперь представлялось таким недосягаемо далеким-далеким, и порой думалось, что тогда в этом же доме жил, работал, двигался, думал не он, а кто-то другой, лишь отдаленно похожий на него. Что-то было в той далекой жизни такое необыкновенное по полноте счастья, что напоминало собой не быль, а сказку: «Жил-был добрый молодец, и была у него жена-подруга, и любил он ее пуще всех на свете… И вот долго ли, коротко ли, родилось у них чадо… Полюшкой нарекли…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































