Текст книги "Сибирь"
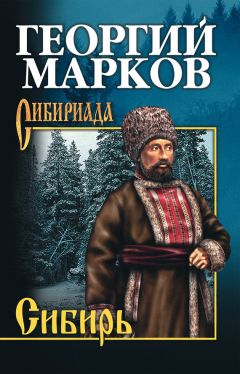
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
1
Шустов в тот же день под большим секретом сказал двум рыбакам о «яме». Действовать приходилось осторожно. Влезать в общественные дела ему, как политическому ссыльному, решительно запрещалось. Могло закончиться высылкой в еще более отдаленную местность, куда-нибудь в верховье Кети или Парабели, где уж совсем жить было бы невмоготу. Опасность грозила и с другой стороны – от скопцов. Если они узнают, кто выдал «яму», – несдобровать ни Поле, ни ему. О скопцах поговаривали, что они хитры, скрытны и в средствах своего возмездия безудержны.
Мужики, которых посвятил Шустов в тайну, встревожились. В самом деле, ударять в колокола преждевременно: такое начнется баламутство, что в случае ошибки люди расценят как обман и кости зачинщикам попереломают. Тянуть дальше тоже нельзя. Ведь если Епифан и скопцы завтра-послезавтра нагонят на «яму» рыбаков из остяцких стойбищ, может произойти смертоубийство. Увидев на «яме» чужих людей, рыбаки из села, владельцы «ямы» по праву, придут в негодование и ярость. Кто их сумеет сдержать?
Шустов предложил втянуть в дело старосту. Он все-таки власть, выбранный народом, и он в ответе перед обществом за многое, в том числе и за то, чтобы общее богатство села не захватывали по своему произволу хозяева-одиночки. Расчет Шустова оказался правильным. Староста с двумя понятыми задержал Ермолая Лопаткина и запер его в сельскую каталажку – холодный амбар. После короткой отсидки Ермолай, до предела перетрусивший, поведал старосте все тайны с «ямой».
– Все, все покажу, только не выводи ты меня на сходку, – по-бабьи заливаясь слезами, твердил Лопаткин.
«Яма», на которую наткнулся Ермолай, была в трех-четырех верстах от села, на плесе, окруженном высокими берегами, заросшими частым смешанным лесом. Дорог тут поблизости никаких не было.
Епифан не без основания считал, что, пока дело узнается, «яма» будет взломана, рыба заморожена и сложена в штабеля. А потом останется самое простое: гони обозы в Томск, собирай барыш, набивай карманы деньгой… В три-четыре раза «ямная» рыба окажется дешевле, чем при обыкновенной скупке. Это при условии, что Ермолай и скопцы получат сполна условленное вознаграждение. От этих не открутишься. Что касается остяков, то с ними будет особый счет: часть пойдет водкой, кое-каким товаром, а уж тут только головы не теряй. Можно сильно остячишек обвести. Не впервой ведь! Фома-то Лукич Волокитин от зависти локти будет грызть. Так думалось Епифану Криворукову в эту бессонную ночь…
А в то время, как он предавался своим сладостным размышлениям, мужики тоже не спали. Ночью они разметили «яму» на участки и подготовились к жеребьевке. Ставить «яму» под охрану не потребовалось. Опасаясь набега скопцов и Епифана, некоторые мужики остались тут коротать часы до «взлома». Староста назначил «взлом» на утро следующего дня…
2
Епифан проводил Полю на рассвете. У ворот, перед тем как расстаться, он вновь повторил свои наказы:
– Перво-наперво, Палагея, не мешкай. Торопись изо всех сил. Сделаем дело, барыш положим в карман – и тогда спи, гуляй, сколько тебе захочется. И потом, пусть Анфиса не скряжничает. Вези все деньги, какие есть в доме. Мне ведь расплату на месте надо производить. За так мне рыбу никто не даст. Скажи Анфисе, мол, наказал сам строго-настрого прислать все до последней копейки.
– Передам, – обещала Поля. – Да и в письме у вас обо всем сказано.
– На словах обскажи еще. А то, чего доброго, письмо-то и прочитать не сумеет, – не унимался Епифан. – Ну, счастливого пути тебе, Палагея.
Пожелали Поле счастливой дороги и братья-скопцы, крутившиеся возле Епифана и несколько озадаченные внезапным отъездом его снохи.
– А кого ж, Епифан Корнеич, на приемку рыбы поставишь? Сноха-то у тебя, видать, мастак по счету, – допытывались скопцы.
– Сам приму. Разве мне привыкать? – отвечал Епифан.
С полдня на заимку потянулись остяки. Они шли из разных углов тайги на лыжах, с ружьями за плечами, с нартами, на которых в брезентовых мешках лежали стяжки самоловов.
К вечеру собралось больше двадцати человек. Это были самые лучшие обские мастера подледного лова. Они умели «брать» рыбу и неводами, и самоловами, и переметами, и мордами так, как никто не умел.
Епифан знал, с кем имеет дело, каждому оказывал уважение. Одному дарил пачку листового табака, другому – набор блесен, третьему – ситцевую рубаху, четвертому – бродни. Старшинке остяцкого стойбища Юфимке Истегечеву Епифан подарил малопульку.
Вечером за ужином Епифан поднес каждому из остяков по стопке водки, настоянной на табаке. Остяки были не прочь получить еще хотя бы по одной порции, но Епифан твердо заявил:
– Вот взломаем «яму», добудем рыбешки и тогда такой пир закатим, что земля закачается. А на сегодня все, баста! В полночь подыму на работу! Хорошо ли уложили самоловы? Наточены ли уды?
– Хорошо, Епифашка, хорошо, – отвечал за всех Юфимка Истегечев.
3
Встали ни свет ни заря. Скопцы приготовили завтрак на совесть: лосевое мясо, рыба, моченая брусника, свежий хлеб. Епифан снова поднес по стопке водки. Остяки выпивали, облизывали губы, аппетитно крякали, выжидающе посматривали на хозяина: не раздобрится ли еще? На дворе морозно, ветер дует, работа предстоит тяжелая… Но нет, неумолим хозяин. Помазал по губам, разжег в кишках огонь, а дров подбрасывать не хочет… Епифан знает: если дать чуть больше меры, на работу канатом их не подымешь. Все полетит прахом!
Ехали вразнопряжку на четырех санях. Пятый конь запряжен в короб, а в коробе – самоловы, пешни, топоры, шесты, веревки: вся оснастка для предстоящего взлома «ямы». На передней подводе Епифан. Он поторапливал своего коня, поглядывал на небо. Ночь светлая, круглый месяц висит над лесом, веет от него холодом. «Поздно выехали. При таком свете вполне можно проруби и лунки долбить», – думает Епифан. На душе у него веселье, радость. Не малый куш гребанет! И нет-нет прорвется тревога: все ли сделали шито-крыто? Не проболтался ли где-нибудь Ермолай Лопаткин?.. Не должно вроде. Задарен, предоволен щедротами Епифана. Все время торчал на глазах, а в последние дни Епифан сам отправил его в село: ходи, мол, по улицам, показывайся людям, чтоб ни у кого и думка не шевельнулась, что ты «яму» затаил. Вот-вот должен встретить у свертка к реке. Ведь и дорогу пришлось найти стороной, чтоб не поселять подозрение. Хвалился, что проведет, как по доскам. Ну-ну, посмотрим! Как будет стараться, так и получит. Пока только аванс даден… Не прознал бы вот как-нибудь Фома Волокитин. Уж если этот коршун ворвется, то добра, Епифан, не жди… Ну, ничего, бог милостив, до него, до Лукича-то, тоже руку не протянешь. Два дня пути туда, да два назад… Даже самый услужливый и то не поскачет. А «яму» надо взять приступом, единым духом, чтоб к вечеру начать вывозку рыбы… Рыбаки из села вдруг очнутся от спячки, а осетры уже в амбаре у скопцов, в коробах на подводах. Кто смел да удал, тот и наверху…
Врывалась в раздумья Епифана короткими, волнующими видениями и Марфа Шерстобитова. Вот баба так баба! Береста на огне! Не то что постылая Анфиса. Лежит рядом, не то баба, не то колода. И знает только одно – шипеть! Шипит и шипит, как змея подколодная. Будто не он, Епифан, а она нажила этот дом в два этажа, амбары, полные добра… Дела пойдут в гору, Марфу надо переселить поближе к себе… Купцы-то вон настоящие разве обходятся женами? Жена для порядка… А Марфа пойдет за ним хоть куда. Собачонка! Чуть посвисти – и прибежит… А чего ей? Ни мужа, ни детей, а хозяйство – петух да курица! Одним словом, хмыс-талка… А все ж сладкая баба, изюм-кишмиш, дыня с сахаром…
Ну, слава богу, вот и сосняк, где должен их встретить Ермолай Лопаткин. Епифан остановил коня, выпрыгнул из саней: присматривался к лесу. Никто навстречу из леса не вышел. Где же Лопаткин? Договаривались, что он будет здесь к полуночи, а близилось уже утро. Подошли братья-скопцы. Остяки, зарывшись в дохи и сено, дрожали, оглушенные водкой с табаком.
– Где же он есть, этот Лопаткин, рассукин сын? Проспал! Да я с него башку сниму! – взъярился Епифан. Братья-скопцы мрачно молчали. Неужели они оказались более проницательными, чем он? Когда Епифан отпустил Лопаткина в село, скопцы сразу ему сказали, что поступил он не очень ловко.
– На эти дни его в амбар бы запереть, чтоб не перепродал «яму» кому-нибудь другому, – проговорил тогда Агап, а братья поддержали его дружным писком.
Ждали с полчаса – Лопаткин все не появлялся. Остяки проснулись, сгрудились возле первой подводы, тормошили Епифана: почему не едем? Что за остановка? На рассвете самоловы надо непременно запускать в «яму». Наступление дня всегда вносит в жизнь реки какие-то свои перемены. Упустить момент на лове – значит, понести потери. Однако никто – ни Епифан, ни скопцы, ни даже многоопытный Юфимка Истегечев – дорогу к реке отсюда не знал.
– Погоди, а на каком коне ездил торить дорогу Ермолай? Конь даже под снегом свой след почует. Пусть идет сам, без вожжей, – предложил Агап. Принялись вспоминать. Оказалось, что Лопаткин ездил на Игреньке, на том самом, на котором вчера укатила в Голещихину Поля. Тут уж Епифан так взъярился, что остяки попятились от его подводы, но винить было некого. Сам был во всем виноват.
– Поехали! Кони вывезут! – Епифан прыгнул в сани, замахал вожжами.
Кони пошли через лес по извилистому проему, угадывая копытами занесенную свежим снегом дорогу. Потом начался чистый луг. Сугробы преграждали путь, кони тонули по брюхо в снегу. Но, смотришь, вновь выходили на старый след. Кое-где по чистине Лопаткин расставил редкие вешки, и они помогали не сбиваться с направления.
4
Вот чистая луговина кончилась, и потянулись то круглые, то продолговатые пятна ивняка и смородинника. Впереди зачернела ровная полоска прибрежного топольника. С каждой минутой река приближалась. Епифан посматривал на небо. На горизонте загорелись яркие полоски. Круглый месяц пригас. Близилось утро. Опоздали, конечно, но не настолько, чтобы считать день потерянным. Сейчас он такую горячую работку задаст остякам, что из них весь дурман в одну минуту улетучится!
Вдруг Юфимка Истегечев, ехавший в одних санях с Епифаном, вскочил на ноги, закричал:
– Дымом пахнет, Епифашка! Дымом!
Епифан придержал коня, встал, начал принюхиваться. Морозный воздух жег ноздри, он был чистый, проникал куда-то аж за ребра и никаких запахов не содержал. Епифан на запахи тоже был чуток, на нос никогда не жаловался.
– Показалось тебе, Юфим, – сказал Епифан. – Откуда тут дым? До села верст семь – не меньше.
Юфимка отступил, но с сомнениями:
– Может, и показалось. А сильно, Епифашка, нанесло.
Поехали дальше. Чем больше приближалась река, тем чаще встречались островки из голых кустов. Снег тут стал глубже, а вешки Лопаткина вовсе потерялись. Кони брели по целине.
– Лежебока, язви его! Наверняка спит с бабой в землянке! Душу вытрясу! Хребет переломаю! – ругался Епифан.
– Огонь впереди, Епифашка! – воскликнул остяцкий старшинка. Епифан облегченно вздохнул.
– Ну, слава богу! Ермолай, видать, костер запалил, маячит нам, – обмяк сразу Епифан.
Кони словно почуяли, что скоро конец пути, пошли резвее. Вскоре через лес замелькали новые огни.
– Один, два, три, четыре, пять, – считал костры Епифан и, не выдержав, снова взорвался: – Да он что, этот Лопаткин, из ума выжил? Зачем же ему столько костров понадобилось? Решил, видно, старый дурак, что мы заблудились на лугах! А ведь должен был встретить нас у сосняка! Ну и дам я ему! Своих родных не узнает!
Епифан и предположить не мог, что произошло непоправимое. Первыми затревожились скопцы. Они догнали подводу Епифана, вскочили к нему в сани:
– Куда ты прешь, Епифан? Разве не видишь, сколько костров? Остановись! Коней запрячем в лесу, а сами пешком пройдем. Посмотрим, что там делается, – заверещали наперебой скопцы.
Коней остановили. Остякам велели сидеть и ждать, Епифан сбросил лосевую доху, остался в полушубке. Поскидывали с себя дохи и скопцы. Сокрушая бурелом, направились прямиком через топольник к реке. Еще не успели выйти на берег, как услышали стукоток. Лед хрустел, звенел, пешни бухали, хлопками отзывалось эхо, слышались людские голоса. Где-то неподалеку ржали кони.
– Перепродал Лопаткин «яму»! Фоме Волокитину перепродал! Задушу! Своими руками кишки вырву! – потрясая кулаками, кричал Епифан, тараня сугробы снега, задыхаясь от напряжения и гнева.
Пробравшись на кромку берега, остановились, прячась за стволами ободранных осокорей. Внизу, в ста саженях, лежал короткий, сжатый ярами плес. На всем его верстовом пространстве чернели люди. Расставленные по точно расчерченным линиям, они так были захвачены работой, что, появись сейчас Епифан на льду «ямы», и не заметили бы его.
– Все обчество вышло, – присмотревшись к работающим людям, сказал Агап.
– Кто ж выдал нас? Неужели Лопаткин сдрейфил и сам побежал к старосте? – гадал Епифан.
– Я ж говорю, что кто-то приходил на заимку! – пищал Агап.
– Ну и что же? Пришел и ушел. Что ему, сорока, что ль, о наших делах рассказала?
– А ты снохе, Епифан Корнеич, насчет «ямы» не проговорился? – не унимался подозревать Агап.
– Ни одного слова! Ты что же думаешь, я дурнее тебя? – обозлился на скопца Епифан.
– А все ж таки зачем-то сноху послал к домам, – гнул свое скопец.
– Послал за деньгами. А теперь вижу, зря: лопнуло все! – выпалил в сердцах Епифан.
– Давайте убираться подобру-поздорову! – предложил Агап. – Небось Лопаткин всему миру раззвонил о нашем уговоре. Голову нам оторвут старожилы.
Епифан скрежетал зубами, крякал, ударял то одним кулаком, то другим по бедру, по колену, по животу. Досада грызла его до исступления. Был бы волшебным, могучим богатырем, бросился бы сейчас на ледовый покров реки, разбросал бы всех этих мужиков и баб по сторонам, передавил бы их рукавицей, как козявок, а всю рыбу, которая подо льдом кишмя кишит, забрал бы себе!.. Ан нет, не тут-то было, приходится убираться восвояси…
– Светает, Епифан Корнеич! Пошли! Ни нам, ни остякам ходу на эту «яму» нету. К обчеству в Усть-Тымское приписаны мы все… Никольские узнают, что мы здесь, живыми не отпустят…
Епифан слушал и не слушал скопца. Уходить… уходить от добра… лишиться барыша… Стоял Епифан как вкопанный. Подбежал Юфимка Истегечев, принялся упрекать:
– Плохой ты человечишка, Епифашка! Плохие братья-скопцы! «Яму» хотели воровать! Никольским мужикам хотели нас стравить! Ай-ай-ай! Бежать надо! Скрываться надо!
– Да замолчи ты, падла косоротая! – взревел Епифан, но круто повернулся и поспешно зашагал от берега к подводам.
5
Поля, разумеется, ни о чем этом не знала. Ехала себе и ехала. Игренька – конь добрый, умница, понимал ее, как человек.
– Давай, Игренюшка, беги-беги! Как приедем с тобой в Голещихину, первым делом помчимся в Парабель. Папку с дедушкой проведаем. А может быть, и Никиша приехал. Но-но! – Поля разговаривала сама с собой отчасти потому, что все время от однообразия пути тянуло в сон. А она еще по первой дороге знала: от сна лихотит, болит голова, ломит где-то в глубине глаз. А конь, слыша свое имя, вскидывал голову, выгибал шею, косился на хозяйку и прибавлял рыси.
Первая ночевка у Поли была примечательной. В одной из деревень она подвернула к постоялому двору. Встретили ее радушно, как почетного человека, дорогого гостя. А все из-за отца, из-за Горбякова Федора Терентьевича. История оказалась довольно обычной, каких здесь по Нарыму можно было встретить бессчетно. Года два-три назад хозяин постоялого двора, крепкий и молодой еще мужчина, заболел, мучили колотья в груди, временами дышалось до ужаса тяжело. Волей-неволей поехал в Парабель к фельдшеру. Горбяков попользовал мужика незатейливыми порошками, а самое главное, научил того дышать по какому-то древнеиндийскому способу. Всего пять дней и походил-то к фельдшеру мужик. А запомнил того навсегда и дочку его запомнил. Стоило войти Поле в дом, чтоб спросить, можно ли остановиться на ночевку, как она услышала неподдельно радостный возглас:
– Проходите, проходите! Весь дом к вашей милости! – Мужик позвал жену, и они принялись стаскивать с Поли доху, полушубок, поддевку.
А вот вторая ночевка оказалась такой, что Поля мысленно от изумления руками разводила.
Постоялый двор, на который она заехала, был заполнен людьми. В просторной прихожей возле самовара, за широким, длинным столом мужики и бабы коротали вечер, говорили о том о сем: о войне, которой не видно конца-краю, о каком-то бунте крестьян за Томском, во время которого разгромили казенные амбары с хлебом, о бедности, которая все сильнее дает знать о себе: даже здесь, в нарымских селах, появились нищие…
Вдруг подошла к столу хозяйка постоялого двора, прислушалась к разговору и, когда наступила пауза, сказала:
– А слышали, земляки, как в Никольском один рыбак «яму» нашел и продал ее этому идолу Епифахе Криворукову?
– Нет, не слышали! Ну-ну, расскажи, хозяюшка! – раздались голоса мужиков и баб.
– Было дело так, засек рыбак «яму». А его скопцы с заимки засекли. Взяли его на притужальник: «не объявляй «яму», продай купцу». А купец тут как тут: Епифаха. Сговорили они остяков, видать, зелья всякого в них насовали, опутали темных людей, сказать короче. Назначили срок, двинулись при всей рыбацкой справе. А никольские мужики – тоже не дураки: выследили негодяев. Епифаха со своей разбойной артелкой на реку, в великой тайне, окружным путем, а там уже «яму» поделили и промысел начали… Вот так и обернулась Епифахе добыча… Получил шиш с маслом. – Хозяйка засмеялась, а слушатели покрыли ее слова шумным восторгом. Никто – ни один человек не остался равнодушным к новости, сообщенной хозяйкой. Смеялись над Епифаном и скопцами, хвалили никольских мужиков за хитрость. Рыбака, продавшего «яму», называли пакостью.
«Когда же это произошло? А самое главное, как все узналось? Вроде меня за всю дорогу никто не обгонял. Ведь не птица же на хвосте эту новость сюда принесла», – думала Поля, изумленная рассказом хозяйки.
Когда мужики и бабы слегка утихомирились, Поля спросила:
– И давно это случилось?
– А вчера и случилось. Сказывают, «яма» богатющая, тыщи пудов добыли. И чего только нету! И осетр, и костерь, и стерлядь! – Заметив недоуменный взгляд Поли, хозяйка добавила: – Сегодня, вишь, гонец к Фоме Волокитину проскакал! Один доверенный его – из мужиков. Гонит изо всех сил. Боится, чтоб кто-нибудь другой «ямную» рыбу не закупил. Епифахе дали по носу, а все ж таки людишки отходчивы… Да и опутает мужиков Епифаха, как пить дать опутает…
«Ну, пусть себе торговцы грызутся… а вот Шустов-то все-таки покормил небось детишек осетриной. Если делянку на жеребьевке не получил, так хоть по найму заработал», – подумала Поля, чувствуя удовлетворение на душе оттого, что в тяжкой доле ссыльного мелькнул небольшой просвет. Теперь, пожалуй, найдутся у него деньги и на веревку и минует его необходимость унижаться перед братьями-скопцами.
Рано утром Поля покатила дальше. Ей хотелось в этот день во что бы то ни стало добраться до Голещихиной. «А к папке с дедушкой побегу хоть в полночь. Не дожить мне без них до утра», – пронеслось у нее в голове…
Глава четвертая1
В Голещихиной Полю встретил Никифор. Он вернулся с обозом из Томска часа на три – на четыре раньше. Поел домашних щей, отчитался перед матерью, сходил в баню и только прилег на кровать отдохнуть – глядь, Поля подкатила. Никифор кинулся к воротам. Стосковался по Поле. Обнимал, целовал ее, снова обнимал и целовал.
Анфиса услышала о приезде снохи и сейчас же спустилась вниз. Поля слово в слово передала наказы Епифана. Свекровь, сложив руки калачами на высокой груди, слушала то с доверием, то с подозрением, раздумывала.
Когда Поля заговорила о деньгах, Анфиса всполошилась, прошлась по кругу, встала на прежнее место:
– Да он что, отец, тверезый или пьяный?! Какие у меня деньги? Ну, наберу десятку-другую…
Поля знала, что так и будет. Доверенность припасла, что называется, на козырный ход.
– Письмо вам Епифан Корнеич прислал. Тут все сказано.
Поля подала свекрови записку от Епифана. Анфиса покрутила перед глазами, подала Никифору:
– Прочитай-ка, сынок.
Никифор прочитал, вернул матери письмо. Анфиса спрятала его в карман широкой юбки.
– Утро вечера мудренее. Подумаем, – сказала она и, посмотрев на Полю с укором, добавила: – С каких это пор, Палагея, стал свекор тебе Епифаном Корнеичем? Батюшка он тебе, по крайности, папаша. Ох, господи, все-то у нее не как у людей…
Поля промолчала, переглянулась с Никифором, но муж поспешил опустить глаза.
Сбегать к отцу с дедушкой Поле так и не удалось. Пока доила коров, прибирала посуду, наступила ночь. Помочь было некому. Анфиса угнала зачем-то Домнушку на заимку, и та не вернулась оттуда – заночевала.
– Зря-то керосин не жгите. Поговорить и в темнаках можно, – сказала Анфиса и поплыла к себе наверх.
Едва мать скрылась, Никифор вытащил откуда-то из-за пазухи сложенный квадратиком клочок китайского шелка, боязливо поглядывая на лестницу, подал его жене:
– Тебе, Поля, от меня. На кофточку. Нравится? Поля взяла шелк, но развертывать не стала.
– Нравится. Чего же? Спасибо, Никиша.
«Так боится мать, что жене подарок тайком передает», – промелькнуло в голове Поли. Но она не стала задерживаться на этой мысли.
– А себе-то, Никиша, купил чего-нибудь? – спросила Поля.
– Как же, накупил всякого добра полным-полно. – Никифор вскочил с табуретки и, шлепая ногами в одних вязаных чулках, помчался к матери наверх.
Вернулся оттуда с охапкой покупок. Показывая их, увлеченно перечислял:
– Сапоги обеднешные. С отцом на двоих. Кусок бумазеи на бельишко. Ботинки матери с резинкой. Вот полушалок тетке Домне. Сама она велела. А вот смотри-ка, еще чего себе приглядел… – Никифор быстро-быстро напялил на себя плисовую поддевку. – Ну, чем не купец? Только бы еще бизоновые сапоги. Попадались! Да дорого, холера их забери! Как, Поля, нравится тебе моя покупка?
Сказать по совести, Поле покупка мужа совсем не нравилась. Ну, зачем ему эта плисовая поддевка? Хватит того, что в такой же ходит сам Епифан Корнеич. Ну тот торговец, коммерсант, тут, как говорится, по Сеньке и шапка, но зачем такая одежка Никифору? Поля не понимала этого.
– Ты, случайно, ее не у гребенщиковского приказчика купил? Помнишь, такой молодой, с бородкой? – Поля сказала это с иронией в голосе, но Никифор не уловил ее насмешки.
– И старший приказчик в такой же ходит. Помнишь? Никодим Семеныч зовут его. – Никифор бережно, испытывая наслаждение, погладил поддевку широкими ладонями, довольным голосом заключил: – Гляди, и мы в люди выйдем.
Он скинул поддевку, собрал все товары в охапку и так же быстро, перескакивая сразу через несколько ступенек, унес все это матери.
– Ну, как там в городе-то? Как там люди живут? – спросила Поля, когда Никифор вернулся.
– Голодуха, что ли, их давит! На базаре любой съестной товар берут чуть ли не в драку. За ценой не стоят. Обругают, а возьмут… Я-то, Полька, коммерцию одну сварганил. Научил меня Аркадий, сын колпашевского купца Серикова. Ну, пройдоха парень! Ну, до чего ловкий! Он тоже, как и я, с рыбным обозом пришел. У него четырнадцать подвод, а у меня двенадцать. На постоялом вместе мы оказались. Спрашивает меня: «Ну что, Никишка, сколько коробов затыришь? Один или два?» А я-то, как неразумный, не могу его понять. «О чем ты говоришь, Аркашка?» – «Как о чем? О собственной выгоде, о личном капитале, говорит. Неужели, говорит, все короба с рыбой томским купцам-гужеедам сдашь?» – «А как же, говорю. Так отец велел». – «Ну и дурак ты! А усушка-утруска бывает? Сколько за дорогу одни крысы изгрызут, воры на постоялых повытащат! Давай оставим по одному коробу, продадим на базаре вразновес. Знаешь, как сейчас рыбу хватают! Не успеешь оглянуться, а короба нету. О себе-то тоже надо думать! Да и погулять в городе немножко надо. В трактир сходим, к барышням». – «Я женатый, говорю, к барышням иди один, а насчет личного капитала подумаю». Ну, отвели мы обозы купцам на склады, а по одному коробу оставили… Ты знаешь, Полька, назавтра поехали мы на базар, и я раньше Аркашки все расторговал… Выручил… Спрятал… не обеднеют отец с матерью… Начнем свое дело, как раз и пригодятся… Ты не смотри, что я смиренный, я тоже смекалистый, не хуже Аркашки…
Никифор посадил Полю к себе на колени и говорил шепотом, в самое ухо, говорил без умолку и со страстью.
Поля не узнавала Никифора. В течение всего рассказа у нее было желание повернуть лицо и посмотреть ему в глаза. Поле казалось, что они блестят у него, как у лихорадочного, но что-то ее удерживало, может быть, именно этого блеска она втайне и не хотела видеть сейчас и, больше того, боялась убедиться в том, что глаза его таковы.
– Сам теперь ходить с обозами буду. Два раза нынче еще схожу… Я уж с Аркашкой обо всем договорился… Ну, знаешь, парень!
– Да долго ли вы будете керосина-то жечь попусту? – вдруг послышался голос Анфисы, и в пролет лестницы свесилась ее взлохмаченная, с распущенными косами голова.
– Сей миг погасим, маманя! – пообещал Никифор и, вытянув шею, дунул в пузатое стекло лампы.
Ощупью они перешли в комнатку под лестницей, улеглись на свою кровать.
– Тосковал хоть обо мне, Никиша? – спросила Поля. – А я все ждала тебя, ждала. Дни на пальцах считала. И получалось, что приедешь ты не сегодня, а через три дня, в пятницу.
– Уж больно забот много с обозом идти.
Поля ждала от Никифора каких-то других слов, каких именно, она и сама, должно быть, не знала… Все между ними было вроде как прежде и все же как-то иначе. И в эти минуты вдруг в ней родилось подозрение: да один ли Аркашка ходил в трактир-то и к городским барышням? Не сговорил ли он на это своего нового, безвольного дружка Никифора Криворукова… Эта мысль обожгла Полю огнем и тут же бесследно улетучилась, не оставив о себе никакого следа.
Теперь Поле предстояло рассказывать о своей поездке. Никифор слушал ее, и многое показалось ему забавным. Он никогда не подозревал, что у отца имеется тайная книга, в которой есть записи и о его, Никифора, расходах.
– Зачем ему такая книга? Мамина голова лучше книги на учете все держит, – посмеявшись, сказал Никифор.
Потом Поля вспомнила приезд на заимку Марфы Шерстобитовой. Ей тяжело и стыдно было рассказывать об отце мужа, но она все-таки рассказывала. Никифор раза два перебил ее какими-то малозначащими вопросами.
– Смотри ты, какой рысак батя! А я-то думал, притомился он за бабами бегать, – сказал Никифор, дослушав Полю до конца.
И только всего! Поля ожидала, что ее рассказ о Марфе вызовет в нем какие-то острые чувства. Ведь он мог оскорбиться, наконец, за мать свою. Но нет, ничего этого не произошло! Поля молча уткнулась в подушку, поворотив голову от него. Никифор, по-видимому, почувствовал ее состояние:
– Не переживай ты за него, Полька! Тетка Домна говорит, что он сроду бабником был. И на матери-то, сказывают, женился потому только, что куш с ее отца добрый содрал. Одно слово, кобель.
Поля приподнялась на локоть:
– Что ты, Никиша? Разве так можно об отце говорить?
– Как иначе-то? Ясно, кобель, – не смутился Никифор.
Дальше разговор не пошел. У Поли не было слов, а Никифор не находил предмета, о котором можно было бы вести с женой речь.
Нет, нехорошая какая-то, сумбурная по чувствам и мыслям выдалась ночь. Совсем еще неосознанно, каким-то далеким-далеким краешком ума Поля поняла, что ночь эта не сблизила ее с Никифором, а отдалила их друг от друга.
– Как мы, Никита, жить-то будем? Тягостно мне в твоем доме. Сам видишь. Уйдем, Никита. Обещал же! – В голосе Поли и дрожь и слезы. Никифор не отозвался. Уснул, а может быть, сделал вид, что уснул.
2
После утренней приборки и завтрака Поля заторопилась в Парабель – к отцу. Анфиса попробовала удержать ее, ссылаясь на дела по дому, но Поля так ее отбрила, что та не рискнула настаивать на своем.
– Дела, матушка, не убегут. А проведать отца с дедушкой – двух одиноких, немолодых мужчин – мой долг. И знайте: всегда делала так и так буду делать вечно! И не учите меня жестокосердию. Все равно не обучите, как бы ни старались.
Анфиса всплеснула пышными руками, вспыхнули недобрым светом глаза, но сказать ничего не сказала, почувствовала, что сноха сегодня в таком настроении, что от нее еще что-нибудь покрепче получишь.
А отца Поля застала за тем же самым занятием, что и в прошлый раз: он сидел за столом и на аптечных весах развешивал какой-то желтый порошок.
– Ты что, папка, целую неделю порошки делаешь? Я уезжала, ты сидел за столом, и вот приехала – ты опять той же работой занимаешься. – Поля смеялась, непривычно звенел ее голосок в притихшем доме Горбякова.
Отец сдвинул свою алхимию на край стола, стащил с себя ставший тесноватым белый халат, подошел к дочери. Взяв ее за подбородок, поцеловал в одну щеку, в другую, в лоб и в кончик носа.
Поля изучающим взглядом окинула дом. Все прибрано, чисто, вещи на своих местах. Пожалуй, пора вот только переменить шторки на окнах: чуть уже загрязнились. На одной шторке пятно от йода, на второй – прожженная папиросой дырочка… Папкин почерк. С ним это часто случалось: то подол рубахи прожжет, то халат, то брюки. А как он прожег шторку на окне, – это уж надо ухитриться. Видно, что-то очень занимательное происходило за окном. Смотрел, увлекся – и вот шторка с отметиной.
– Вижу, что дедушки нету, – сказала Поля и сбросила полушубок и шаль.
– Все еще не пришел. Может быть, охота началась удачная. Решил посидеть в тайге. А все-таки я беспокоюсь, Полюшка. Годы у него далеко не юные. Ну, садись. Ты пить-есть хочешь? – заботливо присматриваясь к Поле, спросил отец.
– А ты-то завтракал? Кормили тебя, нет? Обо мне не беспокойся. Я поела и к тебе отправилась.
– Я тоже ел. Садись, расскажи, как съездила, что увидела? – Горбяков придвинул Поле свое глубокое кресло, сам сел напротив, на белую и высокую табуретку с круглым сиденьем.
– Что увидела? – запальчиво сказала Поля и принялась сгибать пальцы на руке: – Подлость, пакость, гнусность…
– Так много! – грустно воскликнул Горбяков и придвинулся к дочери поближе.
– И это еще не все, папаня! Ах, папаня, почему-то нехорошо у меня на душе… тошно… – Поля почувствовала, что горло сжимают спазмы, еще миг, и она зарыдает. Она опустила голову, собрала в кулак всю волю. Плакать нельзя, ни в коем случае нельзя. Отцу тоже нелегко коротать жизнь в одиночестве.
Горбяков чутьем уловил, что дочь переполнена и впечатлениями и размышлениями и ему не нужно торопиться с расспросами. Поля справилась со своим волнением, сказала:
– Ну, слушай, папаня. Буду рассказывать подробно и день за днем. И все будет чистая правда. Ни в чем тебе не совру.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































