Текст книги "Сибирь"
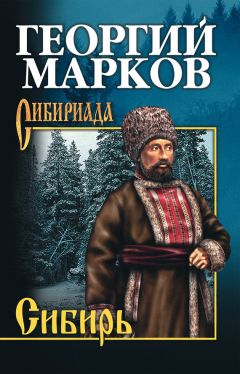
Автор книги: Георгий Марков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
– Не ожидал, Иван Иваныч, увидеть меня здесь? – спросил Лукьянов, косясь на Акимова своими разноцветными глазами и пристраивая одежду в углу избы.
– Никак не ожидал. А вы-то разве знали, что я тут? – в свою очередь спросил Акимов.
– Откуда же! Мне сказали, иди на свой стан и проводи нужного человека куда следует. Вот и все. А кто этот человек – ни слова. Уж вас-то никак не думал встретить. Вспоминать о вас вспоминал. Частенько. Вспоминал, конечно, и Венедикта Петровича, дай бог ему доброго здоровья. Вас кто провел-то: сам Егорша или Николка?
– Николка.
– Бедовый парень! И охотник, скажу вам, отменный!
– Ходок такой на лыжах, что на коне не обгонишь! Да вы присаживайтесь вот сюда, Степан Димитрич. Окуней я тут наварил. Хорошо, что морду разыскал у вас под навесом.
– Не сгнила она? Старая-престарая. Давно когда-то сплел.
– Одна морда подгнила, а вторая целая. Сунул ее в полынью, и, наверное, двух часов не прошло, как налезло рыбы битком.
– Зимой тут рыбу поймать проще простого. Таежником вы стали, Иван Иваныч. Обучились промыслу, – присаживаясь за стол напротив Акимова, сказал Лукьянов, и все еще как-то настороженно присматриваясь к нему.
– Как это говорится, Степан Димитрич? Нужда учит, нужда мучит, нужда душу веселит. – Акимов засмеялся.
Лукьянов поддержал его ровным, негромким смешком.
– А я думал, вы в Питере. Небось, думаю, в науках много превзошли, от дядюшки ума начерпали, ну, и своего накопили. Ан вон как жизнь-то!.. Случается, и не совпадает.
– Случается, Степан Димитрич! – подтвердил Акимов, про себя взвешивая, как дальше вести с Лукьяновым разговор: что сказать, о чем умолчать. С Ефимом, Егоршей, Николкой, даже с Полей было Акимову проще. Они знали про него только одно: человек бежит из ссылки. Не он первый, не он последний. А вот здесь поломаешь голову: знакомый. Он о тебе многое знает, и ты о нем – тоже. Не случайно по имени, по отчеству они друг друга называют.
– Вы небось, Иван Иваныч, затосковали? Вчера я должен был прийти сюда. А не пришлось. Выпало еще одно дело. Прямо неотложное. А замениться некем, – принимаясь за еду, сказал Лукьянов, усиленно размышляя о своем. У него ведь тоже был повод подумать кое о чем: бумаги Лихачева – как быть с ними? Говорить о них Акимову или умолчать? Конечно, Иван Иванович – родственник профессора. Тот без него шагу ступить не хотел. Но это было тогда, в другом положении. А как у них теперь? Дружат ли по-прежнему? Не развела ли их жизнь в противоположные лагеря? Нынче такое не редкость. Вон Катя Ксенофонтова. Родители и богатенькие, и по-своему знатные, а она и вспоминать о них не желает. Нет, не надо спешить с этими бумагами, кое-что разнюхать вначале необходимо. А то еще наживешь с ними какую-нибудь беду…
– Конечно, Степан Димитрич, радости у меня не было вчера. Николка поел и умчался. Остался я один в безвестности. Не то, думаю, придут за мной, не то не придут. А тут еще и с едой у меня жидковато. Ну, когда сегодня зачерпнул целую морду рыбы, веселее стало. А все-таки ждал. Прикидывал и такой случай: вдруг одному придется выходить. Пошел бы прямо на юг, – рассказывал Акимов.
– А что ж, и вышел бы! Правильно: только на юг. Тут до деревень верст тридцать, от силы сорок. Но не в том дело. Крючки нынче по деревням. Крючки… – Лукьянов хотел разъяснить, что скрыто за этим словом, но Акимов закивал головой.
– Понимаю, Степан Димитрич.
– Многовато их стало. Чуть ли не в каждой деревне – то урядник, то стражник. Есть, конечно, и тайные, подкупленные из нашего брата крестьян.
– Есть такие?
– В семье не без урода.
– А почему так? Чем вызвано?
– Расшаталась старая жизнь. Невмоготу. Беспокойство охватило всех. Край пришел. Еще год войны – и пойдет Россия под откос.
– А может быть, наоборот? Встанет Россия на твердый путь?
– Хватит ли сил-то?
– Сил хватит, Степан Димитрич. Революция приведет в движение все силы.
– Ну-ну. – Лукьянов недоверчиво вздохнул.
– Что, не верится вам?
Лукьянов на стал скрывать своих дум, подбирая слова, сказал:
– Оно ведь какое дело, Иван Иваныч. Вот с мужиками в тайгу идешь на кедровый ли промысел или на охоту, без старшего лучше не ходи. Порядка не будет – и добычи не будет. В каждом деле рука требуется. Так и тут. Откуда она, рука-то, возьмется? Кто мог бы, давно в ссылке или в бегах, как вы, иные на фронте, а многих уже и нету. А нашуметь, накричать в таком деле нельзя. Кровью отзовется. Вспомните-ка, как было в пятом году! А потом что было?
Акимов наклонил голову. Вот тут и попробуй уберегись от политических разговоров! Сама жизнь цепляет тебя за загривок и тыкает носом в самые злободневные проблемы действительности. Ну, что же ему, прикусить язык? Да ведь как его ни прикусывай, а сказать-то о том, что думаешь, хочется. И что же о тебе, большевике, борце за новый строй, подумает этот крестьянин, если ты на вопросы, которые кипят в его душе и, чувствуется, кровоточат, пробормочешь ничего не значащие слова? А ведь это не просто крестьянин, а крестьянин думающий, ищущий истины, не говоря уже о том, что он твой проводник, принял на свои плечи большой риск и фактически уже встал на путь активного содействия революции.
Акимов покашлял в кулак, скрывая затянувшуюся паузу, сказал:
– Единственное спасение России, Степан Димитрич, – революция. Иного пути нет. А революция зреет не по дням, а по часам. Когда она захватит народ, и фронт, и тыл, убежден я, и силы найдутся, и старшие в борьбе выдвинутся. А говорите вы правильно: рука нужна. Нельзя не знать целей, надо знать, куда вести людей, во имя чего вступать в схватку со старым миром.
Лукьянов выслушал Акимова, покивал головой и, не рискуя вести разговор на эту трудную тему с ученым человеком, сказал мечтательно:
– Уж скорей бы, Иван Иваныч! Притомился люд! Изнемог. А у меня ведь старшой-то как в воду канул. Второй год с фронта ни слуху ни духу! – И вдруг всхлипнул, а устыдившись своей слабости, долго сидел с опущенной головой.
Молчал и Акимов. «Наверное, не было в истории России такой поры, когда бы горе людей, их страдания разлились бы таким половодьем, как теперь», – думал он, искоса поглядывая на Лукьянова, который все еще сидел молча, сжав свои широкие плечи, словно подраненный беркут с прижатыми крыльями.
– Лоток тут в снегу у вас нашел, Степан Димитрич. Золотишко, видать, пытались мыть. Ну и как? Стоящее дело или нет? – спросил Акимов, круто меняя направление разговора.
Лукьянов отодвинул котелок с рыбой, разгладил бородку и вдруг переменился весь: расправил плечи, выпрямился, засверкали живыми искорками его разноцветные глаза. Акимов понял, что, начав новый разговор, попал в точку. Лукьянову по душе беседа об этом.
– Шарились мы тут по пескам, Иван Иваныч, целую осень. И я, и мои связчики. Сказать, что ничего не нашли, – неправда. А только такая работа – себе дороже. На крупное золото не напали. Намыли артелью две маленькие щепотки и бросили…
– А почему вы решили, что есть тут золото? – спросил Акимов, загораясь от собственного любопытства, мысленно погружаясь в свои размышления о междуречье.
– Что тут есть золото, давно люди знают. Первым делом знают через птицу. Находили золотинки и в глухарях и в утках. Да я к этому делу смолоду недоверчив. Давно меня подбивали связчики попробовать поискать фарта. А я все одно: нет и нет. Ружьем, мол, свое возьму. Лучше колонок в капкане, чем соболь на воле. И все-таки уговорили! Сколотил я лоток по памяти…
– А вы что, на приисках бывали? – спросил Акимов.
– Бывал. Бывал, правда, по случайности. Когда молодой был, ходил с артелью томских охотников на Телецкое озеро. Нанимал нас купец Гребенщиков. Ну, вот там, на Телецком озере, и довелось мне побывать у старателей. Посмотрел я все премудрости копачей и кое-что запомнил. А как по-вашему, правильно лоток сделан? – вдруг обеспокоился Лукьянов.
– Правильно. А где вы грунт брали?
– А тут же и брали, из берега.
– Шурфы не пробивали в глубине тайги?
– Пробивали, Иван Иваныч, вдоль ручьев.
– Ну и как?
– На хорошее золото не наткнулись.
– Скальные породы не встречали?
– Скальные породы? – переспросил Лукьянов и замолчал в задумчивости, что-то про себя решая.
– Пожалуй, не встречали, Степан Димитрич. Надо бы принять еще северо-восточнее верст на триста – четыреста, тогда возможно… – ответил за Лукьянова сам Акимов.
– Скальных пород не встречали, а вот находки золотой россыпи в камне попадались, – сказал Лукьянов.
– Не может быть! – воскликнул Акимов, про себя подумав: «Уж слишком быстрое разрешение твоей гипотезы было бы, если б это оказалось в самом деле».
– Попадались, Иван Иваныч. – Явное недоверие Акимова не смутило Лукьянова.
– Расскажите, Степан Димитрич. Это очень важно для меня. – Акимов нетерпеливо заглядывал Лукьянову в лицо, ждал, что он скажет. А тот не спеша начал шарить по карманам, наконец достал кисет и вытащил из него плоский камешек.
– Вот, Иван Иваныч, смотрите. – Лукьянов положил камешек на свою широкую ладонь, приблизил ее к лицу Акимова.
– Позвольте взять и посмотреть на ощупь, – усмехнулся Акимов необычному сочетанию слов: «посмотреть на ощупь».
– Берите, пожалуйста.
Акимов взял камешек, оказавшийся не только гладким, но и довольно тяжелым, и долго крутил его в пальцах, то поднося к самым глазам, то отодвигая от глаз на вытянутую руку.
– Видите, Иван Иваныч, золотинки? Видите, как они поблескивают? Прямо как звездочки на темном небе. – Лукьянов не мог не заметить, с каким вниманием, с какой тщательностью Акимов рассматривает этот необычный камешек с золотыми искорками внутри.
– Можете, Степан Димитрич, припомнить, где и как вы нашли камень? – спросил Акимов, встряхивая камешек в замкнутой ладони.
– Конечно, могу! Помню во всех подробностях.
– Очень хорошо. Расскажите, пожалуйста.
– Рассказ короткий, Иван Иваныч. Значит, так: рыбачил я. Ну, помнится, поймал удачно, приехал с плеса. Разделывать рыбу некогда было. Шишка как раз поспела. Орех нужно было обрабатывать. Дай, думаю, рыбу-то пока в садок из лодки пересажу. Вышел на берег-то, начал искать, где мне колышек-то вбить, чтоб прихлестнуть веревкой садок. Как сейчас помню: вода малая была, берега-то сильно обнажились. Ну, в одном месте, вижу, кромка синей плотной глины вылезла у самой воды. Вот, думаю, здесь колышек-то и забью. Сразу от берега глубь идет, рыба в садке дышать будет. Заострил колышек, поставил его острием в глину и ну обухом топора по нему колотить. Бью, бью, а колышек-то пружинит, не идет. Поставил его слегка в наклон, опять колочу, а он не идет – и все тут. Решил я тогда острием топора твердый слой глины пробить. Носком топора-то тюк да тюк. Вижу топор не палка, берет глину. Взмахнул я посильнее. Вдруг, слышу, топор-то как чиркнет, будто по железу прошелся. Я еще раз ударил. Так скрежетнуло, что в руку отдало. Нагнулся я, нажал топор острием и вывернул его. Вижу, камень выковырял. Длины примерно с мой указательный палец, толщины чуть потоньше ладони и уж так напоминает детскую ножку, что прямо чудеса. Попробовал я его переломить, не тут-то было. Не поддается. Положил я его тогда на доску и на палку, чтоб лежал он на излом. Ударил обухом топора. Переломилось. Посмотрел я на излом-то, а там искорками золото отливает. Ну, думаю, фартануло тебе, Степан. Принес лопату, притащил лоток. Рою и мою. Мою и рою. Переворотил грунту – на десяти конях не увезешь. Ну, хоть бы одна золотинка для смеху нашлась. Пусто! Хорошо, думаю, что не побежал к мужикам хвалиться находкой. Взбаламутил бы народ зазря. И тут ничего не нашли бы, и там бы в кедровниках время прозевали. Да, вот так, Иван Иваныч, с той поры и ношу эту тайну в себе. Один кусочек камня дома держу. Тот побольше этого. А этот, как видите, всегда со мной в кисете. Сказать по правде, не один раз по Венедикту Петровичу вздыхал. Вот, думаю, с кем бы совет поиметь. Может быть, и указал, где наверняка-то золотишко искать.
Акимов слушал Лукьянова с серьезным видом, но под конец рассказа улыбка тронула его губы.
– Разочарую вас, Степан Димитрич. Эти блестки – не золото. Правильно вы сделали, что не кинулись народ сзывать на промысел драгоценного металла. Камень этот в науке называется пирит. Иначе сказать, это – сернистое железо, соединение серы с железом. Сам по себе он и копейки не стоит. Но в данном случае это находка не пустая. Например, моему дядюшке Венедикту Петровичу (Акимов не захотел упоминать себя, хотя интересовало это прежде всего его самого) она о многом бы сказала…
– Видите, как оно поворачивается-то! А всему виной наша неграмотность! Ай-ай… Вот уж в самом деле – осенило меня. А ведь так и подмывало мужиков крикнуть. Коли, уж, думаю, золото в камне пошло, можно и на самородки наткнуться. А что ж в нем, в этом камне, такого особого, Иван Иваныч?
– Важен этот камень, Степан Димитрич, как свидетельство особенности структуры этой местности. Вероятны где-то поблизости выходы коренных пород. Ученые их называют палеозоем. А для понимания общей картины это весьма существенно. – Акимов не сразу находил такие слова, которые хотя бы элементарно, в грубом наброске могли передать таежнику начальное представление о существе проблемы.
Лукьянов разглаживал бородку, щурил глаза, чувствуя, что задал Акимову не простую задачу.
– Ладно, Иван Иваныч, не старайтесь. Все равно ведь эта грамота не для меня. И на том спасибо.
3
Лукьянов разволновался. Встал. Подошел к печке, открыв дверцу, прикурил от лучинки, а когда вернулся, сказал:
– Еще была у меня, Иван Иваныч, одна находка. Что вы про нее скажете?
– А ну-ка, покажите, пожалуйста, покажите. – Акимов почувствовал свое обычное состояние, которое в таких случаях всегда охватывало его. Глаза, уши, сердце – все как бы настораживается, волнующее любопытство заставляет пульс ускорять свои удары. Акимов поднялся и тоже поспешил к печке, чтобы прикурить по способу Лукьянова – от лучинки.
Лукьянов опустился на колени, полез под нары и достал оттуда железный ковш с длинной деревянной рукояткой и поржавевшие щипцы с углублением посередине зажимов.
– Вот, Иван Иваныч, с помощью этого ковша и этих щипцов отливал я пульки. – Лукьянов крутил перед Акимовым ковш и щипцы.
– А где металл брали? Из города привезли? – забирая ковш и щипцы в свои руки, спросил Акимов.
– Здесь нашел, Иван Иваныч.
– Неужели?
– Здесь.
– А пульку не покажете?
– Почему же? В один миг достану. – Лукьянов вытащил из подсумка патронташа круглую пулю, подал ее Акимову.
– Двустволка у меня двенадцатого калибра. Для нее отливал.
Акимов положил на нары ковш и щипцы, принял пульку на вытянутую ладонь и долго встряхивал ее, словно взвешивал. Потом рассматривал пульку на свет и наконец зачем-то поднес ее к ноздрям и нюхал с упоением, может быть, с минуту, если не больше.
– Любопытно. Это очень любопытно, – повторял Акимов, изредка посматривая на Лукьянова, который не спускал с него глаз, с его манипуляций самодельной пулькой. Закончив самое тщательное обследование пули на вес, на цвет, на запах, Акимов сел к столу, пригласил присесть и Лукьянова.
– И попрошу вас, Степан Димитрич, рассказать, где вы нашли руду, из которой сумели выплавить пули, когда нашли? Ну, в общем, все-все на этот счет.
– Охотился я в ту пору, Иван Иваныч, на птицу, по Большой Юксе. Было это в самом начале войны. Проводил своего старшого и затосковал. Так затосковал, что от кручины хоть в петлю полезай. А кручиниться мне нельзя: жена, дети, нужда из всех углов рот разевает. Подался я на охоту. Ну, это все присказка, а сказка впереди, – усмехнулся Лукьянов. – Приметил я в одном месте яр. По верху – сосняк строевой, лесина к лесине. А ниже кромки яра сажени на две, на три – образовалось как бы его предплечье. И такое ровное, гладкое, будто кто-то лопаткой эту площадку выровнял. Давно я приметил, что любят тут проводить время глухари. Оно и понятно: площадка крупным песком усыпана, тут же мелкая галька, а чуть в сторону, у подножия террасы, слой галечника лежит. Глухарь наклюется хвои и ягоды – и сюда за камушками. Иной раз разделываешь глухаря, а у него в зобу целая горсть песка и камней. И вот решил я в этом месте слопец поставить. Припас ружейный всегда у нас тяжеловато было добывать. Да и как ловушка – слопец простое дело. Большого труда не требует. Ну, нарубил я кольев, затесал их, начал ловушку сооружать. Уж не знаю, как это получилось, а только когда потребовалось один колышек закрепить в земле, топор у меня оказался не под рукой. Шарю я это по камушкам рукой, выбираю на ощупь, какой покрупней, чтобы ударить-то посильнее, а сам и смотрю-то вроде куда-то в сторону. Хвать за один камень – он маленький, легкий, отбрасываю. Хвать за другой. Тоже не подходит. Отбрасываю. Вдруг хватаю еще за один камень и чую, что этот тяжел, до того тяжел, что колышек я опустил. Смотрю на камень – ничего особенного, темно-серого цвета, а руку тянет к земле. Величиной камень с ладошку и хоть не совсем плоский, а все-таки скорее плитку напоминает. Кромки закругленные, углов острых нету. Вижу – камень редкий, такие прежде мне не попадались. Ну, оставил я тут свои колья, взял топор и – тюк носком по камню. Смотрю – блестит. Блеск тускловатый, белесый. Еще раз взял камень на руку, покачал его. Ого-го! Тяжелые гирьки. Вот, думаю, чулымские тунгусы-то не зря мне рассказывали, будто в старое время топили они свинец сами, а потом катали из него дробь, пули, рубили картечь. Сказать по правде, долго не верил я этому. Думал – привирают тунгусы. Наш брат, охотник, горазд выдумывать всякую всячину…
– И что же вы сделали дальше? – поторопил рассказчика Акимов.
– Взял я камень на стан. Принес его сюда, в избушку. Запрятал. Не было у меня в тот год с собой никакого струмента. Да к тому же был я тут не один – с артелью. Думал: займусь камнем, подымут меня на смех.
«Смотрите, дескать, Степаха-то Лукьянов чего удумал? Дробь из камней решил делать! Гляди, как бы из дерьма пули не начал катать!» Ну и понеслось бы! Народ у нас, Иван Иваныч, остроязыкий, беспощадный к чудакам… Я-то бы сам вынес любую кличку, а все ж таки – дети у меня. Разве им приятно, если родителю какое-нибудь издевательское имечко ни за понюх табаку прилепят? Стало быть, не тронул я в тот год камень. А в село тоже не принес. Выходили по зимнику, поклажи и так набирается до макушки. Идешь, а тебя мешок за плечами водит из стороны в сторону. На следующий год оказался я на стане один. Артель поднималась на лодке, а я шел по тропе – прямиком. Пока они в пути, решил я с камнем заняться. Ковш и эти щипцы были со мной. Перво-наперво заготовил дров. Из всех деревьев жарче всего горят лиственница и береза. Ну, березы тут дополна, а вот лиственницы – не скажу. Однако нашел и лиственницу. Сухая, крепкая, смолью покрылась. А самое главное – поблизости от избы. Поначалу углей нажег. Потом обложил кострище кирпичами из глины. Ее тут по берегам видимо-невидимо. Ну, раскочегарил костер, так что стоять близко нету мочи, положил этот камень в ковшик и на огонь, на самые уголья. Смотрю, покраснел ковшик, ручки дымятся, а камушек мой лежит себе как ни в чем не бывало. Тут я еще подгреб угольков поближе к ковшику. А ковшик стал уже не красный, не синий, а какой-то голубой-голубой и по краям весь прозрачный, как бутылочная стекляшка. Взглянул я на камушек и вижу – вроде меняться он стал. Почудилось мне, что и запашок появился какой-то совсем другой – не таежный. Жду-пожду, с места ковш не трогаю, а щипцы с пулевой формочкой придвинул поближе. Вижу – камень вроде вспузырился, лопнул, и покатились из него белесые капли. Тут подправил я ковшик, сделал на один край наклон побольше. Потекла белая струйка. Когда скопилось этой жидкости побольше, взял я ковш за рукоятку и вылил в щипцы. Отформовал пульку, взялся за другую, потом за третью. А камень хоть сжался, а все-таки не распадается. Нет, думаю, прибавлю-ка еще жару, заставлю тебя развалиться на мелкие части. Бился долго, а только ничего не достиг. Камень лежит целенький, и металл из него больше не выходит. Вытащил ковшик из огня. Пусть, думаю, остынет. Когда камень остыл, покрутил я его в руках, осмотрел и понял: силы у моего костра было маловато…
– Покажите, Степан Димитрич, этот камушек, – попросил Акимов, все еще не выпуская лукьяновскую пульку из своей руки.
– Не уберег, Иван Иваныч, – смущенно сказал Лукьянов.
– Ах, какая жалость! Как же вы так?
– А вот уж так. Ставил перемет. А стрежь на реке. Надо, думаю, грузило потяжельше сделать, иначе перемет снесет, запутает, потонет стяжка. Хватился, а поблизости никакой тяжести нету. Хоть плачь. Ну и решил поставить этот камень. Думаю – временно, потом заменю. Да ведь не зря говорят, что русский мужик силен задним умом. Запутал я камень в бечевку, запутал хорошо, не выскользнет из гнезда. И все бы ничего, а только заменить сразу не заменил. А бечева-то, язви ее, взяла да подгнила. К тому же, на беду, коряга на удочку села. Ну, начал выбирать, тяну стяжку, перебираю удочки, а тут эта коряга. И так и сяк. Зацепилась – и ни с места. Потянул сильнее. Оборвал уду. «Бог с ней, думаю, как бы камень не оборвать». Только так подумал – и готово! Раз! Коряга всплыла, а грузило оборвалось и пошло на дно. Обругал я сам себя за оплошность, а отступать не захотел. Съездил на стан, привез кошку – якорек такой с загнутыми гвоздями. Привязал на бечеву и давай кидать его на том самом месте, где стяжку вытягивал. Сто раз кинул, если не больше. Пробовал и по плесу шарить. И все зря. Отчаялся, взмок. Нет, что с возу упало, то пропало. Вот так, Иван Иваныч, было дело.
– Жалко, Степан Димитрич! А пульку эту не пожертвуете мне? Исключительно из-за научных целей прошу. Венедикт Петрович будет вам премного благодарен. Все, что вы рассказали, – факт примечательный.
– Берите, Иван Иваныч. Пожалуйста. Разве мне жалко?
– Спасибо вам. Если удачно доберусь до цели, то встречусь с дядюшкой непременно. Будет расспрос вести. Вот я ему и выложу на стол вашу находку, Степан Димитрич.
– Ах, какой человек! Вот возьмите же: благородный, образованный, а какое обхождение с нами, людьми простого звания? Как подумаю о своей жизни, Иван Иваныч, вспомню все прожитое, лучше той поры, когда с Венедиктом Петровичем по рекам ходил, не припоминаю. Да, была пора! Почтение ему от всех нас, мужиков, передавайте. Может быть, и не забыл еще. Ну и скажите попутно, что многих война унесла, будь она трижды проклята…
Голос Лукьянова дрогнул, он замолчал, опустив голову.
– Все исполню, Степан Димитрич. Не беспокойтесь.
Если, конечно, суждено мне дойти до цели.
– Бог милостив, Иван Иваныч. Дойдете.
– Бог-то милостив, Степан Димитрич, да жандармы сильно уж недреманные стали.
– А я увидел вас и в первые минуты растерялся. Вы ли, думаю? Не обмишулился ли? А вот подумал про себя, поговорил с вами и скажу вам чистосердечно, Иван Иваныч, не удивляюсь, что это вы… – Лукьянов пытался найти подходящие слова, но их мучительно ему не хватало.
– Что я бегу из ссылки, что я против войны и царского самодержавия… – подсказал Акимов.
– Вот-вот, – подтвердил Лукьянов.
– Да ведь, если сказать честно, Степан Димитрич, и у меня такое же чувство. Увидел вас, удивился. Экая неожиданная встреча! А вот поговорил с вами, подумал, и получается вроде, что ничего в этом неестественного нет. Сама жизнь свела, как она сводила уже нас на Оби и на Кети тогда…
– Ах, Иван Иваныч, – вздохнул Лукьянов и вскинул голову. – Жизнь… Хитрая она, эта жизнь… Грызет меня тоска по какой-то другой жизни… Спросите: по какой? Не смогу сказать… Да меня ли одного? Каждого… почти каждого… Летом в знойную пору бывают такие дни, когда вдруг чуешь: дышать нечем, заходится сердце, рвется из груди. И только и смотришь на небо: не надвинулась ли тучка, не приближается ли гроза… Вот так и живут сейчас люди. В изнеможении. В ожидании. Ну что ж, Иван Иваныч, как, вы готовы, нет? Пора двигаться. До ночевки далеко.
– Пошли, Степан Димитрич. Пульку вашу запрячу в кисет. А вот как рыбу, прихватим с собой?
– Возьмем. Придем на ночевку со своей едой.
– А вы не устали, Степан Димитрич? Я-то и вчера полдня отдыхал и ночь спал.
– Потерплю! Идти-то все-таки надо! По расписанию, даденному мне, послезавтра должен я вас доставить на заимку Окентия Свободного.
– Окентия да еще Свободного. Звучит и загадочно и заманчиво, – рассмеялся Акимов.
– Именно так, Иван Иваныч.
4
Акимов смотрел Лукьянову в спину, невольно думал: «Верно говорится, что у каждого человека – своя походка, как и свой почерк, как и свои извилины на ладонях». По манере ходьбы Лукьянов не напоминал ни Федота Федотовича, ни Полю, ни тем более тунгуса Николку. Ни с кем так легко не передвигался Акимов, как со Степаном Лукьяновым. И все потому, что никто из прежних проводников не умел так пользоваться местностью, находить в ней преимущества для себя, как это делал Лукьянов.
Яры, холмы, крутые лога Лукьянов старался оставлять в стороне. За весь день ходьбы они ни разу не поднялись в гору. Наоборот, у Акимова было такое впечатление, что они все время катятся под уклон. Он сказал об этом Лукьянову.
– Нет, Иван Иваныч, сами знаете по картам, что идем вверх. Чем ближе к Томску, тем местность выше. А кажется вам так потому, что от прямых подъемов я уклоняюсь. Лучше пройди десять – двадцать верст больше под уклон, чем три-четыре версты подниматься. Подъемы изматывают ходока. Начинается одышка, дрожание в ногах…
– Столько прошли, а я ничуть не устал. Все катимся и катимся самоходом.
– Будет скоро и подъем. Обходить его невыгодно. Большой крюк. А тут мы попадем прямо к избе. Ходу осталось не больше часа. Засветло ужин из вашей рыбы сварганим.
– Опять ваш стан?
– Знакомого моего. Из Старой Кусковы. Имеет фамилию Зайцев. Тут по берегам луга кусковских мужиков. Рядом со Старой Кусковой большое село Ново-Кускова.
– Чулым впереди? – спросил Акимов, увидев неподалеку извилистую полосу, окаймленную красноталом и топольником, слегка присыпанным снегом.
– Чулым. Многоводная река, Иван Иваныч, рыбная. И больше чем на тысячу верст судоходная. По большой-то воде чуть не до Ачинска суда могут плавать.
– Рыбачили здесь?
– Как же, рыбачил. А знаю реку не только по рыбалке. Ходил по ней с устья и почти до верховий с экспедицией путей сообщения. Шишков Вячеслав Яковлевич, техник, водил артель. Хороший человек, не забыть. Он тоже вроде из тех же мест, что и вы.
– Встречать не доводилось.
– Белый свет велик.
Лукьянов пригасил скорость, и Акимов понял, что вот-вот они остановятся на ночевку. К вечеру стало подмораживать, серое, непроглядное небо по горизонту посветлело, снег под лыжами поскрипывал и посвистывал сильнее, чем днем. Пересекли закованный льдом Чулым и вошли в прибрежный лес. Вдруг откуда-то издали послышался говор людей. По сплетению голосов, по эху, которое чутко подхватывало все звуки и разносило их по лесу с мощным отзвуком, было ясно, что разговаривают не два, не три человека, а толпа.
– Что за светопреставление? – оглядываясь, сказал Лукьянов. – И смотрите, печку растопили, видать, уходить не собираются.
Акимов уже заметил, что труба избы как бы фонтанирует клубками светло-сизого дыма, прошитого непрерывными струйками огненных искр.
– Как поступим дальше, Степан Димитрич? – спросил Акимов.
– Вы оставайтесь здесь, а я пойду узнаю, что за сходка. Тогда и сообразим.
– А не лучше ли обойти сразу, Степан Димитрич?
– Ночевок поблизости нету, Иван Иваныч. До Кусковой – и до Новой и до Старой – к полночи можно добраться, но, по правде сказать, не хотелось бы. Урядник там проживает. Назначен еще осенью четырнадцатого года. А до Окентия сил у нас не хватит добрести без отдыха.
– Идите. Я буду ждать.
– Пойду. Уж если они не покинут избу на ночь, не уйдут в деревню и выхода не будет, изображу вас моим городским связчиком. Приотстал, мол, немножко. Вот-вот подойдет.
– Что ж, давайте. А зовите меня в таком случае Гаврилой.
– Гаврил Гаврилычем. Техник опять же по путям сообщения. Летом, дескать, экспедиция пойдет. Смотрели, что и как. Все тут знают по Чулыму, что я с Шишковым ходил.
– Подходит, Степан Димитрич. Идите.
Лукьянов ушел. Акимов слегка отступил от колеи, проложенной лыжами Лукьянова, встал за толстый, в два обхвата, тополь, прислушивался. Вот говор смолк, притихло эхо, и Акимов понял, что Лукьянов подошел к избе и здоровается с мужиками.
Прошло, пожалуй, не меньше получаса, когда Акимов услышал скрип снега и между стволов сухих тополей замелькала фигура Лукьянова.
– Ну и потеха же, Иван Иваныч, – весело заговорил Лукьянов. – И смех и грех. Мужики кусковские. Третий день скрываются здесь от полицейского наряда. И сам Иван Егорыч Зайцев тут же. По Чулыму он знаменитый рыбак, хозяин этой избы.
– И много их, мужиков-то?
– Да целых семнадцать! – рассмеялся Лукьянов. – Все не входят в избу, спят по очереди. Охотничают, рыбачат.
– А в чем дело? Что у них произошло?
– А произошло вот что, Иван Иваныч. В Дороховой солдатки самовольно вскрыли казенный амбар с хлебом и поделили его. Ну, вызвали солдат для расправы из Томска. А только над кем расправу-то будешь учинять? Пока солдаты ехали, бабы так хлеб попрятали, что как те ни искали, ни одного зернышка не нашли. А самое главное, спрашивать не с кого. Ну, сельского старосту арестовали, увезли в город. Судить будут по закону военного времени. Видимо, дадут мужику каторгу. А пример-то заразительный. На днях пытались будто захватить хлебный амбар и в Ворониной Пашне. Начальство-то и затревожилось не на шутку. Поступил приказ: сколотить из не призванных в армию мужиков и уволенных по ранению солдат команды и назначить по селам на охрану хлебных амбаров. А их тут много: в Пышкиной Троице, в Казанке, в Митрофановке, в Малой Жирове… Амбары все военного ведомства. Вот мужики-то и всполошились. В бега, значит, ударились. Хотят пересидеть здесь тревогу. И так скажу вам: правильно всполошились. Ехать в чужие села для такой службы только самый последний подлец согласится. Незавидная работенка! Да и не безопасная. Могут ведь такой охране и голову свернуть. Видали, какая забавная история приключилась?!
Лукьянову явно был по сердцу поступок кусковских мужиков, решивших оказать полицейским властям сопротивление. Он рассказывал обо всем бодрым голосом и с довольным смешком.
Акимов слушал Лукьянова и думал про себя: «Уж это ли не свидетельство роста антивоенных настроений?! И где? В самой глубине Сибири, в таежной глухомани. Тут, возможно, люди ни одного большевистского слова не слышали, а действуют прямо по-большевистски. Прав Ленин, тысячу раз прав, когда он утверждает, что нашим идеям сама действительность будет расчищать путь».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































