Текст книги "Политические сочинения. Том V. Этика общественной жизни"
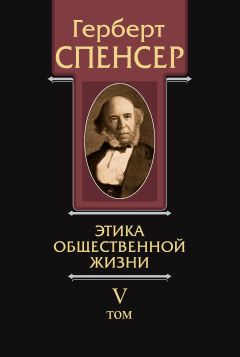
Автор книги: Герберт Спенсер
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
VI
Формула справедливости
§ 272. Мы проследили развитие справедливости в ее простейшей форме, рассматриваемой объективно как условие сохранения жизни. Мы видели, что справедливость характеризуется новыми факторами, когда жизнь становится стадною или общественною, особенно у человека. Соответственные субъективные последствия – чувство и идея справедливости, как было показано, возникают от привычки к общественному состоянию. Теперь мы подготовлены к определенному выводу: нам стоит только найти точное выражение для компромисса, описанного в последней главе.
Наша формула должна соединить положительный элемент с отрицательным. Она должна быть положительною, насколько в ней утверждается относительно каждой личности, что ей следует предоставить возможность действовать, так как каждый должен испытать добро и зло, вытекающее из его действий. Формула должна быть отрицательною, насколько в ней подразумевается, что каждому следует дозволить действовать не иначе как при ограничениях, возлагаемых на него присутствием других лиц, имеющих такие же притязания на деятельность. Очевидно, положительный элемент выражает собою требование, составляющее условие жизни вообще; отрицательный элемент ограничивает это требование таким способом, какой необходим в том случае, если вместо отшельнической жизни мы видим много жизней, протекающих в сообществе.
Поэтому речь идет о точном определении ограничения, испытываемого свободою каждого исключительно от подобного же рода свободы всех. Это можно выразить так: каждый свободен делать все что хочет, предполагая, что он не нарушает такой же свободы кого бы то ни было другого.
§ 273. Необходимо предостеречь от возможного ошибочного понимания этих слов. Существуют насильственные действия, которые, как следует думать, эта формула стремилась исключить, но, по-видимому, не исключила. Можно сказать, что если А ударит Б, то пока Б не встречает помехи ударить, в свою очередь, А, ни один из двух не имеет притязания на более значительную свободу действий; или если А совершил насилие над собственностью Б, то требования формулы не нарушены, пока Б, в свою очередь, может захватить собственность А. Такие истолкования, однако, указывают на непонимание существенного смысла формулы, и для раскрытия его достаточно оглянуться назад на ее происхождение.
Действительно, истина, которую здесь надо выразить, состоит в следующем. Каждый, выполняя те действия, которые составляют его жизнь в данное время и приводят к поддержке его жизни на будущее время, не должен встречать помехи далее той, которая зависит от выполнения подобных же действий другими, для поддержания их жизни. Сюда не включается, однако, излишнее вмешательство в чужую жизнь, основанное на том, что такое же вмешательство с обратной стороны может явиться противовесом первому. Такое преобразование формулы потребует более значительных вычетов из жизни всех и каждого, чем сколько по необходимости требуется в силу общественного состояния; а это очевидно является извращением смысла формулы.
Если мы вспомним, что наибольшая сумма счастья хотя и не является непосредственною целью, составляет тем не менее отдаленную цель, то ясно увидим, что сфера, в которой каждый может добиваться счастья, имеет предел; по ту сторону его находятся подобным же образом ограниченные сферы деятельности его соседей, и каждый не имеет права вторгаться в сферу соседа, под условием взаимности. Вместо того чтобы оправдывать насилие и обратное насилие, формула эта имеет целью назначить предел, который не может быть перейден ни с той, ни с другой стороны.
§ 274. Здесь по поводу этого ложного понимания и приведенной поправки поучительное пояснение доставляется фактами социального прогресса. Факты эти показывают, что насколько дело касается справедливости, прогресс состоял в переходе от неправильного истолкования к правильному. В ранних стадиях мы видим обычное насилие и обратное насилие – то между обществами, то между отдельными лицами. Соседние племена сражаются за границы территорий, нарушая их то с одной, то с другой стороны; дальнейшие стычки причиняются требованием, чтобы урон, нанесенный с одной стороны, потерпел возмездие посредством таких же убийств. В подобных актах мести и обратного возмездия обнаруживается смутное признание равенства притязаний. Отсюда является стремление к признанию определенных границ, как относительно территории, так и относительно кровопролития, так что в некоторых случаях поддерживается равновесие между числом смертей с каждой стороны.
Наряду с ростом этого понятия о междуплеменной справедливости возрастает также понятие о справедливости между членами каждого племени. Сначала страх возмездия внушает уважение в той мере, как это возможно, к личности и имуществу других. Идея справедливости является идеей уравновешения обид: «око за око и зуб за зуб». Такою она остается в течение ранних стадий цивилизации. После того как справедливость, при таком понимании ее, более не поддерживается силою самим оскорбленным лицом, это последнее начинает требовать удовлетворения при посредстве установленной власти. Вопль о правосудии, обращенный к правителю, есть требование наказания, т. е. нанесения обиды, по крайней мере столько же тяжелой, как и испытанная; или же здесь требуется вознаграждение, равносильное потере. Таким образом, равенство притязаний лишь молчаливо утверждается в требовании возможного восстановления нарушенного равенства.
Каким образом постепенно из этого грубого понятия о справедливости возникает развитое понятие, это едва ли надо объяснять. Истинное представление причиняется испытыванием бедствий, сопровождающих ложное представление. Естественным образом восприятие правильных ограничений поведения становится более ясным, по мере того как уважение к этим ограничениям становится принудительным и, таким образом, более правильным и более общим. Вторжения людей во взаимные сферы образуют род колебания, сначала бурного, но становящегося все более слабым по мере перехода к сравнительно мирному общественному состоянию. По мере убывания колебаний является приближение к состоянию равновесия, а по мере приближения к такому равновесию является и приближение к окончательному установлению теории.
Таким образом, та первобытная идея справедливости, по которой насилие должно уравновешиваться обратным насилием, исчезает из мысли, как только оно исчезло из практического применения, и возникает идея, здесь формулированная, причем в ней признаются такие ограничения поведения, которые совсем исключают насилие.
Примечание. В приложении А (в конце книги) см. о взглядах Канта, относящихся к основному принципу права.
VII
Авторитет этой формулы
§ 275. Прежде чем идти дальше, мы должны рассмотреть эту формулу со всех ее сторон с целью увидеть, что может быть сказано как против нее, так и в ее пользу.
Люди, воспитанные под влиянием школы, господствующей в области политики и морали, выказывают настоящее пренебрежение ко всякому учению, подразумевающему ограничение поступков, непосредственно полезных или кажущихся такими. Наряду с признанным презрением к «отвлеченным принципам» и обобщениям, мы видим неограниченную веру в пестрое собрание кандидатов, намеченных политическими клубами, которыми верховодят невежественные и фанатичные заправилы; и признается невыносимым, чтобы суждения таких сборищ в каком бы то ни было отношении должны были подчиняться дедукциям, выведенным из этических истин.
Странным образом, также и в мире науки мы находим одобрение политического эмпиризма и недоверие ко всякому иному руководству. Хотя чертою научного духа является признание причинности как всеобщего начала и хотя этим подразумевается молчаливое допущение, что причинность применяется и к поступкам людей, образующих политическую группу, – все же это допущение остается мертвою буквою. Очевиден факт, что если бы в общественных делах не было причинности, то всякий образ действия был бы одинаково хорош; не менее очевидно, что отвергать это последнее предположение значит утверждать, что некоторая причина определяет полезность или вредность той или иной политики; тем не менее не делают ни малейшего усилия для отожествления обоих родов причинности. Наоборот, насмехаются над людьми, пытающимися найти определенное выражение для основного принципа гармонического социального порядка. Различия между взглядами таких людей преувеличиваются, а черты сходства умаляются, точно так же как люди, придерживающиеся обычных верований, преувеличивают разногласия между людьми науки, забывая о существенном согласии.
Явно, таким образом, что прежде чем идти далее, мы должны посчитаться с важнейшими возражениями, выставленными против формулы, выработанной в последней главе.
§ 276. Всякого рода эволюция подвигается от неопределенного к определенному; одно из вытекающих отсюда следствий состоит в том, что определенное понятие о справедливости возникло лишь постепенно. Было уже показано, что приближение к практическому признанию справедливости подразумевает соответственное приближение к теоретическому ее признанию. Желательно здесь ближе присмотреться к возрастанию того сознания, что деятельности, совершаемые каждым ради самосохранения, должны сдерживаться подобными же деятельностями всех других.
Сначала отметим один факт, который можно было бы с удобством привести и в конце последней главы, а именно что где люди подвержены только дисциплине мирной общественной жизни, не встречающей помехи со стороны дисциплины, вызываемой междуплеменною враждою, там сознание развивается быстро. Вполне мирные племена, в том числе некоторые нецивилизованные в обыкновенном смысле слова, выказывают понимание того, что составляет справедливость, гораздо яснее, чем цивилизованные народы, у которых нравы промышленной жизни более или менее широко ограничиваются нравами военной жизни. Дружелюбный и совестливый лепча, пока не идет речь об опасности быть самому убитым, решительно отказывается помогать в убиении других; наделенный социальными добродетелями гос может быть доведен почти до самоубийства подозрением в том, что он совершил кражу; низко стоящий лесной ведда едва может счесть возможным, чтобы один человек добровольно был способен ударить другого или взять чужое; эти и многие другие племена показывают, что хотя у них нет достаточно ума, чтобы выработать понятие об основном общественном законе, однако существует сильное чувство, соответствующее этому закону, и есть понимание специальных применений последнего. Где условия таковы, что не требуют, чтобы уважение к притязаниям соплеменников шло рука об руку с частым нарушением притязаний людей других племен, там у каждой особи одновременно возникает уважение к ее собственным и к чужим притязаниям.
Лишь там, где этика дружбы смешивается с этикой вражды, понятия относительно поведения становятся сбивчивыми вследствие необходимости компромисса. Привычка к насилию вне своего общества находится в противоречии с привычкой не совершать насилий внутри общества, а также с признанием закона, подразумеваемого отсутствием насилия. Народ, придающий своим воинам смягченное название «защитников отечества», в то же время пользуется ими исключительно для нападения на другие страны; он настолько ценит жизнь, что на своей территории запрещает кулачные бои на приз, но вне своих границ часто отнимает десятки жизней, чтобы отомстить за одну; он не может у себя дома вынести мысли, чтобы слабость влекла за собою неизбежное зло, но на чужбине нисколько не стесняется применять пулю и штык, сколько потребуется для покорения нецивилизованных рас, под предлогом, что низшие должны быть вытеснены высшими. Такой народ должен иметь извращенные понятия об основных началах добра и зла. Провозглашая кодекс, то пригодный для внутренней политики, то приспособленный для внешней политики, он не может поддерживать связных этических идей.
Целый ряд столкновений между расами населил земной шар сильнейшими и был предварительной ступенью к высокой цивилизации; но отсюда возникли несогласующиеся между собою деятельности, приводящие к негармонирующим убеждениям, тогда как связные убеждения стали невозможными.
Тем не менее, где это дозволялось обстоятельствами, понятие о справедливости медленно развивалось до некоторой степени и нашло для себя приблизительно верные выражения. В еврейских заповедях мы видим запрещения, хотя и не прямо признающие положительный элемент справедливости, однако подробно указывающие ее отрицательный элемент, обозначая пределы действия и предписывая эти пределы всем евреям, причем молчаливо утверждается, что жизнь, собственность, доброе имя и т. д. должны быть уважаемы у всех и каждого. Христианское правило: «Делай другому то, что ты себе желаешь от других», не проводящее различия между великодушием и справедливостью, смутно подразумевает равенство притязаний всех людей; правда, очень смутно, так как это правило не признает никакого основания для неравенства благ, принадлежащих каждому человеку. В правиле этом нет прямого признания какого-либо притязания, предъявляемого каждым на плоды собственной деятельности: здесь есть лишь признание таких притязаний в лице других людей, а отсюда вытекает предписание границ. Оставим в стороне промежуточные формы понятия о справедливости и приведем из новейших форм ту, которая выработана мыслью Канта. Его правило: «Действуй лишь по тому правилу, которое ты желал бы сделать всеобщим законом» – есть, в сущности, лишь переделка христианского правила. Здесь внушается мысль, что каждый другой человек должен считаться действующим таким же образом, и молчаливо подразумевается, что если действие может причинить страдание, оно не должно быть выполнено. (Канта причисляют к антиутилитаристам!) Косвенным образом здесь допускается, что благополучие других людей должно быть признаваемо равным по достоинству с благополучием действующего лица, – предположение, хотя и включающее требования справедливости, но в то же время вмещающее в себе и гораздо больше этого.
Но теперь оставим в стороне убеждения людей, рассматривавших вопрос с религиозной и с нравственной точки зрения, и рассмотрим убеждения тех, которые приступали к вопросу с точки зрения законности.
§ 277. Конечно, когда юристы выставляют свои основные начала или же апеллируют к ним, то подразумеваются основные начала справедливости, хотя бы самое слово «справедливость» и не употреблялось; действительно, правила справедливости, общие и частные, составляют главный предмет их трудов. Заметив это, обратимся к учениям, порою высказываемым ими.
Сэр Генри Мэн, говоря об известных опасностях, угрожавших развитию римского закона, поясняет: «Но во всяком случае юристы пользовались надежной опорой в своей теории естественного права. Действительно, естественное право юрисконсультов ясно понималось ими как система, которая постепенно должна поглотить гражданские законы, не вытесняя их, пока они остаются неотмененными… Значение и пригодность этого понятия зависели от того, что оно представляло умственному взору тип совершенного закона и внушало надежду на неопределенное приближение к нему» («Древнее право», с. 76–77. 3-е изд. английск. подлин.).
В духе этих римских юристов один из наших старинных судей, главный судья Гобарт, пользовавшийся высокою репутациею, высказал следующее красноречивое утверждение: «Даже парламентский акт, направленный против естественной справедливости, – вроде того, чтобы сделать какого-либо человека судьею в его собственном деле, лишен всякой силы, потому что jura naturae sunt immutabilia (естественные права неизменны) и они leges legum (законы законов)» (Hobart’s Reports, Lond., 1641, p. 120).
To же утверждал крупный авторитет недавнего прошлого. Находясь под влиянием убеждения, что естественные вещи повелеваются сверхъестественным путем, Блэкстон писал: «Этот закон природы так же стар, как и человечество, и продиктован самим Богом. Поэтому он, конечно, выше по своей обязательности, чем всякий другой… Никакие человеческие законы не имеют никакой силы, если противоречат этому закону, а имеющие силу приобретают весь свой авторитет, прямо или косвенно, из этого источника» (Chitty’s Blackstone, Vol. I, pp. 37–38).
Подобного же рода и другое утверждение, высказанное автором, исследовавшим законодательство с философской точки зрения. Сэр Джемс Мэкинтош определяет естественное право таким образом: «Это верховное, неизменное и не контролируемое правило поведения всех людей… Это естественное право или „закон природы“, потому что его общие положения существенно приспособлены к увеличению счастия человека… далее, потому что этот закон открывается естественным разумом и приличен нашей естественной организации; и сверх того – потому, что его пригодность и мудрость основаны на общей природе человеческих существ, а не на каких-либо из тех временных и случайных положений, в какие они могут быть поставлены» (Mackintosh’s Miscell. Works, I, 346).
Даже деспотически настроенный Остин (Austin), перед которым идолопоклонствуют законники наших дней за то, что он выработал теорию неограниченной законодательной власти, вынужден сознаться, что конечным оправданием защищаемого им правительственного абсолютизма является этическое начало. Под покровом авторитета – монархического, олигархического или же парламентского, – издающего законы, признаваемые верховными, наконец, распознается авторитет, которому все они подвластны, стало быть, авторитет, не происшедший от человеческого закона, но стоящий выше него, – авторитет, приписываемый если не божественной деятельности, то природе вещей.
Воздавание должного этим изречениям (к ним я мог бы присоединить афоризмы германских юристов с их естественным правом) не влечет за собою неразумного легковерия. Можно разумно предположить, что хотя по форме такие утверждения доступны критике, они все же истинны по существу.
§ 278. «Но ведь это априорные мнения», – презрительно заметят многие. «Все они служат примером того дурного способа философствовать, который состоит в развитии истин из глубины нашего собственного сознания» – так скажут лица, полагающие, что общие истины достижимы только посредством сознательной индукции. Всякое движение ритмично: любопытным подтверждением этого является тот факт, что абсолютное доверие, которое питали в прежние времена к априорному суждению, уступило место абсолютному недоверию; теперь ничего не хотят допустить, чего нельзя достичь aposteriori. Каждый, кто способен созерцать среднее движение человеческого прогресса, может счесть почти достоверным, что за этой сильной реакцией последует обратная реакция; а отсюда можно заключить, что оба эти противоложныеспособа рассуждения, представляя возможность злоупотребления, в то же время имеют и полезное применение.
Откуда являются априорные убеждения? Каким образом они возникают? Я, разумеется, не сошлюсь на убеждения, свойственные отдельным личностям и могущие быть результатами извращенного суждения. Я говорю об убеждениях, имеющих общий, если не всеобщий характер – признаваемых всеми или почти всеми, хотя и не основанными на очевидности, но все же достоверными. Происхождение таких убеждений либо естественно, либо сверхъестественно. Допустим последнее: тогда или необходимо принять взгляд людей, верующих в дьявольское наваждение, или же следует признать, что эти убеждения внушены свыше, – в последнем случае на них можно положиться. Если же, не удовлетворясь таким сверхъестественным источником, мы спросим, каково их естественное происхождение, то придется заключить, что эти способы мышления определены привычными соотношениями между вещами. Кто следует обычной вере в благих и злых деятелей, может не без основания отрицать значение априорных убеждений; но тот, кто допускает учение об эволюции, если желает избежать противоречия, должен допустить, что априорные убеждения, поддерживаемые вообще людьми, должны были возникнуть если не из опыта каждой особи, то из расового опыта. Возьмем в виде примера геометрическое положение, что две прямые линии не могут замкнуть пространства; допустим (а это и следует сделать), что такая истина не может быть установлена апостериорно: действительно, ни в одном случае, а тем менее во многих случаях нельзя проследить линий до бесконечности для наблюдения, что произойдет с заключенным между ними пространством. Но отсюда неизбежно вытекает следующее: опыт людей относительно прямых линий (или, скорее, в первобытные времена относительно приблизительно прямых объектов) был такого рода, что сделал невозможным представление пространства, замкнутого двумя прямыми. Другими словами, опыт был таков, что сделал для людей принудительною мысль о сгибании линий, прежде чем пространство будет ими замкнуто. Бесспорно, по гипотезе эволюции, что эта прочная интуиция должна была установиться тем общением с предметами, которые в течение чудовищно продолжительных прошлых эпох прямо или косвенно определили организацию нервной системы и известные вытекающие отсюда необходимые формы (necessities) мышления. Априорные убеждения, определяемые этими необходимыми формами, отличаются от апостериорных убеждений только тем, что являются продуктами опыта бесчисленных последовательных особей, а не одной только особи.
Итак, если с эволюционной точки зрения это несомненно оправдывается для простых познаний, касающихся пространства, времени и числа, то разве не следует отсюда вывести, что это справедливо также, в широкой степени, для тех более сложных познаний, которые касаются человеческих отношений? Говорю «в широкой степени» – частью потому, что опыт в этих случаях гораздо более запутан, поверхностен и разнообразен, и не мог произвести ничего, вроде определенных влияний на нервную организацию; частью же потому, что, вместо того чтобы восходить через бесчисленный ряд поколений к отдаленнейшим предкам, этот опыт восходит не далее части поколений собственно человеческих предков. Действительно, этот опыт, едва наблюдаемый в более древние стадии, становится заметным и связным, лишь когда дружественное общественное сотрудничество образует существенный фактор общественной жизни. Поэтому такого рода познания должны быть сравнительно неопределенными; необходимо поэтому сделать то ограничение, что такие этические интуиции в гораздо большей степени, нежели математические, должны быть подвергнуты методической критике. Даже суждения, проистекающие из непосредственного восприятия, относящегося к прямым и кривым линиям, к углам и т. д., должны быть проверяемы способами, указываемыми сознательным разумом: перпендикулярность одной линии к другой воспринимается с приблизительной точностью, но полная перпендикулярность может быть установлена только с помощью геометрических теорем. Очевидно, стало быть, что сравнительно смутные внутренние восприятия, которыми люди обладают относительно справедливых человеческих отношений, не могут быть приняты без обдуманных сравнений, строгих перекрестных исследований и тщательной проверки; вывод становится очевидным при помощи многочисленных маловажных противоречий, сопровождающих более важные утверждения.
Таким образом, если даже предыдущие положения, а вместе с ними и недавно формулированный закон равной свободы не имели бы никакого иного источника, кроме априорного (а это далеко не так), то и в этом случае все же было бы рационально признавать их по крайней мере за намеки на истину, если не за истину в буквальном смысле слова.
§ 279. Но теперь заметьте, каким образом люди, восстающие в данном случае против систем, исходящих из априорной интуиции, в свою очередь, сами могут подвергнуться более существенному упреку.
В философии, в политике, в науке – всюду мы видим, что индуктивная школа, под влиянием сильной реакции против дедуктивной школы, дошла до крайности, утверждая, что сознательная индукция оказывается достаточною для всех целей и что нет необходимости признать что бы то ни было за данное. Доказательство допускаемой истины состоит в том, что ее включают в некоторую более широко установленную истину; если же и эта последняя допускает сомнение, то процесс повторяют, доказывая, что и эта истина включается в третью, еще более широкую. Во всех этих случаях, однако, многие молчаливо допускают, что такой процесс может продолжаться без конца, никогда не достигнув самой широкой истины, которой уже нельзя включить ни в какую иную, а стало быть, нельзя и доказать. Результатом такого нерассудительного допущения является построение теорий, которые, если только они действительно лишены априорных основ, не имеют вообще никакого основания. Это мы и увидим, рассматривая утилитарные этические и политические теории[5]5
Есть люди, не только уклоняющиеся допустить необходимость каких-либо истин, но отвергающие и самую необходимость. Очевидно, они не сознают того факта, что в рассуждении каждый шаг от посылок к выводу не имеет никакого иного основания, исключая восприятия необходимой зависимости. Стало быть, отвергать необходимость значит отвергать значение каждого довода, включая и тот, который имеет целью доказать отсутствие необходимости! Недавно я прочитал заметку о странном воскрешении одного учения, считавшегося давно погибшим. Бесспорно, факт замечательный, если только он истинный. Мне известна лишь одна, еще более замечательная вещь, а именно что никакая система мышления не прогуливается в самом бодром настроении духа после самоубийства!
[Закрыть].
Действительно, что такое, в конце концов, означает принцип пользы? Если вам предлагают руководиться эмпирическими правилами, то в каком направлении должны мы направлять свои действия? Если наш путь всегда должен быть определяем достоинством данного дела, то спрашивается, какими способами судить о достоинстве? Ответ будет тот, что следует руководиться «благополучием общества или общественным благом». Не скажут, что достоинство подразумевает увеличение бедствий или равнодушия, идет ли речь об ощущениях или об эмоциях; стало быть, речь идет об увеличении счастья. Итак, если не прямо, то скрытно утверждают, что величайшее счастье есть та вещь, к которой должны стремиться в общественной деятельности, или в частной, или и в той и в другой. Но откуда взялся этот постулат? Что это – индуктивная истина? Если так, то где и кто извлек ее? Или это опытная истина, выведенная из тщательных наблюдений? В таком случае каковы эти наблюдения и когда была обобщена та обширная масса их, на которой следует соорудить все здание политики и морали? Не только нет таких опытов, таких наблюдений, такой индукции, но невозможно, чтобы что-либо подобное было указано. Даже если бы эта индукция была всеобщею, чего нельзя сказать (так как ее отвергали аскеты всех времен и стран, и она отвергается одною новейшею школою моралистов), то все же мы не имели бы никакой лучшей гарантии, чем та, что это положение непосредственно усматривается нашим сознанием.
Но можно доказать большее. Здесь включено еще одно убеждение, не менее априорного характера. Я уже ссылался на правило Бентама: «Каждый признается за одного, никто более чем за одного»; вместе с тем было указано и замечание Милля, что принцип наибольшего счастья лишен смысла, пока «счастье одного лица не признается точно таким же, как и другого». Стало быть, бентамовская теория морали и политики признает это за основную, самоочевидную истину. Это молчаливое допущение – что притязания одного человека на счастье так же хороши, как и другого, – недавно было выражено в более конкретной форме Беллами, в следующих словах: «Мир и все в нем заключающееся рано или поздно будут признаны общей собственностью всех, и ими будут пользоваться и распоряжаться для равного блага всех».
Итак, имеем ли мы дело с самим Бентамом, или с его истолкователем Миллем, или же с учеником коммунистического направления – во всех случаях находим допущение, что все люди имеют равные права на счастье. В пользу этого допущения не приводится, да и не может быть приведено никакой гарантии, исключая предполагаемого интуитивного восприятия. Это, стало быть, априорное познание.
«Но это не познание в настоящем смысле слова», – быть может, заявят люди, желающие отвергнуть коммунистический вывод, в то же время желая отвергнуть и априорное рассуждение. «Это лишь продукт извращенной фантазии. Счастье само по себе не может быть уделено ни в равных, ни в неравных долях, а величайшее счастье не может быть добыто равным распределением средств счастья или благ, как они названы выше. Оно скорее может быть добыто уделением большей доли средств людям, более способным к счастью». Не возбуждая вопроса о применимости такого распределения, зададимся попросту вопросом: где гарантия для такого утверждения? Что это – индуктивная гарантия? Сделал ли кто-либо ряд сравнений между обществами, где применялся один способ наделения благами, и обществами, где был применяем другой способ? Едва ли так, если принять во внимание, что ни тот, ни другой метод не применялся ни в каком обществе. В пользу этой альтернативы есть не более фактов, чем в пользу отвергаемого предположения. Если оно не опирается на некоторую априорную гарантию, то у него нет никакой гарантии.
Посмотрите теперь, в каком мы положении. В то время как порицаемые предположения, как говорят, основываются лишь на непосредственной интуиции, эмпирическая система делает большее количество таких же предположений, нежели система, ею оспариваемая! Одно из этих предположений заключается в том, что счастье должно было бы быть искомою целью; другое подразумевается в любом из обоих утверждений, что люди имеют равные права на счастье или же не имеют равных прав. Заметьте также, что ни одна из этих интуиций не оправдывается таким широким согласием людей, как та, которая отбрасывается под предлогом ее неправдоподобия. Генри Мэн замечает: «Счастье человечества, без сомнения, порою упоминается как в популярной, так и в юридической литературе римлян в виде надлежащей цели попечительного законодательства; но весьма замечательно, как редки и ничтожны свидетельства в пользу этого принципа, по сравнению с теми, которые постоянно приводятся в пользу повелительных требований естественного права» («Древнее право», с. 79 третьего английского издания).
Едва ли стоит добавить, что после римской эпохи по-прежнему существовал контраст между узким признанием счастья как цели и широким признанием естественной справедливости как цели.
§ 280. Но теперь следует припомнить, что принцип естественной справедливости, выраженный в последней главе как ограничение свободы каждого лишь одинаковою свободою всех, – этот принцип не есть исключительно априорное убеждение. Хотя с одной точки зрения он является непосредственным предписанием человеческого сознания, подверженного дисциплине продолжительной общественной жизни, с другой стороны, он является убеждением, выводимым из условий, которые должны быть выполнены, во-первых, для поддержания жизни вообще, а во-вторых, для поддержания жизни в обществе.
Исследование фактов показало, что основной закон, сообразно с которым развивалась жизнь от наинизшей до наивысшей ступени, состоит в том, что каждая взрослая особь должна испытать последствия своей собственной природы и своих действий: результатом является переживание наиболее приспособленных. Этим необходимо подразумевается полная свобода действий, образующая положительный элемент в формуле справедливости; действительно, без полной свободы действия отношение между поведением и последствиями не может быть поддерживаемо. Различные примеры сделали очевидным вывод, вполне ясный теоретически, а именно что у стадных животных свобода каждого из них к действию должна быть ограничена, так как если она не ограничена, то должны явиться такие столкновения, которые воспрепятствуют стадности. Несмотря на сравнительно низкое умственное развитие, низшие стадные животные применяют наказания за нарушение необходимых ограничений. Этот факт показывает, каким образом уважение к таким ограничениям установилось бессознательно как условие прочной общественной жизни. Оба эти закона, из которых один относится ко всем живым существам, а другой – к общественным, проявляясь все явственнее по мере повышения эволюции, находят последнюю и полнейшую сферу применения в человеческих обществах. Мы недавно видели, что наряду с возрастанием мирной кооперации являлось и все большее приноровление к этому сложному закону, как с положительной его стороны, так и с отрицательной; мы видели также, что совместно возрастало эмоциональное уважение к этому закону и интеллектуальное его понимание.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































