Читать книгу "Фладд"
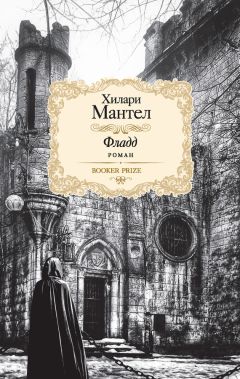
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Хилари Мантел
Фладд
Посвящается Анне Островской
© Hilary Mantel, 1989
Школа перевода Баканова, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
* * *
Хилари Мантел – дважды лауреат Букеровской премии за 2009 и 2012 годы за романы о Томасе Кромвеле «Вулфхолл» и «Внесите тела», получившая в 2013 году орден Британской империи за литературные заслуги.
Предуведомление
Церковь, описанная в книге, имеет некоторое, не слишком большое, сходство с реальной Римско-католической церковью образца пятьдесят шестого года двадцатого века. Вы не найдете на карте городка Федерхотон. Настоящий Фладд (1574–1637) был врачом, ученым и алхимиком. В алхимии все имеет буквальное, фактическое описание, а вдобавок – символическое и образное.
Вы наверняка видели огромное полотно Себастьяно дель Пьомбо «Воскрешение Лазаря», приобретенное в девятнадцатом веке лондонской Национальной галереей в составе коллекции Ангерштейна. На фоне реки, арочных мостов и ясного голубого неба группа людей – вероятно, родственники – сгрудилась вокруг восставшего из гроба. У Лазаря желтушный, трупный цвет кожи, однако он мускулист и хорошо сложен. Саван полотенцем обмотан вокруг головы, родственники заботливо склонились над ним и, кажется, совещаются. Больше всего Лазарь напоминает боксера в углу ринга. На лицах тех, кто вокруг, замешательство и легкое осуждение. Кажется, только сейчас, пытаясь выпростать правую ногу из складок савана, воскресший понимает, что все его трудности начались заново. Женщина – Мария или, возможно, Марфа – шепчет, прикрываясь ладонью. Христос одной рукой указывает на выходца с того света, другую поднял вверх, растопырив пальцы: сколько-то раундов позади, пять еще предстоит.
Глава первая
В среду епископ прибыл собственной персоной. Он был современный архипастырь, проворный толстяк в очках без оправы, и больше всего на свете ему нравилось раскатывать по епархии в большом черном автомобиле. О своем визите епископ предусмотрительно известил заранее (за два часа до приезда, если уж совсем точно). Тихий звонок, раздавшийся в доме приходского священника, прозвучал возвышенно и набожно. Мисс Демпси услышала его по пути на кухню. Мгновение она разглядывала аппарат, затем на цыпочках приблизилась и опасливо сняла трубку, словно боялась обжечься. Склонив голову набок и отведя трубку на приличное расстояние от уха, мисс Демпси слушала голос епископского секретаря.
– Да, милорд, – ответила она, о чем впоследствии пожалела: много чести.
«Епископ и его подхалимы», – любил повторять отец Ангуин.
Держа трубку кончиками пальцев, мисс Демпси очень осторожно положила ее на рычаги, несколько мгновений постояла в сумраке прихожей, кивая, словно при упоминании вслух имени Божия. Затем подошла к лестнице и проорала:
– Отец Ангуин, а отец Ангуин! Вставайте и одевайтесь, епископ обещал быть к одиннадцати.
* * *
Мисс Демпси вернулась на кухню и зажгла свет. Нельзя сказать, что это помогло: нынешним утром ничто не могло рассеять тьму, лето толстым серым одеялом прижалось к окнам. Она слушала непрестанное кап-кап-кап с веток и листьев и более настойчивое металлическое бульк-бульк-бульк из водосточной трубы. Ее тень скользила по тусклой зеленой стене, огромные руки тянулись к чайнику, словно пловец сражался с волнами в бушующем море.
Наверху священник постучал ботинком по полу, делая вид, будто уже встал. Спустя десять минут он и впрямь поднялся с кровати. Над головой у Агнессы заскрипели половицы, зажурчала вода в раковине, на лестнице раздались шаги. В прихожей отец Ангуин испустил кроткий ежеутренний вздох и внезапно возник у нее за спиной.
– Агнесса, есть у нас что-нибудь от желудка?
– Как не быть, – отвечала она.
Отец Ангуин знал, где лежат таблетки, но хотел получить лекарство из ее рук, словно она была его матерью.
– Много было людей на семичасовой мессе?
– Занятно, что вы спросили, – ответил священник, словно она не задавала этот вопрос каждое утро. – Несколько старых «Дщерей Марии»,[1]1
См. комментарии в конце книги.
[Закрыть] пара местных убогих. С чего бы им собираться? Кажется, сегодня не Вальпургиева ночь.
– Не понимаю, о чем вы, отче. Я сама принадлежу к сестринству, как вам прекрасно известно, и ни о чем таком ни разу не слышала, – надулась мисс Демпси. – Они были в пелеринах?
– Нет, в штатском, в обычных мешках.
Мисс Демпси поставила чайник на стол.
– Негоже вам смеяться над сестринством, отче.
– Интересно, не принесла ли чего сорока на хвосте? Насчет его визита? А где бекон, Агнесса?
– Еще чего. А как же ваш желудок?
Мисс Демпси налила ему чай. Журчание густой чайной струи добавилось к стуку капель за окном и вою ветра в трубах.
– И еще был Макэвой.
Отец Ангуин сгорбился над столом, грея руки о чашку. Когда он произнес имя Макэвоя, тень легла на его лицо, а подбородок заострился. Впечатлительной мисс Демпси на миг подумалось, что таким отец Ангуин будет в свои восемьдесят.
– А, ясно. Ему что-нибудь было нужно?
– Ничего.
– А почему вы о нем упомянули?
– Агнесса, дорогая, оставьте меня в покое. Ступайте, я должен примириться с мыслью о визите нашего всетолстейшего владыки. Знать бы, что за нелегкая его принесла.
Недовольная Агнесса с тряпкой в руке вышла из кухни. Когда отец Ангуин упомянул о сороке, он ведь имел в виду не ее? Только сам епископ знал о готовящемся визите. И возможно, епископские подхалимы. Но не она, мисс Демпси, а значит, она не могла рассказать, намекнуть, раскрыть глаза «Дщерям Марии» или кому-либо еще в приходе. Знай она что-нибудь, так бы и поступила. Если бы сочла нужным. Она сама выбирает, с кем поделиться. Мисс Демпси исполняла роль посредника между церковью, монастырем и остальным миром. Добывать сведения было ее истинным призванием, и она по собственному усмотрению решала, как ими распорядиться. Будь ее воля, мисс Демпси подслушивала бы даже в исповедальне, и она частенько задумывалась, как бы это устроить.
Оставшись в одиночестве, отец Ангуин принялся вертеть в руках чашку. Мисс Демпси так и не научилась пользоваться ситечком. В спитых чайных листьях не читалось ничего определенного, но внезапно отцу Ангуину показалось, будто кто-то вошел в дверь у него за спиной. Он поднял лицо, собираясь заговорить, однако никого не увидел.
– Входи, кто бы ты ни был, – произнес священник. – Выпей перестоявшего чаю.
Отец Ангуин был по-лисьи поджарым, рыжим, глаза и волосы цвета палых листьев. Наклонив голову, он втянул ноздрями воздух и отпрянул от того, что унюхал. Где-то в доме хлопнула дверь.
* * *
Несколько слов об Агнессе Демпси. Сейчас она протирает тряпкой комод, на котором и так ни пылинки. За последние годы ее лицо немного слежалось, словно отрез легкой ткани в сундуке. Мучнистые складки на шее скрывает строгий вырез. У мисс Демпси круглые, широко распахнутые голубые глаза, их удивленное выражение под стать еле различимым бровям и светлым волосам с проседью, которые стоят дыбом, словно наэлектризованные. Плиссированная юбка, короткие бочонки ног, однотонные кофта и джемпер, прячущие две почти незаметные выпуклости. У нее крошечный бледный рот, предназначенный для поглощения того, что мисс Демпси любит: эклсских слоек, ванильных пирожных, миниатюрных швейцарских рулетов, которые заворачивают в красную с серебром фольгу. У мисс Демпси есть привычка, аккуратно разгладив фольгу, сложить ее в полоску не толще карандаша, свернуть в колечко и надеть на безымянный палец. Она выставляет вперед руки – бескровные пальцы, слегка согнутые ранним артритом, – и любуется, над левой бровью застыла сосредоточенная вертикальная морщинка. Отводит руку и упирается ладонью о колено, потом снимает колечко и швыряет в огонь. Этому ритуалу она предается в одиночестве. Справа над верхней губой у мисс Демпси маленькая плоская бородавка, бледная, как ее рот. Мисс Демпси знает, что бородавку лучше не теребить, и все равно поминутно ее трогает. Она боится рака.
* * *
К тому времени как епископ влетел в гостиную, отец Ангуин успел справиться с похмельем и теперь сидел, натянув на лицо робкую улыбку.
– Ах, отец Ангуин, отец Ангуин, – промолвил епископ, пересекая комнату. Рукопожатие вышло почти искренним – епископская длань сдавила локоть хозяина, другая сжала его ладонь, однако за стеклами епископских очков отражалось недоверие, а голова раскачивалась из стороны в сторону, словно подстреленная игрушка в ярмарочном тире.
– Чаю?
– Не до чаю, – ответил епископ и встал, подбоченившись, на коврике перед камином. – Я приехал, чтобы говорить о единении всех здравомыслящих во Христе. Вижу, отец Ангуин, хлопот с вами не оберешься.
– Что, даже не присядете? – застенчиво спросил хозяин.
Слегка раскачиваясь на месте, епископ стиснул розовые ладошки и строго посмотрел на священника:
– Следующее десятилетие, отец Ангуин, станет десятилетием единения. Десятилетием мира и согласия. Десятилетием, когда христианское сообщество должно сплотиться и забыть старые распри.
В гостиную с подносом вошла Агнесса Демпси.
– Ну раз уж вы настаиваете, – сказал епископ.
Когда мисс Демпси вышла – не сразу, ее колени из-за сырости плохо гнулись, – священник спросил:
– Десятилетием, когда будет зарыт топор войны?
– Десятилетием примирения, десятилетием согласия и единомыслия.
– Ума не приложу, о чем вы толкуете, – сказал отец Ангуин.
– О духе экуменизма, – отвечал епископ, – и не говорите мне, что не ощущаете его дуновения! Что до вас не долетают молитвы миллионов христиан!
– То-то я гляжу, мне дует в шею.
– Я опережаю свое время? – вопросил епископ. – Или это вы, отец Ангуин, предпочитаете закрыть глаза и уши перед ветром перемен? Налейте мне чаю, не люблю перестоявший.
Священник подал гостю чай, тот аккуратно взял горячую чашку, сделал обжигающий глоток. Затем расставил ноги, заложил свободную руку за спину и тяжко вздохнул.
– Утомился, – заметил отец Ангуин тихо, но не про себя. – Устал от меня. Чай достаточно горячий? Не перестоял? Виски долить? – Священник повысил голос. – Мне невдомек, о чем вы толкуете.
– Вы слышали о богослужениях по-английски? – спросил епископ. – Вы о них думали? Я думаю о них постоянно. В Риме есть люди, которые о них думают.
– Я этого не одобряю, – покачал головой отец Ангуин.
– Дорогой мой, лет через пять, да что там, раньше, у вас не останется выбора!
Отец Ангуин поднял глаза.
– Вы хотите сказать, чтобы служба была понятна молящимся?
– Именно так.
– Пагубная затея, – внятно сказал священник. – Чушь несусветная. – Затем, громче: – Если вы считаете, что латынь для них слишком хороша, я не удивлюсь. Но тут у нас главная беда, что они и родной-то язык знают еле-еле.
– Я слышал, – сказал епископ. – Жители Федерхотона не слишком образованны. Спорить не буду.
– А что прикажете делать мне?
– Все, что может способствовать их благу. Я не говорю о муниципальном жилье, с ним тут проблема…
– Requiescant in pace,[2]2
Да упокоится с миром (лат.).
[Закрыть] – пробормотал отец Ангуин.
– Зато они получают бесплатные очки и зубные протезы! В наше время, отец Ангуин, нам всем надлежит заботиться о благосостоянии паствы, а ваша цель – наставить ее в делах духовных. У меня для вас есть несколько советов, надеюсь, вы их не отвергнете.
– Интересно, с какой стати мне внимать советам старого дуралея? – спросил священник довольно громко. – И почему бы мне не быть Папой в собственном приходе? – Отец Ангуин поднял голову. – Всегда к вашим услугам.
Епископ поджал губы и довольно долго смотрел на него каменным взглядом, потом сделал второй глоток.
– Я хочу осмотреть церковь, – сказал он.
* * *
Здесь, в самом начале, будет уместно рассмотреть топографические особенности городка Федерхотон, а также нравы, повадки и внешний вид его обитателей.
Вересковые пустоши окаймляют его с трех сторон. С улиц окружающие холмы похожи на собачью спину с торчащей на загривке шерстью. Собака спит, свернувшись клубком. Не буди лихо, пока оно тихо, рассуждают местные. Федерхотонцы ненавидят природу. Их лица обращены к четвертой стороне, к железнодорожным путям, ведущим в черное сердце промышленного севера: Манчестер, Уиган, Ливерпуль. Федерхотонцы не горожане – они лишены любознательности. Впрочем, назвать их сельскими жителями язык не повернется: корову от овцы местные отличат, но им дела нет до овец и коров. Их дело – хлопок вот уже почти столетие. В городке три фабрики, однако вы не найдете там деревянных башмаков и шалей, ничего живописного.
Летом вересковые пустоши казались черными. На возвышенностях маячили темные фигурки – инспектора́ по защите водных ресурсов, в складках холмов прятались озерца цвета тусклого олова. Первый осенний снегопад, ко всеобщему удовольствию, делал дорогу через пустоши в Йоркшир непроходимой. Снег лежал всю зиму – только в апреле на холмах появлялись робкие проталины, – а окончательно сходил лишь к маю. Словно сговорившись, жители Федерхотона не замечали вересковых пустошей и никогда их не обсуждали. Какой-нибудь чужак разглядел бы в окружающих видах мрачное величие, но только не местные. Они просто не смотрели в ту сторону и категорически не разделяли романтических воззрений Эмили Бронте. Еще чего. При одном намеке на что-нибудь этакое они хмуро опускали взгляд на собственные шнурки. Вересковые пустоши были в их глазах чем-то вроде огромного погоста. Позже в округе случились печально известные убийства, и для жертв пустоши и впрямь стали погостом.
Отправляясь на главную улицу поселка, местные говорили: «Я в город, в промтоварный».
Магазины на главной торговой улице не бедствовали. В витринах красовался консервированный лосось, бакалейные товары ждали покупателей рядом с ломтерезкой. За «Продуктами», «Мясом», «Обувью», «Рыбой» и «Хлебом» располагалось модное ателье мадам Хильды. Был еще парикмахер, который отводил молоденьких женщин в квадратные закутки, задергивал шторку и делал им перманент.
Книжного в поселке отродясь не водилось. Зато была библиотека и памятник героям войны. От главной улицы расходились крутые извилистые улочки, обрамленные длинными двухэтажными домами из местного камня. Фабриканты построили их в конце прошлого века для сдачи внаем. Двери квартир открывались прямо на мостовую. Внизу были две комнаты, из которых собственно домом именовалась гостиная. Если бы местным женщинам паче чаяния пришло бы в голову объяснять свои действия, они сказали бы так: «Утром я драила наверху, вечером убираю дома».
Выговор жителей Федерхотона трудно воспроизвести. Любая попытка обречена на провал и будет отдавать фальшью. Невозможно передать торжественность и архаическую церемонность местного диалекта. Отец Ангуин считал, что некогда он отделился от английской речи. Шальное течение подхватило его, унеся федерхотонцев далеко от судоходных путей языка, и с тех пор носило по волнам без руля и ветрил. Однако мы отклонились от темы, а в Федерхотоне не любят импровизаций.
В гостиной был устроен камин, в других комнатах отопления не предусматривалось, хотя в некоторых домах на крайний случай держали электрические обогреватели с одной спиралью. В кухне имелась глубокая раковина, кран с холодной водой и крутая лестница на второй этаж, наверху – две спальни и чердак. Черные двери выходили на мощеный задний двор. Ряд угольных сараев, уборные: отдельный сарай полагался каждой семье, однако отдельной уборной не полагалось, ее делили между собой две квартиры.
Теперь перейдем к местным обычаям. Взять, к примеру, женщин. У случайного прохожего имелась прекрасная возможность их изучить, ибо пока мужчины гнули спины на фабриках, женщины стояли на пороге. Этому занятию они предавались с утра до вечера. Все развлечения: футбол, бильярд и разведение кур – достались мужчинам. Все удовольствия: сигареты и пиво в «Гербе Арунделя» в награду за примерное поведение – также принадлежали отцам семейств. Религия и чтение библиотечных книг считались уделом подрастающего поколения. Женщинам оставались разговоры. Они входили во все обстоятельства, обсуждали серьезные материи, без них жизнь в Федерхотоне давно замерла бы. Между школьной партой и нынешним положением они знали только ткацкий цех. Оглохнув от грохота станков, женщины по привычке говорили очень громко, и их вопли неслись, словно крики потревоженных чаек, по пыльным голым улицам, продуваемым всеми ветрами.
Женская одежда на выход (не та, что для стояния на пороге) состояла из жестких синтетических плащей ядовито-зеленого цвета, непромокаемых, словно кожа пришельцев. В солнечные дни женщины скатывали их в рулон и бросали дома, где, оставшись без присмотра, плащи сонно скручивались в кольца, словно амазонские рептилии. Обувью служили домашние тапки-ботики с мощной застежкой-молнией посередине. На выход обувались такие же боты, но прочнее, из немаркой темно-коричневой замши. Женские ноги возвышались над ними как трубы, приоткрытые не больше чем на дюйм подолом тяжелого зимнего пальто.
Женщины помоложе носили башмаки другого фасона: тупоносые, с куцей опушкой из розового или голубого искусственного меха. Такие модели было принято дарить родственницам на каждое Рождество. Поначалу их жесткие подошвы сияли, словно стеклянные, но после недельной носки утрачивали блеск. Первую неделю счастливая обладательница подарка, гордясь и стесняясь такой роскоши, нет-нет да и опускала взгляд вниз всякий раз, как искусственный мех щекотал лодыжки. Постепенно мех терял упругость и лоск, в нем застревали крошки, а к февралю он успевал сваляться окончательно.
Стоя на пороге, женщины глазели на прохожих и похохатывали. Они могли оценить шутку, если ее им растолковать, но куда чаще с наслаждением издевались над физическими недостатками окружающих. Обитательницы Федерхотона жили надеждой, что мимо их двери пройдет незнакомец с горбом или заячьей губой. Им было невдомек, что смеяться над убогими жестоко – напротив, они находили это естественным. Они были сентиментальны и безжалостны, остры на язык и непримиримы к любой непохожести, эксцентричности или оригинальности. Это неприятие всякого, кто осмеливался выделиться на общем фоне, было так сильно, что федерхотонцы с недоверием относились к любому проявлению честолюбия и даже грамотности.
В сторону от главной улицы, вдоль соседнего склона, уходила Чёрч-стрит. Здесь никто не жил; вдоль улицы тянулись древние изгороди, пыль покрывала листья, словно слой пепла. Чёрч-стрит переходила в широкую проселочную дорогу, скользкую и каменистую, которую в Федерхотоне именовали «проездом». Возможно, в прошлом веке по ней и впрямь ездила в карете какая-нибудь набожная особа, ибо дорога заканчивалась у местной школы, монастыря и церкви Святого Фомы Аквинского. От дороги отделялась тропинка, которая вела в поселок Недерхотон и дальше, к пустошам.
На одной из улочек была красная методистская часовня, а за ней – кладбище, куда отправлялись, окончив свой недолгий век, ее прихожане. Ибо в двухэтажных многоподъездных домах, кроме католиков, жили также и протестанты, одна-две семьи на каждый двор. В протестантских гостиных дверцу буфета не украшал календарь с портретом Папы Римского, в остальном их дома ничем не отличались от католических. Впрочем, соседи протестантов так не считали. Протестанты отказывались следовать заповедям истинной веры и являли собой пример преступного заблуждения. Зная дорогу к церкви Святого Фомы Аквинского, они туда не шли, а вместо того, чтобы отдать детей в заботливые руки матери Перпетуи для получения приличного католического образования, отправляли их на автобусе в соседний городок.
Как говорила воспитанникам сама мать Перпетуя, грозно и сладко улыбаясь: «Пусть молятся, как им заблагорассудится, но мы, католики, будем молиться так, как заповедано нашим Господом».
Из-за своих преступных заблуждений протестантам было суждено гореть в аду. Каких-нибудь семь десятков лет: сначала гонять на велосипеде по крутым деревенским улочкам, потом обзавестись семейством, жевать хлеб с топленым салом, затем бронхит, пневмония, сломанная шейка бедра, священник, венок на могилку – и вот уже дьявол рвет клещами грешную плоть.
Так считало большинство соседей.
* * *
Церковь Святого Фомы Аквинского выглядела внушительно. Некогда серые стены в наши дни покрывал слой грязи и копоти. Она стояла на пригорке, так что к ней надо было подниматься по лестнице; замшелые каменные ступени теснились у ее подножия, словно выводок терьеров, напавших на опасного грязного бродягу.
На самом деле церковь построили меньше века назад, когда сюда для работы на фабриках переселились ирландцы. Кто-то надоумил архитектора придать ей такой вид, будто церковь стояла тут испокон веку. Похвальное намерение в те мрачные скудные времена, да и архитектор был не чужд чувства истории в ее шекспировском понимании. Анахронизмы его не пугали. Прошлый четверг и битва при Босворте – для него все было едино, миссис О’Тул, преставившаяся на той неделе, поспешала в вечность сразу за королем Ричардом. Что римляне, что ганноверцы, все как один носили кожаные дублеты и железные короны, жгли ведьм, смачно хлопали себя по ляжкам и восклицали: «Доколе!» В их каменных домах причудливой архитектуры стоял лютый холод, а их окна ничуть не походили на теперешние. Ничем другим нельзя объяснить тот стиль водевильного Средневековья, в котором возвели церковь Святого Фомы Аквинского.
Начав строить нечто смутно-готическое, архитектор постепенно перешел к саксонской брутальности. Западная башня была лишена шпиля, зато украшена зубцами. На паперти стояли каменные скамьи, скромная чаша со святой водой и лежал вечно мокрый, стертый вонючий половик, сплетенный, вероятно, из каких-то сушеных овощных волокон. Круглой арке входа, норманнской по духу, явно недоставало архивольтов, пилонов и орнаментальных украшений. Суровая окованная дверь на массивных петлях рождала мысль об осаде, когда мирное население от голода ловит и ест крыс.
Внутри, в кромешной тьме, стояла на простом каменном постаменте глубокая каменная купель, в которой можно было окрестить тройню или искупать овцу. Темнота под западной, органной галереей, была еще непрогляднее. На галерею, хотя об этом никто не догадывался, пока не нырял во тьму, вел еще один низкий дверной проем, младший брат входного – того, что напоминал об осаде и поедании крыс, – и ненадежная винтовая лестница со ступеньками шириной в фут. Были еще две боковые капеллы, отделенные аркадами, – именно здесь помешательство архитектора проступало особенно четко, поскольку круглые арки вследствие какого-то его каприза бессистемно перемежались стрельчатыми. Такое смешение стилей придавало церкви обманчиво древний вид, как будто она, словно великие европейские соборы, строилась на протяжении веков.
Основания колонн представляли собой массивные приземистые цилиндры из серого выщербленного камня, а гладкие, без резьбы капители напоминали упаковочные ящики. Стрельчатые окна располагались по два и обрамлялись простыми наличниками: круг, четырехлистник, крест. В каждом витражном окне стояли неотличимые ни лицом, ни фигурой святые; в руках они держали свитки с именами, выведенными нечитаемым готическим шрифтом. Толстое, промышленного вида стекло плохо пропускало солнечные лучи, а цвета были резкие и неприятные: светофорный зеленый, бутылочный синий и тусклый ядовито-красный – цвет дешевого клубничного джема. Пол церкви был выложен каменными плитами, длинные скамьи выпачканы чем-то липким и красным, наподобие патоки, низкие двери единственной исповедальни закрывались на защелки, как у сарая.
* * *
Из ризницы отец Ангуин с епископом прошли по сводчатому коридору, продуваемому сквозняками, и оказались в северной капелле. Они поглядели по сторонам, впрочем, без всякого толку. В церкви Святого Фомы Аквинского было темно, как в соборе Парижской Богоматери; как и там, невозможность понять, что происходит у дальней стены, рождала смутную тревогу. Своды терялись во мраке, однако вас не оставляло чувство, что они сразу над головой и мало-помалу опускаются – пусть всего лишь на дюйм, – выдавая стремление в один прекрасный зимний день слиться с плитами пола, образовав мерзлый ком каменной кладки с прихожанами посередине.
Церковь представляла собой глухое темное пространство, но кое-где тьма образовывала еще более темные сгустки. То были гипсовые статуи – именно в них сейчас пристально всматривался епископ. Почти перед каждой на грубой металлической стойке, похожей на прутья звериной клетки, горели свечи – тускло, словно болотный газ, мерцая от незаметного, затаившего дыхание ветерка. Да, церковь славилась сквозняками – они преследовали каждого прихожанина, словно дурная репутация, хватали молящихся за ноги, забирались под одежду, как кошки ластятся к людям, которые их не любят. Однако когда церковь пустела, сквозняки затихали, лишь пересвистывались порой над плитами пола, а пламя свечей тянулось к крыше, прямое и тонкое, словно портновская булавка.
– Эти статуи, – промолвил епископ. – У вас есть фонарик?
Отец Ангуин не ответил.
– Тогда ведите меня, – велел епископ. – Начнем отсюда. Не пойму, кто это. Негр?
– Не совсем. Он раскрашен. Почти все статуи раскрашены. Это святой Дунстан. Видите клещи?
– Зачем ему клещи? – рявкнул епископ, выпятив брюхо и хмуро разглядывая статую.
– Дунстан трудился в кузне, и когда дьявол принялся искушать его, святой прищемил ему нос раскаленными клещами.
– Интересно, какие искушения могут одолевать в кузнице? – Епископ всматривался во тьму. – У вас много статуй, больше, чем в любой церкви епархии. Где вы их взяли?
– Это случилось до меня. Они всегда здесь стояли.
– Вы же понимаете, что так не бывает. Кто-то принял решение. А что там за женщина со щипцами? Не церковь, а скобяная лавка.
– Это Аполлония. Римляне вырвали ей все зубы. Святая Аполлония покровительствует дантистам.
Отец Ангуин поднял глаза на склоненное невыразительное лицо мученицы, достал из деревянного ящика у ног статуи свечу, поджег ее от единственной свечи, горевшей у святого Дунстана, с осторожностью отнес обратно и вставил в пустой подсвечник.
– Никому здесь нет до нее дела. Местные не ходят к дантистам. Зубы у них выпадают еще в молодости, и они вздыхают с облегчением.
– Дальше, – сказал епископ.
– А вот четыре отца церкви. Видите, на Григории Великом папская тиара.
– Ничего я не вижу.
– Поверьте мне на слово. Вот Августин держит сердце, пронзенное стрелой. А это святой Иероним с маленьким львом.
– Действительно, маленьким. – Епископ наклонился, оказавшись нос к носу с животным. – Не похож на льва.
Отец Ангуин положил руку на львиную гриву и провел указательным пальцем по каменной спине.
– Я люблю Иеронима больше других отцов церкви. Так и вижу его в пустыне с безумными глазами и голыми аскетическими коленями.
– А кто слева? – спросил епископ.
– Святой Амвросий с ульем. Дети зовут его Святым Ульем. Подобным образом два поколения назад кто-то назвал блаженного Августина, епископа Гиппонского, епископом Гиппопотамским, и с тех пор в умах царит неразбериха, доставшаяся молодым в наследство от родителей.
Епископ издал низкое рычание. Отец Ангуин решил, что оплошал. Что епископ и впрямь подумал, будто давнее недоразумение что-то значит.
– Разве это что-то решает? – спросил он быстро. – Посмотрите на святую Агату. Бедняжка держит свои груди на блюде. Святая Агата покровительствует колокольным мастерам. А виной тому маленькая ошибка, сами понимаете какая. Почему пятого февраля мы благословляем хлеба на блюде? Потому что груди напоминают как колокола, так и булки. Никакого вреда от такой ошибки нет. Так более пристойно, менее жестоко.
Они дошли почти до задней стены церкви. Напротив, в северном проходе, стояло еще несколько статуй: Варфоломей сжимал кинжал, которым с него содрали кожу, Цецилия держала в руках органчик. Пресвятая Дева с глуповатым выражением лица, которое придавала ему слащавая улыбка и отколотый кончик носа, молитвенно сжимала руки под синим плащом. Святая Тереза, Маленький Цветочек, смущенно улыбалась из-под розового веночка. Епископ пересек церковь, заглянул в лицо кармелитке и постучал по ее ноге.
– Для нее я сделаю исключение, отец Ангуин. Наши мальчики в окопах Фландрии взывали к Маленькой Терезе, даже те, кто не называл себя католиками. Есть святые, отвечающие духу времени. Перед нами пример истинной женской святости. Возможно, Терезу мы оставим. Я еще подумаю.
– Оставим? – спросил отец Ангуин. – А что, остальные куда-то уходят?
– На улицу, – отрезал епископ. – А куда? Да куда хотите. Так или иначе, отец Ангуин, я намерен повести вас, вашу церковь и паству в пятидесятые, коим мы все принадлежим. Я не допущу идолопоклонства.
– Но это не идолы, а статуи! Всего лишь образы.
– Если мы выйдем на улицу и обратимся к кому-нибудь из ваших прихожан, как думаете, он найдет различие между почитанием святых и благоговением, которое надлежит испытывать к Господу?
– Пустозвон, – произнес отец Ангуин. – Вероотступник. Саладин. – Священник повысил голос: – Вы не понимаете, о чем говорите. Местные вообще не сильны в молитве. Они простые люди, и я сам простой человек.
– Не сомневаюсь.
– А у святых есть свои атрибуты, свои профессии. Людям нужно на что-то опереться.
– Придется опереться на что-нибудь другое, – резко ответил епископ. – Нечего этим статуям здесь делать. Нужно их убрать.
Проходя мимо архангела Михаила, отец Ангуин взглянул на весы, на которых тот взвешивал души, затем опустил глаза на его ступни: голые и грубые. Иногда они казались ему похожими на горилльи лапы. Священник прошел под галереей, в густую, бархатную тьму, где святой Фома, ангелический доктор, твердо стоял на постаменте в самом центре, устремив каменный взор на престол, а звезда, которую он сжимал в грубых руках, испускала в кромешную тьму невидимые лучи.









































