Текст книги "Две памятные фантазии"
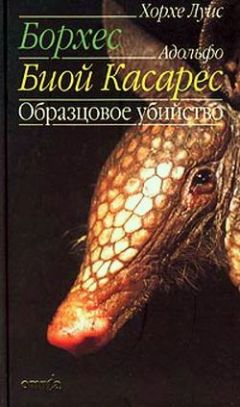
Автор книги: Хорхе Борхес
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Знамение
Бытие, IX, 13
– В кои веки у друга Лумбейры счастливый день, и он может заплатить за мой завтрак, за эти сдобные булочки, что придают сил, да и вряд ли кто откажется от парочки плюшек со сливками или от лоснящихся жиром слоечек, одну из которых я запихиваю себе в глотку с риском остаться без пальца, сопровождая все глоточками феко с моколом, а ведь я способен еще и очистить тарелочку, полную пирожков с повидлом. Плати, плати, не жалей; а я, как только прочищу горло и верну себе способность сыпать словами, тут же пройдусь по вашим ушам одной занимательной историей, в которой ipso facto без хитрого малого нам не обойтись, да еще вколотим в его буйную голову колоссальное меню, такое, что после не найдешь ни крошки хлеба за десять верст вокруг.
Как летит время, Лумбейра! Не успеешь воткнуть зубы в этот английский пудинг, а глядь, уже все и изменилось, и если вчера ты шарахался на улице от какой-нибудь разряженной шлюшки, то теперь ты крепко сел в лужу, и вот уже бабы шарахаются от тебя. Чего уж врать, в Институте прогнозов «Ветеринария Диого» меня ценили не больше, чем трубку от клизмы, а запах поезда был для меня словно запах конуры для собаки или для вас запах станции Лакроз: я хочу сказать, что железная дорога для меня, коммивояжера, – дом родной. И вот вдруг, без всякой подготовки – хотя чего было готовиться, я уже подумывал об этом года полтора, – я спустил на них всех собак, хлопнул дверью и ушел. Затем я поступил на работу в «Последний Час», где главный редактор, полное убожество, сделал меня выездным корреспондентом, и если меня не отправляют в Каньюэлас, то уж точно посылают куда-нибудь в Берасатеги.
Не стану спорить: тот, кому приходится ездить, волей-неволей знакомится с приветливой внешностью городских окраин, и нередко ему случается удивляться чему-то новому и необычному, что, как увидите, может сыграть с ним дурную шутку. Не успеешь и рта раскрыть, как, словно мухи на мед, к тебе, газетчику, все слетаются, и приходится отбрыкиваться, черт возьми; короче, дело в том, что не далее чем вчерашеньки меня опять послали в Бурсако, словно бандероль какую-то. Прижатый, как последний идиот, к окошку, я с двенадцати восемнадцати плавился, как кусок сыра, под лучами солнышка, скользя невооруженным глазом то по асфальту, то по крышам, то по домам, то по пустырю, где развалилась свинья. В общем, я не знал куда глаза деть, пока не доехал до Бурсако и не сошел на подходящей станции. Клянусь своими потрохами: у меня не было ни малейшего подозрения по поводу того откровения, что снизошло на меня тем душным вечером. Раз за разом я потом спрашивал себя, кто бы мог подумать, что здесь, в этой дыре под названием Бурсако, я услышу о чуде, которое, как выяснилось, для них то же самое, что скисшее молоко.
Я потащился – а то как же! – по улице Сан-Мартин, и недалеко от врытой в землю огромной руки, которая предлагала мате «Noblesse Oblige», меня осчастливил своим наличием дом дона Исмаила Ларраменди. Представьте себе безнадежную развалину, привлекательную своей недостроенностью дачку, такую простенькую хибару святого, куда вы сами, дон Лумбейра, хотя и навидались всяких клоповников, не рискнули бы войти без плаща и зонтика. Я прошел через огород, и уже на крыльце, под эмблемой Евхаристического конгресса, передо мной появился mezzo[4]4
Наполовину (итал.).
[Закрыть] облысевший старичок, в таком чистеньком плащике, что мне страсть как захотелось посыпать его пушком, тем, знаете, что скатывается в карманах. Исмаил Ларраменди – дон Матесито, как его называют, – явил передо мной портновские очки, усы ниточкой и носовой платок, который покрывал весь его затылок. Он уменьшился в росте на пару сантиметров, когда я всучил ему вот эту самую визитку, которую сую вам сейчас под нос и где можно прочесть на бумаге «Витрофлекс»: «Т. Маскареньяс, „Последний Час"». Только он попытался изобразить свое отсутствие, как я заткнул ему пасть, заявив, что уже видел его карточку в полиции, и, хотя он и налепил на себя эти усы, – меня не проведешь. Справедливо полагая, что в столовой тесновато, я вытащил переносную плитку на задний двор, скинул свою шляпенцию в спальне, приклеил свою жопу к креслу-качалке, закурил «Салютарис», которым старикан явно позабыл меня угостить, и, разложив свои вещи на сделанной из сосны этажерке с учебниками «Гальяч», усадил старикашку на пол и заставил его прокрутить пластинку с рассказом о его покойном учителе Венсеслао Сальдуэндо.
Вы просто не поверите. Он открыл рот и засвистал голосочком сладким, как у окарины, который, слава те Господи, я уже не слышу, потому что сидим мы в этом молочном кафе на улице Боэдо. Не успел я в себя прийти, как он уже вещал:
– Взгляните-ка сюда, сеньор, в это крошечное окошечко: через него вы без труда различите, за второй рукой с чашкой мате, маленький домик, которому не мешало бы, черт его дери, быть и побольше. Поверьте мне, сеньор, вам стоит сотворить крестное знамение и попросить у этого дома исполнения трех желаний, потому что под его крышей жил человек, который заслужил лучшей участи, чем стать жертвой этих кровососов, не щадящих ни бедняка, ни миллионера. Я говорю о Сальдуэндо, сеньор!
Протекло сквозь это окошечко[5]5
Речь идет, понятно, о самом примитивном из всех моноклей. Наш герой сымпровизировал его, используя большой и указательный пальцы, приложил его к глазу и, подмигнув, добродушно рассмеялся. Tout comprendre, c'est tout pardonner [Все понять – значит все простить (франц.)]. (Замечание, griffonnée Зацарапанное (франц.)] доктором Гервасио Монтенегро.)
[Закрыть] лет сорок – точнее сказать, тридцать девять – с того незабываемого вечера, а может, и с раннего утречка, когда я познакомился с доном Венсеслао. С ним или с кем другим, ибо с годами память ветшает, а кончается все тем, что не помнишь, с кем вчера в баре «Конституция» выпил стакан то ли молока, то ли пивка, которое так согревает душу. Неважно как, но я познакомился с ним, мой дорогой сеньор, и мы поговорили обо всем понемножку, но особенно о поездах, идущих в Сан-Висенте. Так ли, иначе ли, я в кепке и дорожном плаще по будням ездил до Пласы на пригородном в шесть девятнадцать; дон Венсеслао уезжал на поезде в пять четырнадцать, и я издалека видел, как он шагал, обходя замерзшие лужицы в дрожащем свете фонаря Кооперативного общества. Он, как и я, был рьяным приверженцем дорожных плащей, и несколько лет спустя, кажется, нас даже сфотографировали в таких плащах.
Я всегда, сеньор, был самым решительным противником того, чтобы влезать в чужую жизнь, и поэтому не позволял себе спросить моего нового друга, зачем он всегда ездит с карандашом «Фабер» и рулоном корректур, да еще со словарем Роке Барсии – это ж такая тяжесть, столько томов! Но вы понимаете, какое меня раздирало любопытство, и вдруг оно неожиданно было удовлетворено: дон Венсеслао сам сказал мне, что работает корректором в издательстве «Опортет и Эресес», и предложил помочь ему в работе, которой он занимался с завидным усердием, чтобы убить время в поезде! Признаюсь честно: мои знания весьма скудны, и в первый момент я засомневался, получится ли у меня; однако природное любопытство победило, и прежде, чем в вагоне появился кондуктор, я уже погрузился в гранки «Среднего образования», труда Амансио Алькорты. Черт возьми, до чего же мало мог я сделать при первом моем вхождении в мир литературы, но, увлеченный глобальными проблемами педагогики, я все читал и читал, не замечая чудовищных опечаток, переставленных строк, пропущенных или перепутанных страниц. Когда я добрался до Пласы, мне практически осталось прочесть лишь последнюю главку, но на следующее утро, к великому изумлению моего нового друга, прямо а перроне я снова уткнулся в гранки с карандашом в руках, который предусмотрительно приобрел во вполне солидном заведении – книжном магазине «Европа».
Месяца полтора продолжались наши занятия корректурой, которые были, честно говоря, великолепной школой для изучения основ испанской орфографии и пунктуации. От А. Алькорты мы перешли к «Социальной педагогике» Ракели Каманья, не пропустили и «Литературной критики» Педро Гойены, которая позволила мне насладиться вечно живыми прелестями «Апельсинов в цвету» Хосе де Матураны или «Сентиментального дилетантизма» все той же Ракели Каманья. Я не могу похвалиться вам другими названиями, потому что дон Венсеслао однажды вдруг решительно сказал мне, что оценил мое усердие и стремление помочь, но, к сожалению, вопреки его воле, он, видимо, будет вынужден прервать меня, потому что сам дон Пабло Опортет в скором времени повышает его по службе, и это даст ему возможность скопить приличный капиталец. Что за черт: дон Венсеслао говорил мне о таких светлых перспективах своего материального положения, а я видел его потухший взор, и ходил он как в воду опущенный. Через неделю, выходя из бара «Конституция» с пакетиком маисовых баранок, которые я купил для внучек сеньора Маргулиса – того, что держит аптечную лавку в Бурсако, – я имел счастье столкнуться с доном Венсеслао, когда он расплачивался за подгоревший, весь сморщенный омлет и пару здоровенных чаш грога, пахнущего так, что я даже закашлялся; рядом прикуривал сигару какой-то денежный мешок, с оливковой кожей и в дорогом каракулевом пальто. Этот денежный мешок приглаживал усы и говорил со своим соседом так, будто обещал ему золотые горы; но на лице сеньора Венсеслао я заметил смертельную бледность. На другой день, прежде чем отправиться в Тальерес, он доверительно поведал мне, что его вчерашним собеседником был сеньор Молох из торговой фирмы «Молох и Молох», которая прибрала к рукам книжные лавки на улицах Июльская и Ривера. Он добавил, что подписал контракт с этим сеньором, который сейчас просиживает в турецких банях, где напропалую дуется в карты, на предмет поставки научных трудов и почтовых карточек. К тому же мой благодетель признался мне, не без колебаний, что руководство назначило его ответственным управляющим издательства. В этом новом качестве он уже присутствовал на расширенном заседании типографского центра, где, правда, едва он удобно устроился в кресле, как его живо одернули эти астурийцы. Сеньор, я слушал его как завороженный, и в этот момент поезд резко дернулся и на пол упал один из тех листов, корректурой которых дон Венсеслао занимался. В благородном порыве я сразу же оказался на четвереньках, чтобы поднять лист. Лучше бы мне этого не делать: я увидел непотребную картинку и покраснел как вареный рак. Я притворился, как мог, что ничего не заметил, и протянул листок так, как будто в руках у меня был вполне благочестивый рисунок. Мне повезло, что дон Венсеслао – сущий Тристан Суарес – не осознал того, что случилось. На следующий день, в субботу, мы уже не ехали вместе: это значит, что сначала уехал один, а затем другой.
Когда денек стал клониться к вечеру, я бросил взгляд на календарь и меня стукнуло: ведь в воскресенье – мой день рождения. Это подтвердила и тарелка с пирожками, которые всегда преподносит мне к этому дню сеньора Акино Дериси, принимавшая роды у моей матери. Ловить аромат этого чуда кулинарии, настолько мне родного, и думать, что, пожалуй, здорово бы провести вечерок с сеньором Сальдуэндо, ложилось, как говорят у нас в Бурсако, один к одному. Благоразумно выжидая на кухне захода солнца – чрезмерное любопытство соседей у нас в порядке вещей, – я до восьми с четвертью разрисовывал мебелюшку, которую изготовил из ящичков из-под сахара «Лансерос». Хорошенько закутавшись в пончо, ибо вечерняя свежесть коварна, я отправился на одиннадцатом номере – то есть на своих двоих – к дому учителя и друга. Я вошел, как собака в свою конуру, потому что дверь у сеньора Сальдуэндо была всегда открыта, сеньор, как и его сердце. Гостеприимный хозяин блистал своим отсутствием! Чтобы зазря не ходить туда-сюда, я решил чуток подождать – а вдруг он сейчас вернется. Около умывальника, не слишком далеко от таза с кувшином, находилась кипа книг, которые я позволил себе просмотреть. Я снова повторяю: лучше бы мне этого не делать – это были книги издательства «Опортет и Эресес». Верно говорят: меньше знаешь – лучше спишь; до сего дня я не могу забыть книг, которые издавал дон Венсеслао. Страницы пестрели голыми бабами во всей красе, а на обложках значилось: «Благоухающий сад», «Китайский шпион», «Гермафродит» Антонио Панормитано, «Камасутра и/или Ананга-Ранга», «Печальные одеяния», были также произведения Элефантиса и Архиепископа из Беневенто. Вот так клубничка! Я не какой-нибудь отъявленный пуританин, и порой не прочь гульнуть, и ухом не веду, когда слышу смачные выражения того святоши из Турдеры, но, знаете, это ни в какие ворота не лезло, и я решил пойти спать. И сразу же ушел, правду говорю.
Прошло несколько дней, а я ничего не знал о доне Венсеслао. А потом по округе прокатилась сногсшибательная новость, и я был последним, кто узнал ее. Однажды вечером подмастерье парикмахера показал мне газету с фотографией дона Венсеслао, на которой он был более всего похож на темно-коричневого негра; над фотографией я прочитал заголовок: «РАЗРАСТАЕТСЯ СКАНДАЛ С ИЗДАТЕЛЕМ ПОРНОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ГРЯЗНАЯ АФЕРА». У меня подкосились ноги, в глазах помутилось, и я рухнул в кресло. Не понимая ничего, я дочитал статью до конца, но больше всего меня расстроил непочтительный тон, каким они говорили о сеньоре Сальдуэндо.
Два года спустя дон Венсеслао вышел из тюрьмы. Без лишнего шума – что и было в его натуре – он вернулся в Бурсако, тощий, как скелет, но с высоко поднятой головой. Он распрощался с поездами и не выходил из дома даже на прогулки по близлежащим окрестностям. Вот тогда-то, да будет вам известно, его и наградили ласковым прозвищем «Дон Старая Черепаха», ведь он никуда не выходил, и было почти невозможно встретить его где-нибудь на фуражном складе Буратти или же на птицеферме Рейносо. Он никогда не хотел вспоминать о причинах своих несчастий, но, связав концы с концами, я понял, что сеньор Опортет просто-напросто воспользовался безграничной добротой дона Венсеслао и взвалил на него всю ответственность за свою книготорговлю, когда увидел, что дело труба.
С благородным намерением поднять дону Венсеслао настроение, я вытащил его однажды в вос-кресеньице – а случай подвернулся подходящий – к внукам доктора Маргулиса, нарядившимися pierrot, а на следующий день отправился к нему с мыслишкой, а не пойти ли нам по бабам. Да какое там! Я был полным идиотом с этим своим желанием развлечь его!
Дон Черепаха заваривал на кухне мате. Я сел спиной к окну, которое сейчас выходит на задворки клуба «Спортивный союз», а раньше там было чистое поле. Учитель с великой учтивостью отклонил мое предложение и с несравненной добротой человека, привыкшего часами прислушиваться к голосу сердца, добавил, что не испытывал недостатка в развлечениях с того момента, как Верховный суд предоставил столь неопровержимые доказательства его вины.
Рискуя прослыть занудой, я упросил его пояснить свою мысль; не выпуская из рук чайничка гранатового цвета, этот провидец ответил:
– Обвиненный в мошенничестве и торговле непристойными книгами, я был заключен в камеру двести семьдесят два Национальной тюрьмы. Там, между четырех стен, больше всего меня беспокоило время. В первое утро первого дня я подумал, что сейчас мне хуже всего, но, когда наступит следующий день, станет чуть полегче, и так далее до последнего, семьсот тридцатого, дня. Но беда в том, что как ни крути, а время не шло быстрее, и я все оставался в начале утра первого дня. Вскоре я вспомнил все известные способы скоротать время. Принялся считать. Прочел наизусть Преамбулу к Конституции.
Стал перебирать названия всех улиц между улицами Балькарсе и авенидой Ла-Плата, а также между Ривадавия и Касерос. Потом перешел к северным кварталам и перечислил улицы между Санта-Фе и Триумвиратом. К счастью для себя, я сбился в районе улицы Коста-Рика, что дало мне возможность убить немного времени, и так я дотянул до девяти утра. Возможно, тогда в мое сердце и постучался святой, и я стал молиться. На меня снизошло просветление, и ночь пролетела незаметно. Через неделю я уже не вспоминал о времени. Поверьте, мой юный Ларраменди, когда закончились два года моего заключения – мне показалось, что они пролетели как один миг. По правде сказать, Господь одарил меня множеством видений, и все они воистину бесценны.
Лицо дона Венсеслао после этих слов прояснилось. Сначала я заподозрил, что причина этому – воспоминания, но тут же понял: что-то происходит за моей спиной. Сеньор, я обернулся. И увидел то, что видел дон Венсеслао.
В небе что-то беспрестанно двигалось. От нашей сельской конторы «Манантьялес» и от поворота железной дороги вверх взмывали какие-то огромные предметы. Все они устремлялись к зениту. Казалось, что одни из них кружатся вокруг других, не нарушая при этом общего движения вверх. Я не мог оторвать от них глаз и сам словно поднимался вместе с ними. Как есть вам говорю: я еще не понял, что это за предметы, но уже тогда от них на меня изливалась благодать.
Я уже потом подумал, что, может быть, они сами светились, – ведь был уже вечер, а я все же различал их преотлично. Первое, что я распознал, – и следует признать, что это странно, потому что сама форма предмета различалась нечетко, – был вот такой величины фаршированный баклажан, который тут же исчез из поля зрения, скрывшись за навесом веранды, но уже за ним вослед устремился огромный пирожок, который, по скромным подсчетам, сеньор, достигал километра полтора в длину. Справа и несколько выше поражало воображение пучеро по-испански, с кровяной колбасой и шпиком, сопровождаемое кусочком атеринки – рыбки, которую вы вряд ли где могли видеть. Весь запад покрывало ризотто, а в южной части неба собирались вместе фрикаделька, тыквенный десерт и топленое молоко. Справа по борту от кулебяк с неровными боками под мантией из нескольких шипящих омлетов шествовало на восток матамбре. Пока я в здравом уме и твердой памяти, меня всегда будет греть воспоминание о двух потоках – они пересекались, но не смешивались: один из куриного бульончика, а другой из супа с громадными кусками мяса, и, увидев такое, понимаешь, что все это правда насчет радуги. И, не подавись я кашлем, оторвавшим меня в тот момент от видения, я бы не потерял из виду котлету из шпината, которую закрыли потрошки паррильяды, не говоря уже о коричных веточках, которые, расправившись веером, завладели небесным сводом. Все это смел свежий сыр, дырчатая поверхность которого охватила все небо. Сей продукт питания застыл, словно нахлобученный на наш мир, и я даже подумал, а не был ли он здесь всегда, как звезды, как небесная синева. Но через мгновение от этого ресторанного изобилия и следа не осталось.
О-о! Ни единого слова не сказал я на прощание дону Венсеслао. На подкашивающихся ногах я пробежал километра два и прямо-таки влетел в привокзальный ресторанчик – и надо было видеть, как я там обжирался.
Я рассказал вам все, сеньор. Или почти все. Больше мне не довелось наблюдать ни одного видения дона Венсеслао, но что-то мне подсказывает, что и остальные были не менее чудесными. Ведь я считаю сеньора Сальдуэндо благородным человеком, несмотря на то что вся округа в тот вечер пропахла подгоревшим мясом.
Двадцать дней спустя от сеньора Сальдуэндо осталось одно бездыханное тело, и его душа, возможно, вознеслась на небо, где, без сомнения, ее сейчас сопровождают все эти закуски и десерты.
Я благодарю вас за то, что вы меня выслушали. И мне лишь остается сказать: да благословен будет путь ваш.
– Да и вам пусть укропчика с неба навалит.
Пухато, 18 октября 1946 года
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































