Текст книги "Красные самолеты"
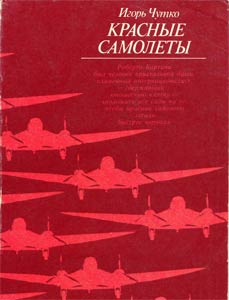
Автор книги: Игорь Чутко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Глава III
Стык грядущего и прошедшего,
Бегущее звено…
Р.Л.Бартини. Цепь
1
Свою повесть Роберт Людовигович большей частью читал мне вслух, поскольку до перепечатки это была густая машинопись, через один интервал, без полей, со множеством исправлений и почти неразборчивых вставок от руки. А доходя до лирических описаний житья-бытья в Фиуме, Риме, Венеции, иногда откладывал страницы:
– Ну, там, сами понимаете, особняк, парк, а также еще это, по-нынешнему – обслуживание… Может, я кое-что лишнее отсюда выброшу, чтобы не мешало.
В самом деле, очень уж далеко отстоят друг от друга маленький итальянский мальчик с кудрями до плеч, в черном бархатном камзольчике с кружевным воротничком, и один из руководителей Опытного конструкторского бюро, самолетостроитель, гражданин СССР… Главный конструктор усмехнулся, когда его спросили, не чувствует ли он все еще у себя на плечах этот бархатный камзольчик, хотя бы по временам, – ведь все мы иногда вдруг спутешествуем в детство и почувствуем себя так, словно нам совсем мало лет…
– Разве Бартини – итальянец? Если рассматривать человека как биологическую особь, как собрание клеток, то за годы, что я прожил в Советском Союзе, все мои клетки успели смениться минимум трижды, давно ушли в землю все вещества, из которых я был когда-то составлен, и, значит, перед вами не итальянец, а русский.
…Мальчик в теплом средиземноморском городе гуляет с собакой, старой умной Алисой, в саду при вице-губернаторской резиденции, по лужайке, окаймленной искусно подстриженными кустами, поднимается по мраморной лестнице дома, идет в отцовскую библиотеку, куда вход разрешен только ему, Роберто, достает фолианты из темных шкафов, листает их. Отрывается от книги, прислушивается, как на своей половине играет на рояле донна Паола, мама…
…Главный конструктор, жесткий человек, облеченный большой властью и такой же ответственностью, выходит из подъезда на широком проспекте в Москве, поеживаясь, прячет лицо в воротник от косо летящего ноябрьского снега, садится в машину.
В то утро мы условились, что я снова приду к нему дней через десять. А через неделю его не стало…
И я вспоминал и вспоминал потом его интонации, знакомые до мелочей привычки и жесты… И по-новому слышались – нет, словно виделись в старом немом кино – его такие недавние рассказы.
…Роберто ди Бартини в Венеции, в компании молодых аристократов, веселящихся на карнавале, расспрашивает артиста, мага-гастролера, о его таинственном искусстве: шарлатанство оно или наука? Маг говорит: «Примерно пополам», – и предлагает обследовать присутствующих на предмет обнаружения у них свойств, называемых телепатическими. Хохот, от которого звенят синеватые хрустальные бокалы…
…Сообщение в «Известиях», в вечернем выпуске 8 августа 1967 года: «В Кремле 8 августа группе товарищей были вручены ордена и медали Советского Союза… Ордена Ленина за заслуги перед Советским государством вручены Маршалу Советского Союза В.Д.Соколовскому, министру судостроительной промышленности Б.Е.Бутоме, министру радиопромышленности В.Д.Калмыкову, генералу армии П.И.Батову, тов. Р.Л.Бартини, постоянному представителю СССР в Организации Объединенных Наций Н.Т.Федоренко».
Тов. Р.Л.Бартини… Больше ни слова. Конечно, это диктовалось необходимостью.
Он очень торопился в последние годы. Некоторые свои работы он закончить не успевал, понимал это и спешил, насколько это позволяли уходящие силы (помните? – «Я его прошу: ну, пожалуйста, ну еще немного постучи!»), довести их до наивозможной ясности, надеясь, что кто-то ими заинтересуется, закончит их после него. Поэтому на четвертом этапе своей жизни, после 75 лет, он еще больше упростил свой быт, экономя часы, минуты… и в то же время стал чаще видеться с людьми. Поэтому и повесть писал, хотя и урывками, вставляя в нее популярные рассказы о сложных научно-технических делах. А в одно из наших ночных бдений я нашел в бумагах Бартини несколько сколотых булавкой листков – рассказ о его первом вечере в московском общежитии. Он вспоминал с позиций гораздо более позднего времени о прошлом и пытался угадать будущее; это были размышления уже много пережившего человека, скорее всего – заготовка для повести.
Бартини писал, что, когда он вступил в компартию, в 1921 году, его отец был уже государственным секретарем Итальянского королевства[7]7
В 1919 году Фиуме был захвачен отрядом итальянских националистов Д'Аннунцио. Лодовико ди Бартини уехал в Рим и вскоре стал государственным секретарем королевства.
[Закрыть]. С отцом пришлось расстаться. Без ссоры, но решительно. Больше они не виделись, только изредка переписывались. Мама Паола давно умерла. В Аббации, дачной местности недалеко от Фиуме, снимала виллу мамина сестра, одинокая тетя Елена, единственный родной человек, с которым Роберто встретился, вернувшись из русского плена. Он был на нелегальном положении, поэтому сначала послал к ней мальчонку из булочной и, расцеловавшись, объяснил, что в лагере под Владивостоком, в офицерском бараке, числился «совверсиво» – бунтарем, большевиком и, значит, упаси ее бог проговориться о его плене! Он просто надолго уезжал по своим делам…
Все в этих местах оставалось прежним, замерло, ничего не изменили в здешнем укладе война, революции, перекраивание карт… Мировой славы курорт на берегу теплой бухты, с трех сторон отгороженной от остального континента изогнутым горным хребтом, прикрывшим ее от северных ветров. Праздная толпа на улочках, островерхие крыши каменных домиков, наклоненная к морю площадь с церковью. На паперти калеки, нищие в лохмотьях. Чистый звон колокола: клим-клан, клим-клан… Внутри храма длинные, потемневшие за столетия скамьи, запах ладана, в высоких витражах тусклый свет угасающего дня…
С площади Роберто поднялся к бывшей отцовской резиденции, постоял у решетчатых ворот. Рассмотрел сквозь решетку уходивший за дом сад – мама любила гулять там с черной вежливой Алисой, а подросший Роберто катался по дорожкам верхом на пони. Представил себе покои дома: свои комнаты, будуар донны Паолы с легким запахом туберозы, маминых духов, кабинет отца. В кабинете – застекленные книжные шкафы до потолка, удобные тяжелые мягкие кресла вокруг стола с резными, красного дерева, подставками для книг, бронзовые часы, их гулкий бой, большую картину с дубовой ветвью внизу рамы: эпоха Рисорджименто (национально-освободительное движение итальянцев), казнь тринадцати пьемонтских генералов повстанческой армии. Австрийскому сановнику надо было иметь достаточно отваги, чтобы держать у себя подобную картину! Пасмурный рассвет, столбы с перекладинами, свисающие с перекладин веревки… Бартини-старший рассказывал сыну, кто и как выращивает пшеницу, строит дома и исцеляет болезни; чего требовали рабочие элеватора, прошедшие однажды с красными флагами по улицам Фиуме. Рассказывал, по каким законам движутся в небе планеты и звезды и что за сила подняла в воздух аэроплан, пролетевший как-то в воскресенье над бухтой; и почему оскудел некогда могущественный род князей Скарпа, соседей Бартини.
Поднявшись выше, на каменистую площадку, Роберто увидел вдали полузакрытые дымкой острова, пригороды, порт, гостиницы, пансионаты в лавровых рощах, на несколько километров протянувшийся вдоль извилистого берега деревянный помост, а дальше – белые яхты, катера, лодки… Плавать Роберто выучился в купальне «Анджолина», защищенной сеткой от акул, гимнастике – в спортивном клубе «Кварнеро». Мог в любое время, если ветер был не слишком крепок, выйти в море на вице-губернаторской двухмачтовой шхуне. Тренер по плаванию Карло называл мальчишку «ваша милость»; пожилой, дважды побывавший в кругосветном плавании капитан шхуны при появлении «его милости» брал под козырек, в пути старательно объяснял свои команды и действия матросов. Изучив корабль, назначение и устройство оснастки, Роберто построил модель шхуны, капитан очень ее хвалил.
Развитие человека должно быть гармоничным, считал барон Лодовнко, воспитание – трудовым, и его наследник был постоянно занят, к огорчению друзей – Бруно, Ненко, красивой Джеммы. Книги, школа, работа, спорт…
И опять можно задаться вопросом: а не правильнее было бы деловому человеку забыть все, что минуло? Ну хорошо, допустим, что-то сказать об этом в повести следовало, как о факте из биографии, – но по крайней мере без «лирики»… Он ведь порвал с прошлым; значит, ни к чему такие воспоминания начальнику отдела Научно-опытного аэродрома, что на Ходынке в промерзшей Москве, и, тем более, главному конструктору в конце его нелегкой жизни!
Ничего из прошлого Бартини не забывал. То, что случилось с ним в первые двадцать пять лет жизни, было связано с его настоящим. И, сравнивая себя в прологе со звеном в длинной цепи своих предков и потомков («Стык грядущего и прошедшего…»), он пишет:
Каждый миг вечен.
Неразрушимо звено
Неразорванной цепи
Вечного свершения.
В нем я живу…
А его цепь переплетена с другими, со множеством других, и это сплетение тоже не прерывается нигде. Оно единое, целое:
Вселенная существует во мне неотделимо.
Как в шаровом зеркале,
весь мир
во мне отображен.
Впрочем, стихов в повести мало.
2
В детстве, в родительском доме, Роберто имел все, что только могла пожелать его душа, и вскоре привык к этим возможностям. Захотел получить заводную куклу в человеческий рост и музыкальную шкатулку – кукла и шкатулка были доставлены немедленно. Пожелал встретить Новый год – и на детском празднике в доме Бартини танцевал «весь Фиуме». Соскучился мальчик – и семейство ди Бартини вместе с тетей Еленой отправилось в путешествие – через прохладные хвойные альпийские перевалы, мимо виноградников и рисовых полей цветущей Италийской низменности. В конце второго дня прибыли в Венецию, город искусства, доблести, умельцев, предприимчивости, розового мрамора, гондол, карнавалов, цветов – и свинцовых камер подземных тюрем. Приезжих ждут не извозчики – лодочники. Пахнет плесенью ленивая вода каналов, с горбатых мостиков удят рыбу. Семейство поселяется в дорогой и все равно замызганной гостинице: такой ее содержат для колорита. Полы в ней каменные, электричества нет, по вечерам горят свечи в громоздких серебряных канделябрах, снизу, из ресторана, доносятся запахи жареной баранины, лука и чеснока, женские крики и хохот, и вдруг тишина; потом кто-то мастерски играет на гитаре, поет баркаролу… Скучать некогда. Роберто катают по Канале-Гранде, показывают дворцы, везут к собору святого Марка, на площадь, полную голубей, знакомят с Изой, дочерью танцовщицы Айседоры Дункан. Он присутствует при старой символической церемонии – обручении города с морем: мэр Венеции, в облачении дожа, бросает с лодки в море золотое кольцо. Видит «чудо двадцатого века» – электробиоскоп. Фильм о капитане Немо. По просьбе Роберто вице-губернатор берет к себе на службу, увозит с собой чету нищих венецианцев и их единственное сокровище – то нежную, то скандальную замарашку Джемму…
Дома, в Фиуме, Роберто решает учиться фехтованию. Жилистый, небольшого роста, прыгучий, как мячик, популярный в городе тренер громко топает, наступая и отскакивая, командует: «Терца!.. Квинта!.. Кварта!.. Финта!.. Кварта!!! Ин гвардия! Аттенти! Брависсимо!..» Через двенадцать лет какой-то офицер в римском кафе оскорбил боевиков компартии. Бартини вызвал офицера на дуэль и отрубил ему ухо. Пригодились уроки.
В отцовской библиотеке Роберто обнаружил и прочел толстую книгу «Невидимый мир» – о жизни мельчайших организмов, после чего попросил купить ему микроскоп. Через два месяца прибыла посылка из Германии.
Вскрыта многослойная упаковка, отперт продолговатый полированный ящик из красного дерева, с бронзовой ручкой и бронзовым ключом. В ящике – волшебный инструмент, золотистый и черный и почему-то пахнущий кедром.
По многу часов почти каждый день Роберто и взявший над ним шефство домашний врач семейства Бартини доктор Бальтазаро проводили у микроскопа в наблюдениях и беседах. Нередко заходил к ним вице-губернатор. Интерес мальчика к невидимому миру переставал быть просто увлечением, занятия длились порой до глубокой ночи.
Минуло полвека с лишним. В июле 1969 года, тоже как-то ночью, Роберт Людовигович, пошуршав в коридоре пленкой, укрывавшей стеллаж, принес мне оттуда старинную книгу со сломанным медным замочком, с вытесненной на кожаном переплете обезьяньей мордой и вынул из книги тетрадный листок – схему микроскопа, нарисованную нетвердой рукой. И пошло…
Приученный уже к самым неожиданным поворотам мысли Бартини, я слушал его рассказы об окулярах, микротомах, апертурах и прочей оптике. Слушал внимательно, уверенный, что все это говорится не зря, а имело и, наверное, имеет для него смысл, пока от меня скрытый, как был скрыт от случайных визитеров смысл картин на отвлеченные темы на стенах его квартиры.
…Доктор и «его милость» – подросток Роберто рассматривали сверкавшие в растворе, быстро растущие кристаллы соли. Меняли увеличение – четыреста пятьдесят, тысяча двести, две тысячи! – но очагов, начал кристаллизации не видели, а единственно убеждались в существовании неудержимого стремления чего-то хаотического к гармонии и красоте, поскольку кристалл красив[8]8
«Мостик» от этих рассуждений к своему прямому делу, к самолетостроению, Роберт Людовигович попытался перекинуть для меня позже. К авиации, сказал он, вообще ко всяким летучим устройствам и их создателям люди относятся почему-то с особенным интересом. Почему? Потому прежде всего, что летательный аппарат красив наивысшей в технике красотой – целесообразностью. Не один лишь архиталантливый Туполев, а и любой опытный авиатор почти безошибочно судит о самолете по совершенно как будто не техническому критерию: «смотрится» машина или «не смотрится». Но ведь и корабль, и танк целесообразны! Больше того, навсегда останутся красивыми и «Санта-Мария» Колумба, и венецианские галеры. А вот аэропланы начала века могут сейчас эстетически умилить разве только историков авиации…
К сожалению, на этом моя запись оборвалась. Не думаю, что я тогда чего-то недописал, – скорее всего, Бартини недоговорил.
[Закрыть]. Бесконечно малое где-то соединялось с большим – не это ли основа всякого существования?
Да, соглашался доктор, хотя сам же и подводил Роберто к этому вопросу. Но никто пока не знает, где они соединяются и как… И тем более никто не знает, где, как и что вызывает важнейшее в природе явление – переход «мертвого» вещества в «живое». Предполагается лишь, что давным-давно жизни на Земле не было, а потом она вдруг возникла, – возможно, в виде клочков белковой слизи в еще теплой грязи древних водоемов остывающей планеты. Эти комочки могли сначала состоять из сложных, но одинаковых молекул, а через миллионы лет родилась новая форма живого – клетка, тоже капля жизни, но уже сложенная из разных молекул, выполняющих разные физиологические функции. Разделив обязанности, клетки могли лучше помогать друг другу, сообща производили больше движений, успешнее боролись с враждебными внешними силами.
Понятно, что я здесь излагаю не последние взгляды биологов на происхождение жизни, а те, которые полвека назад формировали мировоззрение подрастающего Роберто.
Доктор готовил препараты заблаговременно, чтобы скорее провести своего ученика по ступеням знаний.
– Подойдите к окуляру, Роберто. Мы не можем увидеть наше прошлое, но, обратите внимание, историческое развитие многоклеточных повторяют их зародыши. Видите: плотный комок клеток-морула, пустой пузырек – бластула, двуслойный с отверстием впереди – гаструла. Ее далекого предка великий Геккель назвал гастреей[9]9
Гастрея («гастреа» – произносил Бартини) – предположенный Геккелем общий предок всех земных животных, мешкообразный двуслойный организм, обитавший в водоемах.
[Закрыть]. Это – нечто восхитительное! Это – заключение первого Общественного Договора: впервые индивидуумы стали членами такой общины, И которой благополучие каждого из них полностью зависит от совместных действий всех во благо всем. Достаток каждого члена сообщества отныне охраняется всей колонией, жизнь его вне общины становится просто невозможной. Гастрея – община и в то же время личность, но личность неизмеримо более совершенная, чем отдельный член общины. Она больше, чем простая сумма, она – начало того этапа развития жизни на Земле, который продолжается и поныне…
Впрочем, как простые результаты наблюдений, как бесспорные научные истины они излагались во всех гимназиях и училищах. Без выводов, тем более общественных. Выводы каждый мог делать в меру своего разумения. Для большинства учеников все это оставалось обычной нудноватой школьной дисциплиной, которую сдать бы поуспешнее и скорее забыть. Кому она нужна, кроме, конечно, тех, кто собирался стать биологом…
Родители не спешили знакомить Роберто с грубой прозой жизни, однако не скрывали от него, что в мире нет полной гармонии, что по-разному живут люди.
Отец никогда не подавлял сына своим авторитетом. Даже когда Роберто-гимназист под влиянием товарищей стал покуривать и гувернантка в ужасе доложила об этом господину барону, тот подарил сыну коробку папирос и пробковый мундштук. И Роберто бросил курение – говорят же, что только запретный плод сладок.
Роберто превосходно успевал в гимназии. Пожалуй, слишком успевал, с точки зрения родителей и преподавателей: чересчур быстро и доверчиво – прямо так, как видел и слышал, – усваивал знания, не сверяя их с собственным опытом. Да и мало еще было опыта у Роберто, зато памятью природа наделила его, как теперь бы сказали, «фотографической»: он запоминал все и навсегда. Рассудительный, умевший спокойно взвесить любые обстоятельства, Лодовико ди Бартини, разумеется, поощрял стремление сына к знаниям: они что-то постепенно меняют в сложившемся, далеко не идеальном порядке вещей. Но кроме простой суммы сведений и научных идей, многие из которых весьма увлекательны, считал барон, истинно просвещенному человеку нужно чуть-чуть скепсиса. Не все в жизни целиком согласуется с самыми мудрыми сочинениями…
Что Роберто эту «несогласованность» совершенно не чувствует – его близкие поняли слишком поздно, когда уже мало что могли в нем изменить. Характер сформировался. Им оставалось только помогать мальчику, потом юноше в каждом отдельном случае, кое в чем осторожно его подправлять, оберегать, прислушиваясь к велениям своих любящих сердец.
Да, некоторые странности в его поведении, в том, как он воспринимает окружающее, можно было заметить еще задолго до гимназии. Например, он ничего не боялся: в пять лет темным осенним вечером ушел один в заброшенный парк князей Скарпа, чтобы увидеть фею, жившую, по преданию, в боковой башне пустующего замка. К этой башне, сложенной из небольших валунов, – чуть подует ветер – загудит внутри на разные голоса, – добрые люди и днем решались приближаться только компаниями. В парке Роберто заблудился, заснул под папоротником. Искали его с факелами, прочесывали заросли и нашли под утро спящего, простуженного, в жару. Нашла черная Алиса. Вице-губернатор подал знак: тише! Уберите собаку. Думал, что сын в обмороке, напуган…
Роберто осторожно перенесли домой на руках, около двух недель он потом пролежал с высокой температурой. Объяснить бы ему после этого, что просвещенный человек может восхищаться народными легендами, но не должен всерьез принимать фей, колдунов, гномов, привидения, все эти остатки древних суеверий. Нет, не объяснили, как следовало бы, – не решились мешать «свободному развитию свободного гражданина», подавлять его волю. Только мама Паола, чтобы он сам увидел разницу между настоящей, научной фантастикой и глупыми выдумками, стала, пока он болел, вслух читать ему «Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна. Книга была в библиотеке на немецком языке. И опять явный симптом отклонения от нормы: следя за строчками, Роберто за три недели выучился читать по-немецки. (А всего, между прочим, Бартини знал впоследствии семь языков и еще на двух читал, но не говорил). Футболом, плаванием, фехтованием Роберто тоже занимался с таким рвением, так ликовал, побеждая на детских соревнованиях, а потом и на взрослых, что и это в конце концов встревожило отца. Быть первым в спорте похвально, но не собирается же мальчик, следуя новейшим веяниям, превратить спорт в свою профессию?..
Одно время большие надежды барон Лодовико возлагал на своего друга Бальтазаро. Увлекшись под влиянием доктора естествознанием, началами философии и историей, Роберто принялся сочинять историю рода Бартини, но начал ее – с зарождения жизни на Земле… Путаясь, мучаясь, разложив на полу десятки раскрытых книг, исписал кипу листов: рассуждал о происхождении и назначении жизни, о «воплощении, переплетении и взаимопроникновении вещей». И это в тринадцать лет! Зерно и колос, писал он, – одно, поскольку колос вырос из зерна, а зерно – из колоса; мальчик, мужчина и старик – тоже одно… Где оно скрыто, их единое? В первое время барон приветствовал это сочинительство, считая его безобидным упражнением ума под контролем доктора, потом всполошился: у Роберто слишком разыгралось воображение, это могло пойти в ущерб учению.
Попутно с подобного рода блужданиями, временными, как надеялись родители, попутно с успехами в полезных науках, особенно в математике, физике и языках, Роберто овладевал и такими умениями, смысл которых был вовсе уж непонятен его близким и учителям. Мог быстро нарисовать одновременно правой и левой рукой две половины какой-нибудь симметричной фигуры, и если потом эти половины совместить, они оказывались точными, зеркальными отражениями одна другой, образовывали целую фигуру. Лекции в гимназии записывал и как все ученики, нормально: слева направо, – а мог записывать левой рукой справа налево, зеркально, подражая Леонардо да Винчи. И уверял, что все люди так могут: ведь все мы легко делаем симметричные синхронные движения руками!
«Странности» Роберто не исчезали со временем, а лишь усугублялись. Я узнал его, как уже писал, 60-летнего; каким он был в зрелости и молодости, мне рассказал отчасти он сам, очень скупо, некоторые документы, а главным образом его коллеги и друзья, в том числе старейший его друг, с 1920 года, – архитектор Б.М.Иофан. Родился Борис Михайлович в Одессе, учился и долго жил в Италии, и это его биографию, ее подробности, Бартини использовал в «легенде», когда эмигрировал в Россию. Недалеко от Рима Иофан построил виллу для барона Роберто ди Бартини, а на самом деле конспиративную квартиру для коммунистов…
Бартини никогда не ощущал голода, ел по часам, если не забывал взглянуть на часы. А если забывал, то не ел. На всякий случай на столе в большой комнате у него дома всегда стояла какая-нибудь еда. Однажды в КБ он упал в обморок, словно заснул, уронив голову на расчеты. Прибежал врач и определил, что Бартини обезвожен, – оказывается, он и жажды никогда не ощущал. Некоторых общепризнанных правил, норм он тоже не ведал. В последнее наше с ним свидание и расставание, когда он одевался в прихожей, я сказал, что его пальто давно пора сдать в утиль.
– Очень хорошее пальто. Греет.
– Шапка? Ею пол натирать…
– Хорошая шапка!
Я тогда несколько преувеличивал, пальто и шапка у него не были совсем уж никудышными, но все же, хорошо это или плохо, а давным-давно сложились неписаные нормы, в чем прилично ходить человеку определенного общественного положения, а в чем неприлично. Странно было бы, например, директору явиться на работу в джинсовой паре. А Бартини все это было безразлично. Еще до войны однажды большой аэрофлотовский начальник, когда к нему приехал Бартини, вызвал секретаря:
– Пожалуйста, оденьте главного конструктора!
Сняли мерку, принесли со склада новенькую летную форму. Бартини переоделся, а то, в чем приехал, оставил на вешалке в приемной.
Кое-кто считал, что страха он тоже не ведал – был совсем будто бы лишен этого во многих случаях спасительного чувства. В детстве, как рассказывал Роберт Людовигович, быть может, это действительно было так. Потом – иначе. По-моему, он лишь умел подавлять страх, как и другие свои эмоции. Я уже говорил, что видывал его и обиженным, и обозленным. Видел и испуганным. А больше всего он боялся надвигающегося, близкого конца. Но таким Бартини бывал только дома, на людях же держался безупречно спокойно – до такой степени, что мог и впрямь показаться бесчувственным, как и чересчур прямолинейным. Самые лучшие отношения, не говоря уж о плохих, требуют иногда маневра, а он этого не признавал, – может быть, не понимал или не хотел понимать. И бывало – ошибался. К счастью, не всегда.
Тратил он, безусловно, нервы и в делах; только и в делах никогда не хитрил, уверенный, что надо лишь истину выявить – и все немедленно само собой станет на свои места. Так было при столкновении с руководством ЦКБ; в результате Бартини, уже главного конструктора, уволили тогда из авиапромышленности. От дальнейших неприятностей его избавили М.Н.Тухачевский и Я.Я.Анвельт, но ничьей административной помощи, то есть не по существу технического спора, он не искал, а просто встретил на улице Анвельта, случайно, и тот спросил, как работается уважаемому главному конструктору…
Стойкость – не верю, что бесчувственность, – вела Бартини и в истории с жалобой на будто бы неуправляемый самолет «Сталь-7», и в истории с тяжелым дальним сверхзвуковым самолетом. Заключение на этот проект он получил такое: заявленные конструктором характеристики машины не подтвердились, – и, не имея в то время своего ОКБ, обратился за помощью, но опять же лишь за технической, в другое ведомство – к С.П.Королеву.
Обратился, следуя одному из «четырех конструкторских принципов» – их определил однажды, расфилософствовавшись в перерыве между полетами, шеф-пилот довоенного бартиниевского ОКБ Николай Петрович Шебанов:
– Для успеха нам нужно, во-первых, многое знать. Нелишне также знать пределы своих знаний, не быть чересчур самоуверенными. Юмор нам нужен, чтобы не засохнуть, как вот эта ножка стола. А еще нам нужна поддержка в трудную минуту!
В начале 30-х годов С.П.Королев работал в моторной бригаде ОПО-3 – опытного отдела Наркомтяжпрома СССР – под руководством главного конструктора Бартини. Роберт Людовигович не считал себя учителем Королева (слишком коротким оказалось время их совместной деятельности, да и были у Королева прямые учителя: Циолковский, Цандер, Туполев), но что-то он, естественно, дал будущему конструктору ракетно-космических систем. И Сергей Павлович этого не забыл, как не забывал ничего хорошего. Исследования проекта были повторены в одной из лабораторий С.П.Королева и характеристики получены те, на которых настаивал Бартини.
Роберт Людовигович тоже с готовностью и умело помогал другим конструкторам. В переделке пассажирской машины «Сталь-7» в бомбардировщик ДБ-240 он участвовал, руководил работой, но по совместительству – на заводе, где главным конструктором стал тогда Владимир Григорьевич Ермолаев. Впоследствии этот самолет назвали «Ермолаев-2», Ер-2, и справедливо, считал Бартини:
– Володя был настоящим главным, самоотверженно-трудолюбивым, прекрасно образованным, человеком был хорошим и, что самое важное, талантливым. Мы это вскоре заметили. Но пришел он к нам совсем молодым инженером, к тому же в самолетостроении в то время утвердилась правильная в общем, научно обоснованная система разделения труда: каждый конструктор должен был специализироваться в чем-то одном, в одной бригаде – крыла, оперения, аэродинамики, прочности, моторной… В целом система рациональная, однако для проявления таланта именно главного конструктора она оставляла мало возможностей. Знания углублялись, производительность труда конструктора росла, зато круг его интересов суживался.
Посоветовавшись о Володе, мы направили его сначала в бригаду аэродинамики: рассчитай крыло! Оттуда – в бригаду прочности: рассчитай конструкцию крыла на нагрузки, которые сам же определил как аэродинамик. Оттуда – в конструкторскую бригаду: вычерти крыло! Оттуда – на производство. И опять к аэродинамикам: рассчитай оперение! В бригаду прочности: рассчитай конструкцию…
И так – по всем бригадам и цехам, по всем агрегатам, в несколько кругов. Очень эффективный прием, думаю, что он и сейчас годится.
…Я упомянул летчика Н.П.Шебанова. Бартини говорил о нем не просто с уважением, а с чувством, мне казалось, совсем Роберту Людовиговичу не свойственным – с нежностью.
Работали они вместе недолго, Николай Петрович испытывал только «Сталь-7». Году в 1938-м машина эта опять показалась кому-то фантастической – уже после того, как ее облетали А.Б.Юмашев, П.М.Стефановский и И.Ф.Петров. Нашлись и в ОКБ люди, готовые на все: предложили свезти опытный самолет на свалку, чертежи сжечь…
Дело было на собрании, слово взял Шебанов:
– Хорошо, допустим, что самолет наш ужасен, летать может только по гнусному недосмотру, хотя и не было здесь приведено ни одного обоснованного соображения на этот счет. Так, один испуг… Но предположим, какие-то пока не ясные нам технические соображения все же имеются. Вот и скажи нам ты, Коля, ты разрабатывал крыло: что же оно – сделано фантастическим? А ты, Миша, скажи нам как конструктор шасси: оно сломается при взлете или посадке? И ты, Витя, моторист: моторы заглохнут?
(Имена я здесь заменил, Шебанов назвал другие.) Все перестраховщики – их нашлось немного, человек десять, но шумных, – мигом прикусили языки. Испытания самолета закончились, а 28 августа 1939 года Н.П.Шебанов, второй пилот В.А.Матвеев и бортрадист Н.А.Байкузов установили на «Стали-7» международный рекорд скорости на дальности 5000 километров, пролетев по маршруту Москва – Свердловск – Севастополь – Москва. Планировался кругосветный перелет; «Сталь-7» уже доработали: разместили в ней 27 бензобаков общей емкостью 7400 литров, – но совершить его не дала начавшаяся война.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































