Текст книги "Ловушка для гения. Очерки о Д. И.Менделееве"
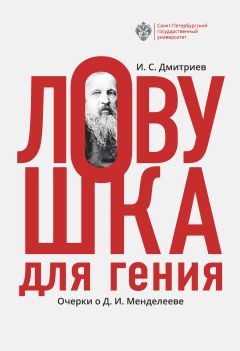
Автор книги: Игорь Дмитриев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
«Иная, лучшая потребна мне свобода»[92]92
А. С. Пушкин. «Из Пиндемонти» (1836).
[Закрыть]
Дамы и господа, внутренней свободы нет вообще, это даже не иллюзия. Это вранье! Свобода… – одна. Она не делится как ломтик сыра или апельсин на части.
А. М. Пятигорский, «Лекции по философии»
Итак, – возвращаюсь к образовательным проблемам моего главного героя, – у Д. И. Менделеева (а точнее, у его матушки) выбор в 1849–1850 годах был невелик. Университеты отпадали, и не потому, что стали принимать из «своих округов»[93]93
Кстати, часто встречающееся утверждение, будто Тобольская классическая гимназия относилась к Казанскому учебному округу (см., например: [Младенцев, Тищенко, 1938, с. 78]), требует уточнений. Еще в конце 1828 года было постановлено: «По затруднениям иметь Казанскому университету надзор за учебными заведениями, в Сибирских губерниях состоящими, подчинить сии заведения начальству тамошних гражданских губернаторов (которые наделялись правами попечителей учебных округов. – И. Д.), независимо от состава учебных округов» [ПСЗ-II, т.3, № 2502]. А в законе от 12 января 1831 года было сказано: «Казанскому [учебному округу составляться] из губерний: Казанской, Вятской, Пермской, Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Саратовской и Оренбургской. ‹…› Учебные заведения… находящиеся в губерниях: Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской, [остаются] под надзором гражданских губернаторов сих губерний» [там же, т.6, ч.1, № 4251]. Как видим, за три года до рождения Менделеева сибирские губернии были выведены из состава Казанского учебного округа, в частности Тобольская гимназия к Казанскому учебному округу уже не относилась, она вообще не относилась ни к какому учебному округу. Западносибирский учебный округ был создан только в 1885 году [ПСЗ-III, т.5, № 2808]. Упоминаемый в литературе «казанский вариант» получения Менделеевым высшего образования, отвергнутый Марией Дмитриевной, в принципе мог обсуждаться, но только по причине того, что в Казанском университете число своекоштных студентов было почти в два раза меньше контрольной цифры императора и прием на первый курс там продолжался.
[Закрыть], а потому, что перестали принимать вообще. А кроме того, Менделеев не мог быть принят в университет по причине четверки по поведению и тройки по латинскому языку[94]94
Замечу попутно, что выдающийся русский музыкант М. А. Балакирев не смог поступить в Казанский университет (при том, что там училось мало своекоштных студентов) потому, что у него была четверка по поведению и тройка по латыни, как у Менделеева.
[Закрыть] в его и без того отнюдь не блестящем аттестате.
Можно, конечно, обсуждать весомость связей Василия Дмитриевича Корнильева и возможности как-то обойти императорский рескрипт, но крайне сомнительно (я мягко выражаюсь), чтобы кто-то из университетского начальства рискнул нарушить высочайшую волю (да и как учить это юное сибирское дарование с весьма посредственным аттестатом, если первого курса официально не было). К тому же дядя Василий, по-видимому, не шибко старался пристроить племянника в высшее учебное заведение, полагая (ссылаясь на свой и братьев Менделеева пример), что для счастья жизни Дмитрию будет вполне достаточно того образования, которое он получил в Тобольской гимназии, а потому предложил сестрице устроить сына на службу в канцелярию губернатора, с чем Мария Дмитриевна категорически не согласилась (видимо, у нее с братом по этому поводу произошла размолвка) и по весне 1850 года отправилась с сыном и дочерью в Петербург.
Хоть и недолгим было пребывание Менделеева в Москве у дядюшки, но кое-что в его памяти отложилось крепко.
Из воспоминаний Ивана Дмитриевича Менделеева:
Проездом через Москву, на пути в Главный педагогический институт, пятнадцатилетним мальчиком в доме своего дяди, В. Д. Корнильева, богатого мецената и «любителя муз», отец знакомится с Гоголем.
– Гоголь сидел как-то в стороне от всех, насупившись, – говорил отец. – Но взгляд и всю выраженную в его фигуре индивидуальность забыть нельзя. Я многое тогда в нем понял. Гоголь – явление необыкновенное. Он на много голов выше остальных наших писателей, исключительная величина в нашей литературе. Это – величина всемирная, которую еще, вероятно, по-новому оценят. Он будет все расти, когда вся наша современность забудется. Гоголь не понимал сам себя, много напортил, не вынес своего дара. Но то, что он дал, покрывает все [Тищенко, Младенцев, 1993, с. 351].
Мемуарные записки Ивана Дмитриевича точностью и достоверностью не отличаются. Но достоверно известно, что зиму 1849–1850 годов Гоголь действительно провел в Москве. То, что он сидел «насупившись», неудивительно, ибо был человеком болезненным, в частности, сильно страдал желудком. Кроме того, для Гоголя то было время творческого «оцепенения», о чем он писал В. А. Жуковскому 14 декабря 1849 года: «Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? старость или временное оцепенение сил? Сплю ли я или так сонно бодрствую, что бодрствованье хуже сна? Полтора года моего пребыванья в России пронеслось, как быстрый миг, и ни одного такого события, которое бы освежило меня, после которого, как бы после ушата холодной воды, почувствовал бы, что действую трезво и точно действую. Только и кажется мне трезвым действием поездка в Иерусалим. Творчество мое лениво. Стараясь не пропустить и минуты времени, не отхожу от стола, не отодвигаю бумаги, не выпускаю пера – но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно. ‹…› Никакое время не было еще так бедно читателями хороших книг, как наступившее. Шевырёв пишет рецензию (на „Одиссею“ Гомера в переводе В. А. Жуковского. – И. Д.); вероятно, он скажет в ней много хорошего, но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими броженьями, за чтение светлое и успокаивающее душу» [Гоголь, 1988, т. 1, с. 223–224][95]95
И о том же Гоголь на следующий день пишет П. А. Плетнёву: «…нашло на меня неписательное расположение. ‹…› Дело в том, что время еще содомное. Люди, доселе не отрезвившиеся от угару, не годятся в читатели. ‹…› Никогда не было еще заметно такого умственного бессилия в обществе» [Гоголь, 1988, т.1, c.294].
[Закрыть].
Что же касается оценки Менделеевым творчества Гоголя, то при всей ее риторичности некоторые особенности личности и таланта писателя в менделеевской трактовке можно соотнести с оценкой гоголевского дара В. В. Набоковым, особенно в пятой главе его повести «Николай Гоголь»: «…проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир и открыл… многие теории, позднее разработанные Эйнштейном. ‹…› В мире Гоголя… ни нашей рассудочной математики, ни всех наших псевдофизических конвенций с самим собой, если говорить серьезно, не существует» [Набоков, 1996, с. 127–128].
В «Летописи…» про московские осенне-зимние месяцы 1849–1850 годов сказано, что это время «оказало несомненное влияние на формирование общекультурных интересов будущего ученого» [Летопись… 1984, с. 29]. Пустая казенная фраза. В действительности мы не знаем об этом периоде его жизни почти ничего.
В отличие от Ломоносова Менделееву не пришлось хитрить и лукавить, чтобы выйти «на более широкий жизненный путь» [Младенцев, Тищенко, 1938, с.77] в Москве или в Петербурге. Дмитрия Ивановича и в ту, и в другую столицу привезла мать, которая упорно не желала, чтобы ее «младшенький», окончив гимназию, пошел по стопам старших братьев, т. е. на госслужбу. Мария Дмитриевна твердо решила дать Дмитрию высшее образование. Чем она руководствовалась – трудно сказать. Согласно ходячей версии, она видела «исключительные дарования своего Митеньки» [там же], несмотря на то, что тот «окончил курс гимназии только удовлетворительно» [там же]. Возможно, сказались наблюдательность и материнская интуиция[96]96
Дмитрий Иванович утверждал позднее: «У меня мать пророчица была, пророческие сны видела, будущее предсказывала» [Сыромятников, 1907, с. 2].
[Закрыть].
Итак, по весне Менделеевы отправились в Петербург в надежде устроить Дмитрия в одно из высших учебных заведений Северной столицы. Перед тем, как перейти к годам дальнейшей учебы Менделеева, мне бы хотелось сказать несколько слов об отношении Дмитрия Ивановича к николаевской эпохе вообще и к образовательной политике властей в эту эпоху в частности.
Прежде всего замечу, что николаевское время вовсе не было лишено ярких талантов и достижений в науке и культуре. Правда, многие из тех, чьи главные достижения пришлись на время правления Николая Павловича, сформировались ранее, до 1826 года (Н. И. Лобачевский, Н. В. Гоголь, В. Я. Струве, Н. Н. Зинин и мн. др.). А что касается тех выдающихся деятелей науки и культуры, которые родились и учились в николаевское царствование (как, например, Д. И. Менделеев), то их пример лишний раз подтверждает справедливость слов Ювенала: «…величайшие люди, пример подающие многим, / Могут в бараньей стране и под небом туманным рождаться» [Ювенал, 1994, с.104]. В каждой эпохе найдутся гиганты, удачно балансирующие на плечах карликов.
Если, скажем, Н. А. Добролюбов, который был на два года младше Менделеева и тоже учился в Главном педагогическом институте в Петербурге (на историко-филологическом отделении), разделял весьма радикальные политические взгляды (не буду повторять то, что хорошо известно о революционерах-демократах из учебников и необозримой литературы) и с директором института И. И. Давыдовым у него, в отличие от Менделеева, сложились весьма натянутые, чтобы не сказать враждебные отношения, то Дмитрий Иванович был человеком иного склада.
О николаевской эпохе он говорил как о времени «большого формализма», «губящего в России много живого и талантливого» [Менделеев, 1995, c.279, 241], уточняя, что «сухой формализм производит в одно и то же время как то, что называется „канцелярщиной“, так и то, что составляет беспощадные „утопии“, он же губит и многое верное в началах, а выход из круга, по-видимому заколдованного, дается лишь любовью не только к общему, но и к частному, или индивидуальному» [там же, c.346]. А с этим в России всегда были проблемы.
И еще один фрагмент из «Заветных мыслей»:
В стране с неразвитою или первобытною правительственною машиною и промышленностью нет спроса для истинного образования, особенно высшего, и там, где господствуют вялость и формализм, самостоятельные специалисты с высшим образованием не находят деятельности в общественных и государственных сферах, а потому впадают или в метафизические абстракты и уродливые утопии, или просто в отчаяние и излишества, а в лучшем случае – в ненужную диалектику и декадентское празднословие. Истинно образованный человек, как я его понимаю в современном смысле, найдет себе место только тогда, когда в нем с его самостоятельными суждениями будут нуждаться или правительство, или промышленность, или, говоря вообще, образованное общество; иначе он лишний, и про него писано «Горе от ума» [Менделеев, 1995, c. 225–226].
Д. И. Менделеев при всей своей проницательности был чужд того, что называл «политиканством». Как и М. В. Ломоносов, он, весьма трезво оценивая российские реалии, не выступал, однако, ни публичным критиком режима (именно режима, а не отдельных сторон российской действительности), ни, тем более, борцом с ним. Короче говоря, Дмитрий Иванович, «блюдя достоинство и честь, не лез во что не надо лезть» (П. Вейс). Он, – опять-таки, подобно Ломоносову, – предпочитал не критиковать действующую власть, но использовать ее для реализации своих целей, что, по его, как любил выражаться, «крайнему разумению», в итоге шло на общее благо.
Конечно, он все видел и понимал. Об этом свидетельствует фрагмент из его дневниковых записей:
19 апреля [1861].
Опять утро в университете. Потом дернуло меня в Департамент пойти сельск[ого] хозяйства. ‹…› Не забуду чиновника, бежал он к двери товарища министра, перед дверью выпрямился, спину даже назад выгнул, полуотв[орил] дверь и так изогнувшись и взошел в дверь – срамно видеть-то, право, было – мертвечина какая. ‹…› Ушел было, да дернуло воротиться. И хорошо бы сделал, если бы ушел. Возмутило меня, и вижу, что себе врежý. Позвали, встали, пригласили сесть – молодой, кажется, а нет, все корень тот же, все бюрократ с ног до головы и всякого просителем считает. И не важничает, а все покрикивать хочется, и все грубо выходит. Смутил он меня этим резким тоном и этой видимостью вежливости. ‹…› Смутился и я – не могу почти слова сказать – скверность обуяла, и теперь вся грудь дрожит – отравил он меня. ‹…› Не привык я ни носу задирать, ни шеи гнуть, а у них надо и то, и другое делать, средина исключена. Пусть их царство и цветет – не нам там место – унизительно, опошлеешь с ними – скверно, и плакать хочется, и злоба берет [Менделеев, 1951, с. 142].
В публичных же выступлениях, Менделеев умел высказаться как бы и откровенно, но без раздражающей начальство резкой прямолинейности. К примеру, упоминая об экспансионистской политике России, Дмитрий Иванович выразился весьма деликатно: «…чрез всю прошлую нашу историю проходит очевидное стремление к определению географических границ России» [Менделеев, 1882, с. 13–14].
Но иногда, особенно на старости лет, его прорывало, и мысли, которые в 1861 году он доверял только дневнику, в начале XX столетия стал высказывать публично: «… знал на своем веку, знаю и теперь очень много государственных русских людей, и с уверенностью утверждаю, что добрая их половина в Россию не верит, России не любит и народ мало понимает, хотя все… действуют и мыслят без страха и за совесть, или, говоря более понятно, теоретическими оправданиями своих мыслей и действий обладали» [Менделеев, 1995, с. 340].
Бывало и какому-либо высшему сановнику доставалось от Менделеева, чаще, правда, за глаза. Приведу любопытное свидетельство А. В. Амфитеатрова из его очерка о Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде.
В химическом павильоне Д. И. Менделеева вышел курьез другого рода. Царь в нем ни при чем, – зато любопытно выказали себя два очень крупных россиянина с громчайшими, каждый в своей деятельности, именами: Д. И. Менделеев и С. Ю. Витте. Сибиряк и одессит.
Одним из эффектов выставки было то, что в павильонах царю ее показывали и у витрин делали разъяснения не заведующие отделами, но их помощники и сотрудники, студенты разных специальностей. Царю это понравилось. Настолько, что, когда Витте в каком-то отделе вмешался было в объяснения, Николай остановил его:
– Сергей Юльевич, не будем мешать господину студенту.
Д. И. Менделеев, на своем веку десятки раз представлявшийся царям, начиная с Александра II и кончая Николаем, конечно, нисколько не нуждался лично в новом представлении «обожаемому монарху». Но в его отделе было много важных новостей химической промышленности. Подчеркнуть пред царем их значение для развивающихся русских производств Менделеев посчитал необходимым. А потому, когда Витте, опередив царя, прибежал в химический павильон проверить, все ли там готово к приему и приведено в порядок после града, Менделеев заявил, что он желает давать государю разъяснения сам, и просил Витте представить его.
– Конечно, – воскликнул Витте, – конечно, Дмитрий Иванович! кто же больше вас имеет право на это и кто же даст лучшие разъяснения?… А что именно намерены вы показать государю?
Менделеев начинает водить его от витрины к витрине и, увлекаясь, разъясняет препарат за препаратом. Так проходит минут двадцать. Витте смотрит на часы:
– Извините, Дмитрий Иванович. Государь может быть каждую минуту. Мне пора ему навстречу.
– Так не забудьте, Сергей Юльевич? – посылает ему вдогонку Дмитрий Иванович.
– Не забуду, Дмитрий Иванович, как можно забыть! – откликается на быстром ходу Сергей Юльевич.
Он действительно не забыл и представил Менделеева Николаю, но… после того, как царь осмотрел павильон. А при входе царской четы Сергей Юльевич быстро провел ее мимо напрасно выдвинувшегося было Менделеева и сам повел к тем витринам, о которых великий химик только что, незаметно для себя, прочитал ему коротенькую лекцию. И пустился указывать и объяснять. А Менделеев, ошеломленный, двигался сзади, едва веря ушам своим. И, в очередь, – сибиряк то крепко ругался втихомолку, к утешению окружающих, то по-сибирски же восхищался «ловкачом»:
– Ну и мастер! ну и память! Нет, вы послушайте: ведь полчаса тому назад он не знал аза в глаза, а теперь так и режет… хоть бы запнулся! так и режет!..
На долю Витте выпало царское изумление к его глубоким познаниям и пониманию насущных промышленных нужд своего престола-отечества. На долю Менделеева несколько любезных официальных слов, столько же деловику нужных, как прошлогодний снег. Старик был очень разозлен, но, хитрый в своем кажущемся простодушии, предпочел faire une bonne mine au mauvais jeu (делать хорошую мину при плохой игре). И на другой день, завтракая в ресторане «Эрмитаж», заменявшем выставочной администрации клуб, сам громко повествовал свою неудачу в самом юмористическом тоне, ловко пересыпая похвалы талантам и памяти Витте крепкими сибирскими аттестациями его ловкачеству. Побил-таки одессит сибиряка! [Амфитеатров, 2004, 1, с. 229–230].
Несколько иначе этот же эпизод изложен в воспоминаниях чиновника В. А. Рышкова: «Когда государь и Витте удалились, он [Менделеев] сказал окружающим: „А? Каков Витте? Настоящий министр финансов, даже в мелочах не может удержаться, чтоб не сжульничать!“» [Рышков, 2007, с. 380–381].
В минуты откровенности Дмитрий Иванович, вспоминая времена своей юности, отдавал должное подъему промышленной активности при Николае I, не забывая при этом отметить и другую сторону дела: «В настоящее время (т. е. в 1882 году. – И. Д.) мы, так сказать, получаем плоды прошлого времени, когда заводчика и предпринимателя каждый чиновник мог третировать, как третировал помещик крестьянина. Дело заводское считалось, правда, терпимою, но все же не более как прихотью предпринимателя, и заводчик только тогда мог считать себя свободным от разных стеснений, определявшихся отсутствием ясного закона, когда был богат и умел дарить. Мне рассказывал один крупный заводчик, как исправник просто бил его отца, тоже заводчика, за то, что он не выполнил какого-то из требований. Тогда только помещик да чиновник могли считать свою личность обеспеченною, а потому, по силе вещей, самый заводчик стремился сделать своих детей помещиками или чиновниками» [Менделеев, 1882, с. 38–39].
И далее непременная оговорка, что все это было в позапрошлом царствовании, тогда как царствование прошлое (Александра II) «изменило все это» [там же]. Правда, тогда непонятно, что имелось в виду под словами: «мы получаем (в 1882 году. – И. Д.) плоды прошлого времени», т. е. времени, когда чиновники третировали заводчиков. Ну да ладно… Не будем придираться к словам, а продолжим лучше рассказ о начале петербургской жизни Менделеева в «мрачное семилетие» николаевского времени.
«Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут…»[97]97
А. С. Грибоедов. «Горе от ума» (действие 3, явление 21).
[Закрыть]
…Совместная жизнь, отсутствие внешних забот, руководительство первоклассных профессоров… привычка к самодеятельности… – вот что вырабатывало учителей…
Д. И. Менделеев, «Заметки о народном просвещении России»
Итак, Мария Дмитриевна, отправляясь с детьми в Петербург, надеялась, что там ей удастся устроить сына в приличное высшее учебное заведение. Правда, некоторые авторы расширяют перечень мотиваций матери Дмитрия Ивановича. К примеру, А. Кушнарёв добавляет: «Мария Дмитриевна решила попытать счастья в Cеверной столице: все-таки поближе к царю» [Кушнарёв, 2017, с.18]. Полагаю, что Мария Дмитриевна надеялась не на государя императора, с коим не имела личного знакомства, а на старые связи своего покойного мужа. Так надежнее.
В Петербурге она решила остановиться у своей старой тобольской подруги и дальней родственницы Александры Петровны Скерлетовой, которая снимала квартиру на Сергиевской улице (д.35).
Кроме того, Менделеевы часто бывали в гостях у статского советника Владимира Александровича Протопопова на Фурштатской улице (д.11), который был братом первой жены П. П. Ершова и у которого жили три племянницы Протопопова: Феозва (милая, вполне заурядная, весьма болезненная особа, ставшая впоследствии первой женой Менделеева), Александра и Софья. Биографы Менделеева любят описывать впечатление, которое на молодого Дмитрия Ивановича произвел Петербург. Но поскольку сам Менделеев никаких внятных свидетельств на этот счет не оставил, то я воздержусь от подобных рассуждений.
После того, как «университетский вопрос» для Дмитрия Ивановича был решен, надо было подумать о других возможностях получить высшее образование. Сначала юноша направил стопы в Медико-хирургическую академию, но не выдержал пребывания в анатомическом театре, о чем впоследствии кратко упомянул в автобиографических заметках: «…присутствовав при вскрытии – дурно[98]98
Дочь Ольга высказалась откровенней – «упал в обморок» [Трирогова-Менделеева, 1947, с. 10]. – И. Д.
[Закрыть], отказался» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 14]. Как выразились другие биографы Менделеева, Дмитрий Иванович «почувствовал, что для подготовки к деятельности врача не обладает достаточно крепкими нервами»
[Младенцев, Тищенко, 1938, с. 78]. Прекрасно сказано! Действительно, в характере моего героя иногда проявлялось нечто женское.
Вообще, поскольку определенного призвания юный Менделеев в себе еще не чувствовал, то, говоря современным языком, вузы перебирались в соответствии с материнскими амбициями в порядке убывания их рейтинга. В итоге остановились на Главном педагогическом институте (ГПИ) – как говорится, «нет дороги, иди в педагоги». Этот институт, который, напоминаю, в свое время окончили отец Менделеева и некоторые учителя Тобольской гимназии (что, впрочем, требует оговорок, см. примеч. 99), был задуман как высшая педагогическая школа и имел с Петербургским университетом не только общую крышу (оба располагались в здании Двенадцати коллегий), но и – что особенно важно – общую профессуру, в которую входили такие известные ученые, как физик Э. Х. Ленц, биолог Ф. Ф. Брандт, математик М. В. Остроградский, химик А. А. Воскресенский[99]99
Здесь уместно сделать некоторые уточнения, касающиеся связи между Главным педагогическим институтом и «воссозданием» (по версии СПбГУ, см., например, статью: [Кропачев и др., 2019]) Петербургского университета. Подготовка к открытию столичного университета велась с 1802 года. В 1803 году Учительская семинария была преобразована в Учительскую гимназию, закрытое учебное заведение для подготовки учителей, а в следующем году – в Педагогический институт, который рассматривался как «отделение, имеющего учредиться в Санкт-Петербурге университета» [ПСЗ-I, т. 28, № 21265, стб.270]. В 1816 году Педагогический институт был преобразован в Главный педагогический институт (т. е. главный по отношению к другим пединститутам, существовавшим тогда при университетах) с новым уставом. Первый параграф соответствующего постановления (от 23 декабря 1816 года) гласил: «Санкт-Петербургский педагогический институт, составлявший доселе временное отделение предположенного здесь Университета, утверждается в особенном и непременном существовании своем под названием Главного педагогического института» [Сборник МНП-2, т.1, № 334, стб.915]. При этом новый ГПИ был разделен на две части: академическую и учительскую (второе отделение). «Непременность» существования нового центра педагогического образования была нарушена спустя всего два года, когда на базе ГПИ стараниями С. С. Уварова был учрежден университет, точнее, как было сказано в соответствующем документе, озаглавленном «Первоначальное образование Санкт-Петербургского университета», «Главный педагогический институт приемлет отныне название С.-Петербургского университета» [там же, № 427, стб.1267]. Согласно проекту Уварова, получившему высочайшее утверждение 8 февраля 1819 г., ГПИ должен был со временем принять не только название, но и «вид и действие университета» [там же]. В своем «Объяснении касательно предполагаемого образования Санкт-Петербургского университета», представленном министру духовных дел и народного просвещения князю А. Н. Голицыну, С. С. Уваров подчеркивал, что отличия вновь учреждаемого университета от уже существующих перенесены им из устава ГПИ. Собственный устав университета, проект которого был представлен С. С. Уваровым в мае 1819 года, долго обсуждался, но так и не был утвержден. Таким образом, ГПИ, став университетом, прекратил свое существование. Однако спустя девять лет, уже при Николае I, институт был восстановлен. В указе императора Правительствующему Сенату от 30 сентября 1828 года, в частности, сказано: «Мы признали за благо сверх существующих уже… отделений при университетах учредить в С.-Петербурге особое заведение под названием Главного педагогического института» [Сборник МНП, т.2, 1-е отд., № 78, стб.157]. Открытие нового ГПИ состоялось 30 августа 1829 года. Его директором стал Ф. И. Миддендорф. Так что формально отец и сын Менделеевы учились в разных педвузах. По уставу ГПИ 1828 года рождения имел три отделения: историко-филологическое, юридическое (существовало до 1847 года) и физико-математическое. 7 января 1847 года директором института был назначен И. И. Давыдов, при котором юридическое отделение было упразднено.
[Закрыть].
Поступление в ГПИ, кроме всего прочего, означало получение в перспективе не специального, но широкого естественно-научного образования, причем, повторяю, практически у тех же преподавателей, которые вели занятия в университете. Однако Марии Дмитриевне стоило большого труда добиться, чтобы ее сына туда приняли. Трудности с поступлением были связаны прежде всего с тем, что с 1849 года в ГПИ стали принимать раз в два года, и 1850 год был неприемным. Но помогли кое-какие знакомства, а также старые связи Ивана Павловича. «В Главном педагогическом институте Чижов (математик), товарищ отца, помог» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 14], – лапидарно сообщает Менделеев в автобиографических заметках.
Дмитрий Семёнович Чижов (1784–1852), выпускник Тверской духовной семинарии, поступил в Педагогический институт, по окончании которого в 1808 году был отправлен за границу для «усовершенствования в науках». По возвращении на родину в 1811 году Д. С. Чижов назначается адъюнкт-профессором математики при пединституте, а с 1819 года преподает в Петербургском университете, где со временем занимает административные должности – декана физико-математического факультета (1835) и проректора (1836). К тому времени, когда Мария Дмитриевна обратилась к нему за помощью, Дмитрий Семёнович уже четыре года пребывал в отставке. Но былые связи сохранил и в университете, и в ГПИ, а к тому же пользовался заслуженным авторитетом у коллег. Он похлопотал и весьма удачно. В бумагах Менделеева сохранилась записка, датированная 17 марта 1850 года, в которой Дмитрий Иванович написал для памяти: «От имени Дмитрия Семёновича Чижова адресоваться к инспектору Главного педагогического института статскому советнику Александру Никитичу Тихомандрицкому[100]100
А. Н. Тихомандрицкий (1808–1888) по окончании Тверской духовной семинарии в 1829 году был определен в ГПИ, который успешно окончил в 1835 году, после чего отправлен за границу для дальнейшего образования. По возвращении в Россию преподавал сначала в Киевском университете, а затем, в 1848 году, его назначили инспектором ГПИ.
[Закрыть] (в 6-м часу пополудни)» [Младенцев, Тищенко, 1938, с. 79]. Видимо, к тому времени Д. С. Чижов и А. Н. Тихомандрицкий уже обо всем договорились.
Дело, однако, не только в связях Д. С. Чижова и его былой дружбе с отцом Менделеева[101]101
Возможно, что А. Н. Тихомандрицкий приходился не только земляком (как и Д. С. Чижов), но и дальним родственником И. П. Менделееву, но этот вопрос требует дальнейшего исследования.
[Закрыть]. Педагогический институт остро нуждался в притоке студентов. Начальство постоянно грозилось его закрыть. Поэтому по соглашению со
Святейшим Синодом руководство института рассылало по провинциальным духовным семинариям своего рода «рекламу», чтобы привлечь молодых людей. И многие, как, например, Н. А. Добролюбов, соглашались по окончании семинарии поступать в светское учебное заведение [Кудринский, 1895, с. 4][102]102
Правда, Добролюбов поступил в ГПИ не потому, что узнал об этом институте в Нижегородской семинарии, а по совету одного студента историко-филологического отделения ГПИ [Вдовин, 2017, с. 52].
[Закрыть].
1 мая 1850 года Менделеев подал прошение о приеме в Педагогический институт и в июне выдержал вступительное испытание, результаты которого, как и следовало ожидать, оказались хотя и достаточными для поступления, но отнюдь не блестящими: средний балл – 3,22 (по французскому и немецкому – двойки; нет, простите, по немецкому – 2,5!).
9 августа по представлению конференции института министр народного просвещения утвердил Менделеева в звании студента ГПИ по физико-математическому отделению. Кроме него, в неприемный год было принято еще семь человек; четверо из них зачислены на историко-филологический факультет и трое (не считая Менделеева) – на физико-математический[103]103
ЦГИА СПб. Ф.13. Оп.1. Д.3344. Л.1; Д.8307. Л.2.
[Закрыть].
Спустя десять дней институтский врач осмотрел новых студентов и нашел их вполне здоровыми. Теперь предстояла еще одна процедура, которая произвела на молодого Менделеева определенное впечатление. Но перед тем, как сказать о ней, следует остановиться на изменениях, произошедших в ГПИ начиная с 1849 года.
С этой даты, согласно предписанию министра, обучение в институте должно было длиться четыре года (а не шесть лет, как по Уставу 1828 года). При этом обучение включало два двухгодичных курса, а, следовательно, прием (как и выпуск) осуществлялся раз в два года, что и создало трудности для Менделеева при поступлении, поскольку, как уже было сказано, 1850 год стал неприемным. Количество казеннокоштных студентов сохранялось прежним – 100 человек. Однако молодые люди не спешили поступать в ГПИ, так как обязательная служба по учебному ведомству по окончании института составляла восемь лет, тогда как для выпускников педагогических отделений университетов – шесть. Соответственно, поступившие студенты должны были дать «обязательство» прослужить по окончании ГПИ не менее восьми лет при одном из учебных заведений Министерства народного просвещения по назначению начальства. По этому поводу Менделеев позднее вспоминал:
…Все заведение было «закрытым», имело первоклассных ученых профессорами и… от каждого, выдержавшего немудрое поверочное вступительное испытание[104]104
Видимо, на старости лет Дмитрий Иванович запамятовал, что это «немудрое» испытание он выдержал еле-еле. – И. Д.
[Закрыть], требовали расписки, обязывающей прослужить по учебному ведомству, – там, где будет назначено, – не менее двух лет за каждый год учения в институте. Тут все важно само по себе и, наверное, не было случайным, а было разумно соображено заранее. Ведь можно было бы, например, и просто объявить, что за учение предстоит обязательная служба там, куда пошлют. Нет – требовали расписку. Очень я хорошо помню, что в те 16 лет, которые прожил до поступления в Главный педагогический институт, никаких я никому расписок – да еще на какой-то отдаленный срок – никогда не давал. А тут заставили всю расписку самому написать. Оно, во-первых, удивило, во-вторых, было как-то лестно чувствовать себя уже решающим свою судьбу, а в-третьих, заставило много и не раз подумать с самого начала о том, что каждому из нас предстоит. А так как и все тут были такие же, вступившие в свободный договор и в одинаковый, да сошлись со всех концов России, одни из гимназий, другие из семинарий, одни с Кавказа или из Сибири, другие из остзейских и польских губерний, то взятые расписки влияли и на самых беспечных, неизбежно заставляя обдумать предстоящую карьеру и находить в ней свои скромные жизненные идеалы [Менделеев, 1901, с. 61].
Как всегда, Дмитрий Иванович очень точен, – ведь если государство берет на себя право восемь лет распоряжаться судьбой образованного человека, то идеалы у последнего могут быть только скромными.
Итак, все препятствия преодолены, все случайные обстоятельства сошлись наилучшим образом: классическая гимназия окончена в среднем на «удовлетворительно», т. е. умственные силы «сохранены свежими и не забитыми зубрежкою» [Младенцев, Тищенко, 1938, с.77], братья служили и были довольны своей судьбой, сестры, кроме Елизаветы, вышли замуж, фабрика в Аремзянке сгорела, старые отцовские связи сохранились и были эффективно использованы, ГПИ нужны были студенты, в силу чего вступительные испытания оказались «немудрыми». А потому, как выразился М. Е. Салтыков-Щедрин, «отслужили молебен и принялись уже за настоящую учебу» [Салтыков-Щедрин, 1965–1977, т. 17, с.64].
Поскольку Менделеев и еще несколько молодых людей были приняты в неприемный год, им предложили либо окончить полный институтский курс за три года (т. е. самостоятельно изучить все, что читалось в 1849/50 учебном году), либо, проучившись 1850/51 учебный год и сдав экзамены (!), потом снова начать обучение вместе с теми, кто поступит в 1851 году, т. е. окончить полный курс за пять лет. Менделеев, в отличие от некоторых других студентов, принятых «не в очередь», выбрал второй вариант. Учитывая его сравнительно слабую гимназическую подготовку, это было правильным решением. Разумеется, учиться ему было нелегко, поскольку приходилось слушать курсы «с середины», что сказалось на результатах: по русской и французской словесности, а также по астрономии он получил двойки, по остальным предметам – тройки (правда, по химии набрал 3,5 балла «за курс» и 4 – «за экзамен»). Короче говоря, оказался по успеваемости на 25-м месте из 28 возможных. Однако удивление вызывают не низкие итоговые оценки Менделеева (средний балл, если учесть четверку по поведению[105]105
Одна из причин, по которой Менделееву по поведению ставили четверку (эта четверка фигурирует и в его аттестате: «поведения хорошего, способностей отличных»), состояла в том, что он терпеть не мог форменной одежды и постоянно ходил в расстегнутом сюртуке [Младенцев, Тищенко, 1938, с. 95].
[Закрыть], получался 3,1, а если не учитывать, то 3, при двух двойках – по астрономии и французскому), а то, что он хоть как-то сдал экзамены[106]106
Кроме того, он представил на практических занятиях по русской словесности (их вел И. И. Давыдов), по которой у него в тот учебный год вышел средний балл аж 2,75 баллов, сочинение «Описание Тобольска в историческом отношении». К сожалению, эта работа Менделеева не сохранилась.
[Закрыть]. Далее, решение остаться на первом курсе было правильным еще и потому, что не перейти своевременно на старший курс – значило попасть по окончании института в уездные учителя (на второй год в ГПИ не оставляли). Да и куда ему торопиться? В институте хоть как-то, но кормили.
В следующем, 1851/52 учебном году дела пошли много лучше: стало больше четверок, появились пятерки (по химии, зоологии, ботанике, минералогии), тройки остались только по языкам (французскому – 2,75 и немецкому – 3,5), русской словесности и математике. Однако младший курс весной 1853 года он закончил вполне прилично: крепкие тройки стояли только по Закону Божьему, французскому и немецкому; по естественно-научным предметам – только пятерки; по математическим – четверки. На старшем курсе его успеваемость стала еще лучше, в ведомостях появлялись даже пятерки с плюсом.
Хотя процесс обучения в ГПИ был сильно забюрократизирован (регламентировались практически все стороны жизни студентов и преподавателей), тем не менее многие требования были вполне разумными, например профессорам вменялось в обязанность «не ограничиваться изложением своего предмета, а обращаться к учащимся с вопросами и по надлежащем с их стороны усвоении пройденных предметов заставлять самих студентов о них объясняться» [Младенцев, Тищенко, 1938, с.66]. Сейчас, если не ошибаюсь, это называется интерактивным обучением. Главное, для любой, даже тривиальной идеи найти подходящее красивое слово, лучше иностранное.
Кроме требования расписки были и другие обстоятельства, способствовавшие взрослению Менделеева и его ответственному отношению к своему жизненному выбору, «чтобы жизнь потом не заела» [Менделеев, 1901, с.81].
С началом учебы в ГПИ судьба послала Дмитрию Ивановичу новые испытания. В сентябре 1850 года умерла Мария Дмитриевна, в марте 1851-го – Василий Дмитриевич Корнильев, а весной 1852-го – сестра Елизавета. Более того, в 1851 году здоровье самого Дмитрия Ивановича стало ухудшаться. Он чувствовал усталость, плохо спал ночами, особенно после игры в шахматы, потом начались боли в груди, и однажды, когда он был в театре, началось кровохарканье. Петербургский климат был крайне немилостив к своим жителям, а к приезжим со слабыми легкими тем более. В ноябре 1852 года пришлось лечь в лазарет. И, судя по ежемесячным отчетам И. И. Давыдова в министерство, Менделееву приходилось находиться там подолгу: до июля 1853 года, весь осенний семестр 1854-го и весенний семестр 1855 года.
Потом в автобиографических записках он напишет: «1851 и до выхода болел, но работал много в больнице. Доктор Кребель. Товарищ Бётлинг, вместе со мной кровью харкал и, заболевши, скончался (6 февраля 1853 года, как и еще один студент, находившийся в лазарете, по фамилии Белинский. – И. Д.). Меня считали отпетым. Ф. Ф. Брандт, Степ. Сем. Куторга и Ал. Абр. Воскресенский много обо мне заботились. У Брандта учил летом детей. С Шиховским ботанизировал. Одно лето провел во Млёве (на Мсте), Тверской губ. Директор Ив. Ив. Давыдов напрасно осуждается, человек добрый и внимательный. Еще лучше инспектор Александр Никитич Тихомандрицкий» [Архив Д. И. Менделеева, 1951, с. 15][107]107
См. также: ЦГИА СПб. Ф.13. Оп.1. Д.3425. Л.36 об.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































