Текст книги "Чуковский"
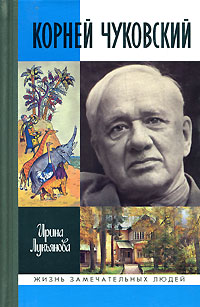
Автор книги: Ирина Лукьянова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Глава третья
Куоккала
Новое время – новые песниС осени 1906-го до лета 1907-го молодой критик успел немало написать, опубликовать и упрочить свое положение в литературе. Его герои в это время – по-прежнему Горький, Андреев, Куприн, Уитмен. Но появляются и новые – Городецкий, Сергеев-Ценский, Алексей Толстой. Чуковский печатается главным образом в «Родной земле», «Ниве» и литературно-художественном приложении к ней. К сотрудничеству с «Нивой» Корней Иванович привлек и Валерия Брюсова, в чьих «Весах» продолжал публиковать свои материалы. Статья Чуковского о петербургских театрах вышла даже в роскошном декадентском «Золотом руне». А вот политика постепенно отодвигается на второй план и, наконец, совсем уходит из его жизни. Даже разгон второй Думы в 1907 году – фактически государственный переворот, ознаменовавший конец первой русской революции, – вообще никак не отразился в журналистике и дневниках Чуковского; вспомним – новость о роспуске первой он называл «страшным известием».
В 1907 году в газете «Родная земля» Чуковский опубликовал довольно важную статью под названием «Игрушечная Дума» (она с тех пор не переиздавалась, так что процитируем ее подробнее). Она как раз и объясняет, почему бывший редактор сатирического журнала полностью отошел от политики. К. И. писал в этой статье, что русская литература всегда пыталась подменить собою отсутствующий парламент: только она позволяла обсуждать то, что не подлежало общественному обсуждению ни в какой другой форме. Все литераторы были «переодетыми Пройдами» (Пройда – думский депутат, заслуживший скороспелую известность своими речами). Литератор и читатель встречались друг с другом «у позорного столба Чернышевского, у виселицы Желябова, на веселых ходынских полях». Положение в литературе создалось невозможное: «писатели делились не на талантливых и бездарных, а на правых и левых, как во всяком парламенте». Толстые журналы занимались не литературой, а политикой, и закрытие журнала – «был акт политический, а не литературный». Это нанесло русской литературе огромный вред: журналы и критика пропагандировали бездарных, но «правильных» писателей, уничтожая талантливых, но занимающих враждебную политическую позицию. Одни только «Отечественные записки», говорит Чуковский, «утаили Тютчева, Фета, Алексея Толстого, Щербину, Мея, Полонского, Случевского, Страхова» – и выдвигали при этом Скабичевского, Засодимского и иже с ними.
Теперь, считает критик, когда народ обрел право говорить о своих страданиях с парламентской трибуны, «ему журнального шепота не нужно». Журналам стоит заняться своим делом – литературой. Но картина не меняется: толстые журналы живут стачками, синдикатами, заседаниями Думы и ненавистью к Столыпину… Журналов 6–7, подсчитывает Чуковский, «на журнал десять статей антистолыпинских, в год 120, итого – в год 720–840 статей о Столыпине, и больше ничего… Читатель остался так-таки безо всего: ни одной статьи по естествознанию, по педагогике, по философии, ни одной строки о западной литературе, о живописи, о новых научных теориях, о веселой, красивой, культурной жизни!.. Россия живет не одним Столыпиным – не крадите же у нас этой жизни». Унылые, однообразные журналы «обращаются с нами так, как будто мы уже перестали любить женщин, бояться смерти, пьянеть от весеннего ветра», – негодовал Чуковский. Пора литературе перестать быть «игрушечной Думой», убеждал он. Разумеется, общество могло расценить эту позицию только как ренегатство и предательство идеалов.
Смена занятий и жанров в творчестве Чуковского поразительно совпадает с крупными социальными сдвигами – это замечено давно и не мною. Скажем, Мирон Петровский в предисловии к тому стихотворений Корнея Ивановича в «Библиотеке поэта» отмечает: «Достаточно набросать хронологический перечень дат, отмеченных наиболее выразительными переменами жанра: 1905, 1907, 1916, 1921, 1929, 1934, 1941 – вплоть до 1956-го… Известная дефиниция критика XIX столетия – „жанр есть форма времени“ – получает здесь неожиданную и зловещую интерпретацию».
Остается добавить, что происходило это не только и не столько вследствие давления извне или колебаний вместе с линией партии, как на то иногда намекают. Не потому он фактически перестал заниматься политической сатирой после первой русской революции и литературной критикой после Октябрьской, что ему это запрещали, не брали статей, не печатали, мешали, – хотя и поэтому тоже, и мешали ему бесконечно много и настырно, в особенности после 1917 года. Нет, – всякий раз с новым временем приходило и новое ощущение этого времени, менялась сама атмосфера; может быть, поэтому он перескочил на новую стадию в 1916-м, а не в 1917 году: грозу принесло раньше, чем грянул гром с «Авроры».
Чуковский всегда точно знал, какое тысячелетье на дворе; его отличала редкостная чуткость к самым крохотным мелочам эпохи. Потому самым недвусмысленным сигналом конца первой русской революции для него стали не крупные изменения в политической жизни, а «тысяча мелких признаков» – витрины, афиши, вывески, книжные обложки, лампады перед иконами. Именно поэтому он однажды говорил о том, что Каутскому стоило бы написать об отражении буржуазного самосознания в модах дамских шляпок.
В изменившемся воздухе надо было учиться дышать иначе. Всякий раз при смене парадигмы он заново определял свое место в мире и находил возможное занятие. Он должен был работать. Это Блок, как соловей, умел только петь и умер, когда музыка кончилась. Чуковский был не соловей, а литератор, это совсем другая птица: она поет и когда есть музыка, и когда ее нет, а не сможет петь – будет стучать чечетку, писать летопись леса, выступать с лекциями на колхозных птицефабриках и учить птенцов нотной грамоте в надежде воспитать хоть одного соловья.
Чуковский не мог не трудиться, работа была и спасением его, и проклятием. И не в том даже дело, что ему надо было кормить семью, – прокорм семьи был своего рода универсальным оправданием его невозможного трудоголизма. Причины его между тем лежат скорее в области душевного устройства. Это и темперамент, бешеная энергия, ищущая применения, и жесткий нравственный императив, заставлявший его искать себе не просто дела и заработка, а служения ради общественной пользы – как мы помним, он был убежден в полезности «бесцельного» литераторского труда. Плюс постоянные сомнения в осмысленности и полезности собственной жизни, в своей творческой (да и человеческой) состоятельности, плюс множество других неудобных, неуютных, острых вопросов метафизической природы, которые делают жизнь невозможной, если не имеешь на них четкого ответа, – все это заставляет нырнуть в работу как можно глубже и как можно дольше не выныривать. Пока работаешь – ты приносишь пользу и зарабатываешь деньги на несколько человек, а что ты такое, когда ты не работаешь?
И работа эта дается нелегко. За каждой воздушно-легкой строчкой – десятки зачеркнутых вариантов, кипы измаранных черновиков. Месяцами, а то и годами, он пишет, когда «не пишется», – и дневники в такие времена изобилуют записями вроде «не могу выжать ни строчки». Иные эпохи были настолько немузыкальны, что всякое творчество могло состояться только вопреки, – но звучала музыка или нет, мог он писать или не мог – все равно каждое утро он садился за стол и работал. И в награду за упорство или по волшебному произволу, никак не связанному с его мучительными усилиями, – на него внезапно обрушивалась музыка, и он сочинял легко и свободно, и в это время был абсолютно счастлив.
Итак, революция кончилась. Наступило время, которое в советской историографии принято было называть «глухими годами реакции». Удивительным образом оно сочеталось с феноменом Серебряного века в литературе и искусстве – временем потрясающей власти слова и художественного образа над умами.
Это была та самая «Россия, которую мы потеряли» – та, что безвозвратно кончилась с началом Первой мировой войны. После перестройки ее стали представлять каким-то конфетно-бараночным царством с изобильными рынками, заговорили о благочестии крестьян, меценатстве просвещенного купечества, благородстве офицерства («Весь досрочный выпуск кадетского корпуса с восторгом принял известие о назначении всех поручиков в карательные отряды», – однажды процитировал Чуковский газету 1905 года). Чем дальше это время уходит в историю, тем больше появляется подобных мифологем. Мы сейчас воспринимаем это время как небывалый расцвет – а современники говорили о распаде и упадке. И не только те, кто твердил о вырождении и ругался словом «декадент».
В стране стало трудно дышать, душами завладела тоска, воздух все сгущался и плотнел. Неизбывной тоской пронизано едва ли не каждое значимое литературное произведение 1907–1910 годов – глубокой экзистенциальной тоской людей, которые еще не знали слова «экзистенциализм», но уже мучились вполне сартровой тошнотой. А в конце 1908 года чуткий Блок произнес: «вокруг уже господствует тьма». Ниточки от нашего «глухого времени реакции» тянутся не только к экзистенциализму, но и дальше – к постмодернизму, как европейскому, так и русскому; к жестокой ситуации тотального цинизма, иронии, игры в литературе конца уже двадцатого века, оказавшейся в той же внезапной ценностной пустоте.
Социальная тема перестала наполнять национальную культуру, стержень традиционной религиозной нравственности ослаб в ней еще раньше; гуманистический пафос во время неверия в человека тоже иссяк. Провалился всякий фундамент, рухнуло все, что держало великую русскую литературу. Еще стояли крепкими башнями серьезные литературные журналы «с направлением», искренне считавшие себя наследниками великих традиций, но не те уже были защитники у твердынь, не те стали силы, жизнь и талант уходили оттуда. Литература затосковала, стала зачарованно вглядываться в смерть. Ее уже не так занимали даже богоискательство, богоборчество, поиски смысла. «Чую с гибельным восторгом – пропадаю!» – было сказано куда позже и по другому поводу, но, как ни странно, настроение русской интеллигенции к концу 1900-х годов выражает точно. О том же «самозабвении восторга и самозабвении тоски, отчаянья, безразличия» говорил Блок, у которого в «Народе и интеллигенции» возникает даже образ бешено несущегося коня. Птицу-тройку неудержимо несло к катастрофе, а литература с гибельным восторгом созерцала приближение неминуемого, мефистофельски хохоча.
На смену авторитетному утверждению пришли сомнения и эмоциональное отрицание. Пафос сменился цинизмом, проповедь – литературными играми. Явилась неизбежная во времена крушения ценностных парадигм «проблема пола», опустевшее святое место густо заросло махровой пошлостью.
Чуковский внимательно наблюдал за происходящим и пытался его осмыслить. Художественная интуиция у него была огромна, но академических знаний, нужных для этого осмысления, ему отчаянно не хватало. До всего приходилось доходить собственным умом и бесконечным трудом. К тому же значительная часть работ, нужных для понимания момента, вообще еще не была написана – и одесскому самоучке предстояло стать одним из первооткрывателей в российской культурологии.
ДачникиМолодая пара с малышом появилась в Куоккале на Балтийском заливе осенью 1906 года. Именно этим временем датируют переезд Марианна Шаскольская в летописи жизни Чуковского и Лидия Корнеевна в «Памяти детства». Есть предположения, что критик впервые оказался в финском поселке годом раньше, однако документальными подтверждениями этого мы не располагаем. Сам Корней Иванович писал «в 1907 или 1908», но особенно полагаться на его свидетельство не стоит: он чрезвычайно скрупулезно относился к датировке событий в жизни своих героев, литераторов-шестидесятников, но, говоря о себе, называл даты очень приблизительно.
Очень может быть, что осенний выезд на дачу был связан с тем, что гонорары Чуковского в мелкой прессе не позволяли ему платить за квартиру в столице и содержать семью. Аренда дома в дачном поселке в несезон обходилась дешевле. «Деревянный домишко, над которым торчала несуразная башенка с разноцветными, наполовину разбитыми стеклами», – так описывает Чуковский свое первое куоккальское жилье. Башенка над дачей была почти обязательным элементом архитектуры: их придумали, чтобы из их окон было видно море. Увенчанные причудливыми шпилями, они присутствуют на множестве старых фотографий. Впрочем, первое жилье К. И. располагалось далеко от моря. Тогдашние путеводители извещают: лучшие дачи находятся на первой береговой линии, снять их – довольно дорого. Чем дальше от берега, тем дешевле, затем местность разделяет железная дорога, к северу от нее дачи еще дешевле, а дороги хуже. К северу от станции и поселился молодой безденежный журналист – даже не в самой Куоккале, а в финской деревушке Luutahantä (русское написание варьируется: Лутахенда, Лютагенде, Лутахянта и т. п.) недалеко от Козьего болота. В ней жил и молодой Алексей Толстой. Обратный адрес на письме Чуковского Альбову (1906 г.) гласит: «Лудахенде, дача Кондратьева»; затем на репинских письмах, адресованных К. И., значится «Куоккала, за Новой Деревней, дача Кондратьева» или «д. Андерсена».
Сотрудники музея «Пенаты» еще при жизни Чуковского пытались отыскать дом с «несуразной башенкой», даже сфотографировали в Лутахенте две дачи, соответствующие описанию, и послали Корнею Ивановичу в Переделкино. Одну из них он признал, о чем на обороте фотографии написала его секретарь Клара Израилевна Лозовская. Но в бывшую Куоккалу, ныне Репино, он после визита на разграбленную дачу в 1925 году так больше и не приехал, хотя такая возможность у него, несомненно, была. Не было той Куоккалы.
Окончательный переезд в Финляндию состоялся не сразу, семья еще какое-то время жила в городе, на Коломенской улице, откуда Марию Борисовну в марте 1907 года увезли в ближайшую больницу. Там 24 марта родился второй ребенок Чуковских – дочь Лидия. «Я пошел в Пале-Рояль, где внизу была телефонная будка, чтобы позвонить в родильный дом д-ра Герзона, и узнал, что родилась девочка. Сзади стоял И. А. Бунин (в маленькой очереди). Он узнал от меня, что у меня дочь, – и поздравил меня – сухим, ироническим тоном», – вспоминал Корней Иванович 60 лет спустя.
«Пришел поздравить родителей поэт Сергей Городецкий, – рассказывает сама Лидия Корнеевна в повести „Памяти детства“, – и написал на дверях маминой спальни:
О, сколь теперь прославлен род Чуковских,
Родив девицу краше всех девиц.
…Вскоре после того, как я родилась, Валерий Яковлевич Брюсов прислал Корнею Ивановичу письмо с приложением стихов, которые просил пристроить в один из петербургских журналов. Если же стихотворение не понравится редакции, добавлял поэт, дарю его в приданое Вашей новорожденной дочери.
– Это я! – кричала я, – это мне! – А Корней Иванович, отозвавшись обычно «ты у меня не бесприданница», произносил, торжественно выпевая звук «и»:
Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра,
Ты давно меня любила, как Озириса Изида,
Друг, царица и сестра!
И клонила пирамида тень на наши вечера».
Более оседлой жизнь не стала: Чуковский продолжал бегать из редакции в редакцию, семья еще несколько раз переезжала с одной дачи на другую – Анненковых, Дальберга… пока куоккальский сосед Репин в 1912 году не помог выкупить одну из них.
Куоккала – это был не город и не деревня, не Россия и не заграница, не столица и не провинция, не то и не другое – и в то же время все сразу. А еще здесь было море. Море удивительным образом задает координаты внутренней жизни, дает правильный масштаб: что важно, что неважно, что соизмеримо с ним, что нет.
Курортная местность под общим названием Териоки, в состав которой входили поселки Оллила, Куоккала и Келломяки (сейчас – Солнечное, Репино и Комарово), тянулась вдоль моря длинной узкой полосой. В конце XIX века здесь построили железную дорогу, и петербуржцы получили возможность быстро добираться до пляжей. Небольшие финские поселки стали понемногу превращаться в модный курорт: дачники могли жить у моря круглый год и ездить в Петербург на работу; именно такой образ жизни и выбрал К. И., не обязанный каждый день ходить на службу.
Большинство новоселов привлекала близость к столице, тишина и приморский климат. Но многим была важна и относительно спокойная политическая погода. Финляндия пользовалась правами автономии, жандармский надзор был не особенно силен, поэтому здесь в большом количестве селились «неблагонадежные» писатели, ученые и общественные деятели. В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена говорится: «В последние годы русской революции здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) „фабрики бомб“ финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в Петербургское охранное отделение».
Хаапала – это совсем рядом с первым обиталищем Чуковского. «Когда в 1907 или 1908 году я приехал в Куоккалу, – писал он, – мне говорили шепотом, что на даче „Ваза“ скрывались большевики (они, кстати, находили особую прелесть в том, что дача называлась в честь шведской королевской династии). В Куоккале на мызе „Лентулла“ жил Горький – в 1905 году он готовил здесь издание сатирических журналов „Жупел“ и „Жало“».
В основном, конечно, Териоки и окрестности обживали не революционеры, а средний класс, творческая и научная интеллигенция. Еще в конце XIX века здесь поселились Салтыков-Щедрин, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов. Со временем в финских поселках у моря осели Леонид Андреев, Илья Репин, Валентин Серов, к ним из Петербурга приезжали именитые гости. Скромная дачная местность понемногу превращалась чуть ли не в культурный центр империи. В 1910-х годах в Териоках снимал дачу Блок, здесь его жена играла в театральной труппе у Мейерхольда. Собственно в Куоккале, кроме Репина, жила семья виолончелиста Мариинки Альберта Пуни, на даче Николая Федоровича Анненского (брата поэта) гостил Короленко. К 1910-м годам в этом поселке сложился свой дачный мир, свободный от множества столичных условностей и пронизанный счастливым творческим озорством. На улицах можно было встретить цвет тогдашней культуры, и довольно скоро это осознали газетные репортеры; чего стоит один рассказ Чуковского о том, как Короленко закрывался портфелем, мешая бойкому папарацци сфотографировать его.
«Дачи множились, как сыроежки, – писал в своей „Повести о пустяках“ художник Юрий Анненков (под псевдонимом „Борис Темирязев“), – искусственные канавы пили болотную воду; морошка, клюква и комары все глубже уходили в нетронутые сырые леса, в росянку, в багульник, в кукушкин лен; песок окутывали дерном и засаживали соснами, останавливая движение дюн. За заборами множились клумбы: табак, георгины, левкои, гелиотроп, анютины глазки, львиный зев. Душистый горошек потянулся к окнам балконов; загоралась настурция». Цепкий взгляд художника поймал и сохранил для нас то, что казалось другим чересчур очевидным, будничным, не заслуживающим упоминания, – возможно, слишком мелким на фоне крупных событий эпохи. На страницах «Повести о пустяках» остались жить стеклянные шары на грядках, гипсовые гномы в кустах, разрисованные аисты; гимназисты с папиросками и гимназистки с бантами в длинных косах; велосипеды и теннисные площадки, «афиши любительских спектаклей; танцевальные вечера в разукрашенном сарайчике», вальсы «Осенний сон» и «Дунайские волны»… Вот она – Куоккала столетней давности: «Несложный рокот залива; голубые стрелы осоки; сосновый янтарный дух, смоляной налив, золотистые волны дюн, золотистое лоно юности; песок, стволы, огни керосиновых ламп на балконах, тепло июльских вечеров, отдых, свистки паровозов, хвойная тишина, легкокрылые бабочки шелкопряды-монашенки, ночницы сосновые и жуки-короеды: типограф, гравер и стенограф». Мелкие волны Балтийского залива с купальнями на сваях, купальщики в цветных трико…
В повести возникает и Чуковский – вернее, намек на Чуковского, его призрак – писатель Апушин: «Шагает босиком через канавы и лужицы журавль Апушин, плотный и загорелый нос его блестит на солнце». На даче Апушина собираются пить чай и беседовать, сочиняют экспромты и записывают их… но все это позже, уже в 1910-х, когда мы еще вернемся к повести Анненкова. Пока – в 1906–1907 годах – Чуковский еще не стал влиятельным критиком, еще почти ни с кем из соседей не знаком, к нему не тянутся нескончаемой чередой гости из города. Однако босиком он начинал разгуливать, как только это позволяла погода. Это было не особенно принято даже на дачах; териокский житель Леонид Андреев в своих «Мелочах жизни» саркастически повествовал о некоем господине, которому взбрело в голову выйти из дома без шляпы, потому что жарко, и все сочли его чуть не опасным сумасшедшим. Если не безумием, то позой казалась окружающим босоногость Чуковского. Художник Леонид Пастернак, навещавший в 1910 году в Куоккале Репина, разумеется, встретил у него Корнея Ивановича и писал домой: «Пришел Корней Чуковский, – Боря, слышишь; босой, с женой (дождь лил, а они босые ходят – тоже блажь и „стиль“)». Впрочем, справедливый Пастернак-старший добавлял: «Парень дошлый – одессит!» и «Умный парень, очень был рад, узнав, что: „Вы, значит, настоящий тот Пастернак Л. О.?“».
Дмитрий Лихачев, чье детство прошло в Куоккале, тоже вспоминал, как Чуковский ходил босым, но «в отличном костюме». Отличный костюм появился позже, и воспоминания Лихачева относятся, скорее, к предвоенному времени. Дмитрий Сергеевич, кстати, замечал: «Чего только не вытворяет Корней Иванович Чуковский в местном театрике или прямо в вагонах Финляндской железной дороги, возвращаясь из города, или на пляже». Тихо и одиноко ездить в поездах Чуковский никогда не умел – непременно знакомился со всеми пассажирами, задавал десятки вопросов, заводил разговоры со всеми детьми, показывал фокусы, чудил. Не отставали по части чудачеств и другие жители поселка, в первую очередь Репин с женой; Сергеев-Ценский, например, вспоминал, как почтенная чета, явившись к нему на дачу в 1909 году, устроила у дверей дикий кошачий концерт, ошибочно полагая, что это дача Чуковского.
Счастливое дуракаваляние Чуковского, Репина и их гостей во многом и создало особую куоккальскую культуру – «чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов», по словам Лихачева. Тот называл поселок «царством детей», и впрямь, детям в Куоккале жилось весело и уютно. Воспоминания жителей этого царства пронизаны удивительным светом и счастьем. В рассказах Лихачева сохранились трогательные подробности: вот пляжные будки – у каждой семьи своя; вот солнечные лучи, скользя сквозь витражные стекла дачи, оставляют разноцветные пятна на белоснежной скатерти; вот на станцию приходит паровоз в сетчатой юбочке, дачники выходят из синих вагонов и разъезжаются на двуколках; вот на берегу лежит сухой тростник, принесенный морем из Петергофа…
Сейчас от этой Куоккалы мало что осталось. Но песок по-прежнему завален тростником, из которого дети строят шалашики, и те же гранитные глыбы охраняют берег, не давая морю обгрызать его, и так же пахнут черничники, и сосны так же цепляются за берег корнями, и на горизонте виден Кронштадт, и в жаркую погоду пляж так же звенит голосами. И ручей, когда-то протекавший мимо дачи Чуковских, по прежнему течет там же, только дачи уже нет, как нет уже и летнего театра, и казино, и станционных построек. Войны, время, а больше всего историческое беспамятство здорово потрудились над обликом поселка. Густые заросли за рестораном «Оллила» и свалка в этих зарослях – вот, пожалуй, и все, что сейчас можно найти на месте куоккальской дачи Корнея Ивановича.
Дачная жизнь позволяла Чуковскому соблюдать собственный режим – при его бессонницах и ярко выраженном трудоголизме это трудно переоценить, – и сократить круг вынужденного общения. Среди соседей были люди замечательные, и общение с ними было полноценным и насыщенным; пустопорожние и поверхностные разговоры в гостиных и редакциях ничего подобного дать не могли. Он освободился, наконец, от суеты, грязи, сырости большого города, от газетного и богемного окружения, от литературных кружков с либеральными адвокатами, кокетливыми дамами и прочими «фармацевтами», от пышного дурновкусия, от желтой прессы, в изобилии появившейся на пепелище революции. Куоккала дала Чуковскому спасительную изоляцию от мелочей, в которых утопал и продолжает утопать поныне всякий газетный работник, дала ту дистанцию и тишину, которая необходима, чтобы посмотреть на происходящее со стороны, выделить главное и сосредоточиться на нем. Может быть, еще и поэтому именно с осени 1906 года его критика становится более точной и четкой, ее объекты – менее случайными. Среди статей уже почти нет откровенных неудач, в них проявляется афористичность, воздушная легкость, парадоксальность. Возникают и постоянные темы.









































