Текст книги "Чуковский"
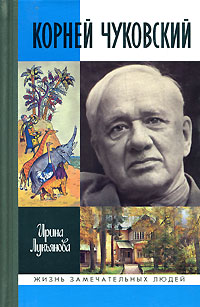
Автор книги: Ирина Лукьянова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Самоубийства были одной из постоянных тем Чуковского в конце 1900-х – начале 1910-х годов, и мы это уже видели, когда говорили о Саше Черном. Конечно, он писал о самоубийствах применительно к литературе. Но и в литературе они появились не сами собой, как внезапно возникшая мода. Здесь литература точно отражала реальность – даже в самых сюрреалистических произведениях.
Когда читаешь хронику в газетах за 1908, 1909, 1910 год – оторопь берет. Может быть, потому, что даже столичные газеты тогда не отличались особым имперским размахом, и городская хроника фиксировала все – от сцен ревности с нанесением ножевых ранений а-ля «Московский комсомолец» до штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах. В хронике среди пожаров, грабежей, «арестов аферистов» – обязательно упоминаются самоубийства и покушения на них. Несколько лет подряд читать изо дня в день на последней странице газеты сообщения о суицидах – как хотите, для нормального человека невозможно (современные психиатры говорят, что эпидемию самоубийств может спровоцировать и усилить тиражирование информации о суицидах в СМИ). И ведь это не сухая статистика, а люди – каждый с собственным лицом, именем, судьбой.
26 апреля 1909 года газета «Речь», например, извещала, что:
– 19-летняя Клавдия Буканова, приезжая, оставшись в Петербурге без средств, стала проституткой, не вынесла позора и выпила уксусной эссенции;
– на почве нервного расстройства повесилась 35-летняя жена архитектора фон-Бок;
– торговец Игнатьев, 19 лет, принял карболовой кислоты;
– рабочий Максим Лесников, 29 лет, нанес ножом себе рану в живот;
– отравился из-за безработицы и безысходности рабочий Гаврилов.
8 июля того же года (беру просто наугад, в случайно выбранной газетной подшивке): неизвестный молодой человек выстрелил в себя на Полицейском мосту; драматическая артистка Лидия Кашина выпила уксусной эссенции.
10 июля: повесился приказчик галантерейного магазина, бросился под поезд ремонтный рабочий Петров, «столяр, германский подданный Фридрих Бюлов, принял мышьяку и умер», «близ Кадетского моста с плота бросилась в реку Ждановка молодая девушка Вера Шурыгина, но была живою извлечена из воды. Шурыгина рассказала, что покушалась на самоубийство, разочаровавшись в жизни».
14 июля: 16-летняя крестьянка Антонина Свирская пыталась отравиться от несчастной любви, 19-летний Яков Лазарев без объяснения причин наглотался уксусной эссенции, «служащий пункта бесплатной медицинской помощи во время холерной эпидемии Михаил Скерс, 28 лет, выпил раствор сулемы» – тоже от разочарования в жизни; молодая крестьянка Ольга Арефьева пила уксус, а крестьянка Анна Мартыненко – нашатырный спирт…
24 июля публикуется статистика: в армии самоубийств происходит в 4 раза больше, чем среди гражданского населения. Солдаты стреляются, вешаются, кидаются под поезд, бросаются с высоты и находят любые возможные способы свести счеты с жизнью. 6 августа – статистика самоубийств среди учащейся молодежи: суициды в основном вызваны «нервными расстройствами» и скандалами в семье. Приводятся предсмертные записки, в том числе гимназистки четвертого класса: «Мамочка, прости…» Достаточно? А это только несколько дней одного года.
Тут хочешь не хочешь, а закричишь от ужаса: что же это делается такое? Почему жизнь настолько потеряла всякую привлекательность для этих детей, подростков, юношей, взрослых, что всякий пустяк, всякий несданный экзамен, всякая несчастная любовь заставляют их так издеваться над собой – пить серную кислоту и сулему, бросаться под поезда и резаться ножами? Почему они так легко швыряются жизнью, оставляя стереотипные записки и стереотипно объясняя: «разочаровался в жизни»? Артистки, рабочие, присяжные поверенные, приказчики в лавке, крестьянские девушки, богатые домохозяйки, студенты, курсистки, гимназистки, солдаты, поручики, молодые князья, мещаночки бальзаковского возраста и почтенные ремесленники – любого возраста, любого сословия, любого достатка – пишут на бумажке какую-то ерунду, вешаются и топятся, а если их удается откачать, не могут даже объяснить, зачем это делали.
«Новый рассказ Максима Горького:
«Макар решил застрелиться».
Новый рассказ Ивана Бунина:
«Захлестнул ремень на отдушнике и кричал от страха, повесился…»
Новый рассказ Валерия Брюсова:
«Она отравилась…»
Новая книга 3. Н. Гиппиус:
«Прошлой весной застрелился знакомый, студент…»; «Муж и жена отравились…»; «Смирнова выпила флакон уксусной эссенции…»»
Это уже не газетная хроника, а начало статьи Чуковского «Самоубийцы»: «В наших современных книгах свирепствует теперь, как и в жизни, эпидемия самоубийств. Удавленники и утопленники современнейшие нынче герои. И вот новая, небывалая черта: эти люди давятся и травятся, а почему, – неизвестно». «Откуда эта странная мода – убивать себя „просто так“?»
В 1910 году, в статье «Юмор обреченных», Чуковский уже пытался ответить на этот вопрос. И отвечал так: люди утратили красоту жизни. Мир стал для них «эстетически невыносим». «После этого – только смерть». Еще раньше он говорил о повсеместной утрате идеи, желания служить какому-то делу и преследовать какую-то цель. А еще раньше он обратил внимание на убийственную скуку и тоску, разлитую в повседневной жизни (и литературе), на повсеместную «недотыкомку», которая прячется за газетными строками, книгами стихов и длинными повестями. Литература, как высохшая пряность, еще сохранила цвет, структуру, форму, но безнадежно утратила аромат жизни – потеряла радость, любопытство, умение любоваться и удивляться. Поэтому Чуковский так дорожит всяким проявлением любви к миру, так радостно пишет о красоте природы у Бунина, о купринском метком взгляде, о толстовском интересе к каждой человеческой душе. Поэтому так больно ему видеть, как Горький сознательно подавляет в себе большого художника, умеющего именно это – видеть многообразие красок мира, любить, жалеть, удивляться.
Вся современная литература, замечает Чуковский, – сплошное торжество мерзости и страха, леонид-андреевская «буффонада и свистопляска калек», ремизовская «вселенская тошнота», сплошная змея Скарапея о двенадцати головах, «пухотных, рвотных, блевотных, тошнотных, волдырных». Вселенское уродство Саши Черного:
О дом сумасшедших, огромный и грязный!
К оконным глазницам припал человек:
Он видит бесформенный мрак безобразный —
И в страхе, что это навек!
Это тоже Чуковский цитирует. А вот из другой его статьи, «Мировой восторг», она вышла в июле 1909 года: «Все в мире тошнотворно, весь мир словно наелся „блевотного“, – твердят теперь наши книги, – и кто из нас посмеет не согласиться с ними».
Критик только что прочитал сборник Городецкого «Кладбище страстей» и обременен впечатлением. «Свальный блуд, блуд вчетвером, впятером, вшестером, какие-то вытравления плода, какие-то кровавые пятна, чудовищные какие-то зародыши, волосатые красные головастики – поистине, слюною дьявола причастил меня сегодня Городецкий. Но как я смею роптать на Городецкого, если Городецкий – это я, если и у меня в жилах течет та же дьяволова слюна, если по читателю и писатель». И конечно, Чуковский торопится дать читателю, который отравлен тем же ядом, какое-то противоядие. Вот Уитмен, например (почему-то он стал его писать как «Витмэн», но потом вернулся к прежнему написанию). «Здесь изумление, восторг, благодарность – неужели мир так прекрасен? Здравствуй, здравствуй же, мир! – Здесь источники нового счастья и новой какой-то надежды, и в этих строках я хочу, как могу, поделиться с вами той радостью, которой обрадовал меня Витмэн».
Именно поискам причин эпидемии и противоядия посвящено несколько статей 1909–1912 годов. В 1912 году Чуковский даже прочитал о самоубийцах в русской литературе отдельную лекцию. В том, что касается причин, он полностью согласен с французским социологом Эмилем Дюркгеймом. Его классическая работа «Самоубийство» (1897) на русском языке вышла как раз в 1912 году. Дюркгейм приводит статистику, из которой следует, что «человек и вправду лишает себя жизни „просто так“, почти без всякой причины, а все, что он почитает причиной, есть выдумка, иллюзия, фантом». Не пьянство, не нищета, не сумасшествие… Дюркгейм называет эти беспричинные самоубийства «анемическими» и доказывает, что они происходят оттого, что разрушаются социальные связи; что человек перестает чувствовать себя частью общества; что рушится система социальных норм. «Все связи с общим и целым утратились, и каждый сам с собою остался наедине, а это так рискованно для многих!» – формулирует Чуковский.
Он превращает сухие научные выкладки социолога в страстный монолог о потерявшем себя обществе и потерянных в нем людях. Все эти герои-самоубийцы, подмечает он, терпеть не могут свою работу. Заинтересовало-то его вначале, хорош ли как педагог один из героев романа Арцыбашева «У последней черты» (где чуть не все персонажи кончают с собой тем или иным способом). Нет, нехорош: и преподавать ему скучно, и детей он не любит. Такой педагог уже был до него в русской литературе, Передонов его звали, и так же противны были ему и работа в школе, и жизнь вообще. А потом оказалось, что и чиновник у Арцыбашева ненавидит свое казначейство, и офицеры плохие, и инженеры, и художник не хочет писать картины – «пиши не пиши, все равно когда-нибудь умрешь» (а вот Уитмен, о котором в этой статье, правда, нет ни слова, не боится смерти и вечности, вечность для него – «источник неиссякаемой радости»). Русская литература, пишет Чуковский, вся такая: «Она постигает человека вне его дела, профессии; в ней, даже в зародыше, еще не создалась поэзия культурного труда. Героических дел сколько угодно, но ежедневной, насущной работы она ни за что не прославит; не то что не прославит, – не заметит; и здесь-то залог нашей гибели».
Ну хоть большими буквами напиши на плакате и повесь на Кремлевскую стену: у нас не создалась поэзия культурного труда! «Не может душа ни минуты прожить без веры в какие-то ценности, без служения каким-то самоцелям, которые, пускай иллюзорно, она считала бы выше себя (и которые создаются исключительно обществом в обществе), – пусть это будет честь армии или торжество революции, преуспеяние кубизма или расцвет эсперанто».
Литература славит героев, которые уходят из общества—в пустыню, странствовать по белу свету, как Лев Толстой, надолго впечатливший Россию своим предсмертным уходом. «Эстетика слияния с обществом для нашей литературы (а значит, и для нашей души) чужда совершенно, а вот эстетика ухода от людей („чтоб они передохли все!“) у нас теперь так пышна и богата».
Совсем другую эстетику Чуковский находит в англосаксонской литературной традиции – и не только об Уитмене здесь стоит говорить. Вот и в «Апостолах трусости» он приводит в пример Киплинга, для которого «главное – наша (мужицкая) трудная, упоительная работа и такая поэтичная – устроительство жизни на земле». И очень радовался, обнаруживая в русской литературе хотя бы одного такого певца хозяйственной деятельности и творческого обустройства – Николая Гарина-Михайловского, умевшего «в обольстительных красках» изобразить постройку железной дороги, работу над инженерным проектом, вообще всякую хозяйственную деятельность. Чуковскому больно оттого, что гаринский созидательный пафос никем не был оценен и подхвачен. Ведь именно в труде он видит неосвоенные, неоткрытые еще «залежи поэзии». Залежи эти советская литература довольно скоро откроет и начнет разрабатывать, сначала вручную, затем поточным методом, – и разработает до полного истощения.
И все-таки. Все-таки позитивист Дюркгейм, видевший за самоубийствами только общественную причину, и воспитанный на позитивизме Чуковский, во всем с ним согласный, при всей своей правоте, кажется, что-то важное упустили. Да, Чуковский говорит и о внутренних путях спасения от пустоты, об индивидуальных усилиях, о собственной душевной работе, и о чувстве причастности к мировой работе, ко всему человечеству. И о необходимости «заняться культурой», которая здорово помогает жить, когда на голову садятся всем седалищем… Он и сам – редкостный пример постоянной работы над собой.
Другую, весьма непопулярную в это время точку зрения высказывали в печати – помимо тех, кого прямо причисляли к охранителям, – разве что Мережковский и авторы «Вех». Чуковский только бегло ронял обмолвки о том, что для них было центральным вопросом бытия вообще и существования человека в обществе в частности. О безусловной потребности человека ощущать не только родство с обществом, но и родство с вечностью. О необходимости стоять на прочном философском фундаменте. О том, что человеку нужно чувство осмысленности его жизни не только для общества, но и для себя. О том, что звездно-травяной уитменовской вечности, превращения в ростки и побеги, возвращения в могучий круговорот органики мыслящему индивидууму может быть недостаточно. И даже если понимаешь: сделал что мог, и сделал много, и многое после тебя останется другим, – этого тоже мало.
Чуковский, пожалуй, сделал все, что мог сделать сам. Он во многом пошел значительно дальше своих современников и увидел значительно больше. Он смог полностью переделать себя и раз за разом восставать из пепла – оказалось, для этого он обладал обилием душевных сил. Но когда они кончались, он тянул на одной только самодисциплине и привычке к труду. Иногда этого было достаточно, чтобы дотянуть до следующего взлета. А иногда самодисциплины, самообмана, самоцели и других полезных иллюзий не хватало. И тогда он не спал ночами, окруженный пустотой, и думал о смерти. Потому что и книжно-культурной, и звездно-травяной вечности ему не хватало, а другой он не знал, да и не хотел.
До предела своих человеческих сил доходит когда-нибудь любой человек, если он живет ради какого-то «надо», а не ради своего «хочу». Человеку религиозному потому и легче жить на свете, что в этой формуле у него вместо пустого конечного «потому» есть Бог. Ему есть где черпать силы, когда его силы на исходе, а веры в человека не остается: человечество раз за разом подводит, демонстрируя глубины глупости, низости, дикости, бесчеловечности. Чуковский, воспитанный на позитивной философии и, пожалуй, давно утративший детскую религиозность, жил ради самоцельного «надо», полезного обмана, под которым все-таки таилась мировая пустота. Эта позиция чрезвычайно много требует от человека и чрезвычайно мало ему дает, это жизнь из чувства долга, в основе которого одно только «потому что потому», только убежденность в конечной победе добра, вера в спасительную силу культуры, сохраняющей лучшее, что есть в человеке. Горький, героический, одинокий путь – из последних собственных сил, на одном категорическом императиве.
Наконец, остается добавить только кое-что о самоубийствах. В 1910–1913 годах в Петербурге уровень самоубийств составлял примерно 30 случаев на 100 тысяч населения. Несколько меньше – в Одессе, несколько больше – в Москве. Больше половины случаев – молодежь. С началом Первой мировой войны уровень самоубийств упал втрое. В 1925–1926 годах Советский Союз занимал одно из последних мест в мире по этому показателю (7–8 на 100 тысяч). Не будем описывать статистические кривые, скажем только, что к последним годам уровень самоубийств в России, хотя и упал с пиковых 1994–1995 годов, но по-прежнему остается значительно выше уровня кризисных 1910-х: в 2006 году – примерно 35 на 100 тысяч населения. Россия входит в тройку мировых лидеров в этой области, а по числу самоубийств среди подростков 15–19 лет в 2003–2004 годах стала абсолютным лидером. Самые популярные способы свести счеты с жизнью тоже не изменились со времен газеты «Речь» – повешение и отравление. И картина мира та же: мерзость и страх, вселенская тошнота, дом сумасшедших, огромный и грязный – словно весь мир наелся блевотного; не забудьте выключить телевизор. И портрет самоубийцы рисуют современные исследователи тот же – человек, которого ничто не держит: часто безработный или неудачливый в работе, не имеющий семьи, еще не научившийся ценить жизнь или уже разочаровавшийся в ней. Да и национальная идея как-то все не находится…
К сожалению, даже здесь статьи Чуковского не потеряли актуальности.
Полоса бессонницыАхматова говорила, что 1910-е годы были куда лучше 1900-х. И в самом деле, климат в стране ощутимо изменился. Революция и последовавшая за ней реакция постепенно отходили в прошлое. Урожайные 1909 и 1910 годы позволили стране выйти из экономической депрессии, наметились пути преодоления финансового кризиса, жить стало легче. Но моральный и ценностный кризис преодолеть было не так легко – социальный пожар притаился, превратясь в менее заметное, но не менее опасное тление торфяников. Крестьянские бунты на рубеже 1910–1911 годов, Ленский расстрел в 1912-м, новые забастовки, появившийся в царской семье Распутин – вот фон тогдашней жизни. И тем не менее стабильность все-таки появилась.
Смена эпох сказалась и в том, что в русской литературе появились новые лица, новые темы, новые звуки. Символизм выполнил свою роль и сходил со сцены, на которой уже зазвучали незнакомые пока голоса. Закрылись «Весы», и закрытие их словно подвело черту под эпохой символизма. Появился «Аполлон», где Гумилев стал подробно и обстоятельно писать о русской поэзии. Если сравнить, каких героев выбирали для своих статей Гумилев и Чуковский (скажем, в 1911 году), может показаться, что Гумилев уже обращен в новое десятилетие, Чуковский еще в старом. Оба отдают дань «старшим богатырям „модернизма“» (Чуковский) – Блоку, Балтрушайтису, Вяч. Иванову. Оба пишут о Брюсове, Бальмонте, Сологубе. Но при этом Гумилев говорит о Клычкове, Северянине, «Садке судей» и Бенедикте Лившице, Эллисе и Марине Цветаевой, Эренбурге и Ходасевиче, Волошине, Клюеве, Шершеневиче и тьме совершенно уже забытых поэтов. А Чуковский из «нынешней декадентской молодежи» замечает пока разве что Северянина, и героями его обзора «Русская литература» за 1911 год становятся Гиппиус и Мережковский, Андреев и Горький. «Минувший год был до странности беден поэзией», – пишет Чуковский, заметивший, впрочем, «Жемчуга» самого Гумилева. Но тут дело не в том, что один обращен в прошлое, а другой в будущее; разными были задачи двух критиков. Гумилев анализировал поэзию, читая все, что появлялось, – и ценное, и менее ценное, и старался ничего не пропускать в этом потоке, и говорил о скучном и интересном, успешном и неуспешном, талантливом и бездарном. Чуковский писал только о том, что выделялось ярким талантом либо становилось общественным явлением. Много позже Шкловский упрекал Корнея Ивановича в том, что он не открыл ни одного нового имени. Очевидно, что Шкловский в своей оценке Чуковского как критика был несправедлив, и мы еще будем говорить о их отношениях. Но Чуковский и не ставил перед собой задачу открывать новые таланты – он говорил о явлениях уже заметных, уже состоявшихся и социально значимых. А вот подмечать такие явления он умел очень своевременно.
В феврале 1912 года «Речь» перестала платить Чуковскому жалованье. Должно быть, солидной газете надоело терпеть постоянные скандалы, которые вызывала едва ли не каждая публикация злоязычного критика. Корней Иванович узнал об этом из письма жены в одном из своих лекционных туров. «Ты не можешь себе представить, какое облегчение я испытал, прочитав у тебя в письме, что „Речь“ лишила меня жалованья, – ответил он Марии Борисовне. – Это меня мучило непрерывно. Наконец-то я свободный человек!»
Сотрудничать с «Речью» он не перестал – просто теперь печатался в ней реже. К этому времени жалованье фельетониста уже не было для него основным источником существования: начиная с 1911 года он разъезжал по стране с лекциями. Весной 1912-го он читал об Оскаре Уайльде, которым вплотную занимался, готовя первое в России собрание сочинений писателя. Собрание выходило в качестве приложения к «Ниве» – в этом журнале Чуковский еще осенью 1911 года напечатал этюд об Уайльде. Работу пришлось проделать колоссальную: на русский язык было переведено далеко не все, а существующие переводы порой никуда не годились. Что-то К. И. переводил сам, что-то заказывал другим переводчикам. Работа доставляла ему видимое удовольствие. «Я нисколько не жалею, что взялся за Уайльда: мне нужно было, для моего образования, пройти сквозь этого писателя; я многому у него научился, а его стиль, его парадоксы, его блестящая манера, надеюсь, окажут на меня новое влияние. Последние два года я так искал этого обновления, – писал Чуковский в цитированном выше письме к жене. – …У меня по поводу Уайльда есть столько мыслей, что хватило бы на целый том. Только бы здоровье, чтобы записать хоть капельку того, что я думаю и знаю».
Жалоба на здоровье здесь не пустячная: постоянные разъезды, когда спать приходилось в поездах и гостиницах, привели к стойкой бессоннице. Даже дома, где вся семья оберегала его сон, он засыпал с трудом. В феврале 1912 года он ездил лечиться в санаторий Гранкулла (на деньги Леонида Андреева, записывал он в дневнике в 60-х годах). Оттуда писал Репину: «…начинаю понемногу оживать, и надеюсь, Вы скоро меня увидите, каким не видали никогда: нормальным. Я за последнее время сам себя ненавидел: неряшливый, истасканный, противный. Здесь же какое солнце, какие сосны, какое одиночество – доктора, ванны и проч., и проч.». Наталья Борисовна Нордман презрительно выговаривала Чуковскому в письме за «господские», «высосанные из пальца страдания»: «Если бы меня попросили вас вылечить – послала бы вас на месяц к русскому мужику в работники»; далее идут рассуждения о пользе физической работы, свежего воздуха и единения с крестьянами. К. И. отвечал вежливо, но жестко: «Страдания мои не „высосаны из пальца“ – как думает Наталья Борисовна, – я шесть месяцев перемогался в жестоких муках, и мне, отцу троих детей, поденному работнику, любящему до самозабвения свою работу, незачем выдумывать себе какие-то „нервы“, какие-то дамские истерики, которые я сам так же искренне презираю, как и Наталья Борисовна. Я не верю ни в какие лекарства, кроме покоя, воздуха, природы и физического труда… потому-то я и уехал сюда, в этот пансион, который так пышно и напрасно зовется санаторией: насчет же мужика, повторю за Алексеем Толстым:
…есть мужик и мужик:
Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю».
В апреле 1912 года Чуковский пишет Репину: «Третьего дня я читал лекцию в Минске, вчера в Гомеле, сегодня буду читать в Витебске. Скоро сделаюсь миллионером. Уже V/i месяца я скитаюсь по России – из Киева в Ковно, из Белостока в Одессу – и никак не могу добраться до Петербурга». Из Витебска в те же дни К. И. писал жене: «В Минске я читал с колоссальным успехом: сбор полный, аплодировали, даже когда я проходил по улице. В Гомеле меня чуть не растерзали от восторгов… Я опять попал в полосу бессонницы. Со слезами (!) меня умоляла публика читать еще и еще – но я так измучился, что после Витебска сейчас же махну в Питер».
Его любопытство к людям было поистине ненасытным. «А вот я, если бы в дороге не перезнакомился со всеми людьми, да не в своем купе, а в целом вагоне, да не в одном вагоне, а целом поезде, со всеми пассажирами, сколько их есть, да еще с машинистом, кочегаром и кондукторами в придачу, – я был бы не я», – приводит его дочь нотацию, прочитанную застенчивой барышне, которая рассказала Чуковскому, что за всю дорогу ни словом не перемолвилась с попутчиками.
Июль 1911 года, письмо жене из Казани: «Ты, конечно, понимаешь, что больше всего я с детьми. Схожу вниз – в четвертый класс – там мужики в красных рубахах – этакие Стеньки Разины – и опять-таки множество детей. Вчера я с ребятишками лепил из глины: сани, мельницу, свиней – а третьего дня играл в бабки…»
В Витебске он три дня не расставался с четырьмя детьми, которые написали ему «дерзкое письмо», недовольные тем, что он обругал Чарскую. «Во время прогулок по городу и его окрестностям, за обедом, за чайным столом Корней Иванович рассказывал о Куоккале, о Репине, о его супруге Нордман-Северовой и о многом другом», – вспоминает Елена Хаскина, одна из этой четверки. Серьезно говорил с детьми об их первых стихотворных опытах, сочинял с ними экспромты. В Вильно он жил у доктора Шабада, который стал прототипом доктора Айболита; однажды ему даже принесли кошку, у которой язык был проткнут рыболовным крючком, и доктор вылечил ее.
В Киеве Чуковский встретился с юным переводчиком Александром Дейчем, предложившим «Ниве» свои услуги в работе над собранием сочинений Уайльда. В воспоминаниях Дейч с удовольствием рассказывает о «буйном темпераменте» и огромной эрудиции Чуковского, о долгих беседах и серьезной, вдумчивой совместной работе над переводами Уайльда. Похоже, в каждом городе Корней Иванович искал знакомых по переписке, вообще людей, с которыми можно было бы содержательно говорить, – дети ли это были или взрослые, студенты или писатели.
«К Чуковскому приходили многочисленные посетители – журналисты, репортеры, молодые авторы, дарившие ему свои книги с надписью, – пишет Дейч. – А он проявлял живейшее участие ко всему: к людям, к улицам, обсаженным цветущими каштанами, а особенно к книжным магазинам и библиотекам». А расплатой за неуемное любопытство, кипучий темперамент, постоянное интенсивное общение, за чуткость и обилие впечатлений была бессонница. Он жаловался потом, что самое плодотворное время своей жизни провел в дороге и бессоннице: «У меня бессонницы с 20 лет. Лютые. Переутомление зверское. Между 20 и 30 годами я ни разу не отдыхал. Газетная работа – к спеху, к сроку – изматывала все нервы. Лекции с разъездами по России в третьем классе без сна».
«Ведь два года я был полуидиотом и только притворялся, что пишу и выражаю какие-то мысли, а на деле выжимал из вялого, сонного, бескровного мозга какие-то лживые мыслишки!» – замечал он в дневнике весной 1913 года, когда поездки временно прекратились и он смог выспаться. И писал Короленко: «Я теперь после бессонных разъездов по России с лекциями, когда не спал сплошь 5–6—7 ночей, дома в Куоккала отдыхаю».
В июне (запись датирована 17–18—19—20 числами) 1912 года К. И. записывает в дневнике: «Он Репин стал говорить: почему я не куплю дачу, на к-рой живу. Я сказал: я беден, я болен. И. Е. подмигнул как-то мило и простодушно: – Я вам дам 5 или 10 тысяч, а вы мне отдадите. Я ведь кулак, вы знаете, – и всю дорогу он уговаривал меня купить эту дачу на его деньги.
– А если вы купите, – и она вам разонравится, то я… беру ее себе… видите, какой я кулак!
Н. Б. горячо убеждала нас согласиться на эту сделку».
Дело решилось довольно быстро. 29 июня Мария Борисовна взяла у Натальи Борисовны 4 тысячи рублей в долг (расписка сохранилась в архиве Академии художеств СССР) с обязательством вернуть их «по частям, без ограничения времени, по 4 % в год, по возможности». Чуковский приписал на этом документе: «Вышеизложенный долг моей жены я также признаю. Николай Корнейчуков». Примерно в то же время Мария Борисовна взяла у Репиных еще тысячу. С долгами Чуковские расплатились через несколько лет: тысячу Мария Борисовна вернула в 1916 году, четыре тысячи выплачивали по частям. На цитированной выше расписке есть репинская надпись: «Большая часть этого долга, а может быть, и весь, внесен Корнеем Ивановичем в Питере, дочери моей Вере. По справке я запишу. Илья Репин. 1919 г.».
Уже 5 июля Наталья Борисовна Нордман писала Л. Яворской: «Чуковские купили близ нас и моря дачу, на которой будут жить и зимою». А вот сам Чуковский пишет в воспоминаниях о Репине: «Он купил на мое имя ту дачу, в которой я жил тогда (наискосок от Пенатов), перестроил ее всю от основания до крыши, причем сам приходил наблюдать, как работают плотники, и сам руководил их работой. Уже по тому изумлению, с которым он встречал меня в позднейшие годы, всякий раз, когда я приходил возвращать ему долг (а я выплачивал свой долг по частям), можно было видеть, что, покупая мне дачу, он не ждал возвращения затраченных денег».
Вот как описывает эту дачу Виктор Шкловский в книге «О Маяковском»: «Дача выходит в море нешироким и не покрашенным забором. Дальше от моря участок расширяется. Дача стоит на берегу маленькой речки. Она двухэтажная, с некоторыми отзвуками английского коттеджа». Лидия Корнеевна, правда, в своих воспоминаниях о заборе не упоминает: «С двух сторон наше поместье отделено было от соседей забором, с третьей стороны – водою ручья, с четвертой, от берега моря, его не отделяло ничего». Сада в «поместье» не было, был «сосново-еловый перелесок», «а сад, собственно, только возле крыльца: одна клумба, да две посыпанные песком дорожки, да грядка настурций вдоль веранды».
На этой даче у К. И. была возможность уединения. Он записывал в дневнике чуть позже: «Великолепный кабинет, прекрасные условия для работы…» Шкловский писал: «У Корнея Ивановича кабинет в верхнем этаже дачи. К нему даже зимой приезжают писатели. Он пишет в „Речи“. Но в „Речи“ его не любят, больше терпят за талантливость». А вот чуть раньше: «Корней Иванович много работал в газете… Нервы его были утомлены, и он, как и Леонид Андреев, зимой жил на даче».
Лидия Корнеевна писала: «Двадцатипятилетний человек, молодой, общительный, жадный до всякой новизны, раз и навсегда отрубил от своего дня самое многолюдное время – вечер, а вместе с вечером – всю увлекательную пестроту городской, шумной и разнообразной жизни: театры, диспуты, юбилеи, споры до утренней зари, поездки на острова, рестораны. (Было, было все это: случались и премьеры, и юбилеи, но в виде великого исключения…)». Его не запомнили ни в одном из модных мест, в мемуарах его не перечисляют среди завсегдатаев салонов. Невозможность спать делает его раздражительным и несчастным – весь дом затаивается, если «папа не спал». Он принимает бром, пытается побороть бессонницу физическим трудом и работой над статьями – ничего не выходит. Его рабочий день начинается в пять утра и продолжается иногда по двенадцать часов. Иногда становится круглосуточным. В оставшееся время Чуковский занимается хозяйством. Дочь его рассказывала: «В куоккальские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам. Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника, разметал метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки: узкую яму среди сугробов».
В восемь вечера он ложится спать. В воспоминаниях дочери этому засыпанию посвящено несколько горьких страниц: «Как я помню эту измученную, сотни раз с одной стороны на другую перевернутую подушку, эти закапанные стеарином жалкие листки рукописи, по полу разбросанные книги, это истерзанное одеяло, эти скрученные, свисающие до пола простыни! Словно сонмище бесов или шайка разбойников побывала здесь ночью. „Нет, Лидочек, не спал ни минуты. Ты меня усыпила, а я проснулся, чуть только ты ушла“». Она, маленькая, едва выучив буквы, читала ему вслух, пока он не засыпал. Иногда, промучившись час-два и отчаявшись заснуть, он отправлялся к морю или в гости. Или снова садился работать. В июне 1913 года Чуковский записывает в дневнике: «Не сплю третью ночь, хотя скоро лекция. Именно потому и не сплю. Между тем лекция пустяшная – и будь здоровье, в два дня написал бы. Поэтому откладываю ее до здоровой головы. В интересах самой статьи – я должен отказаться от лекции. Не буду даже заглядывать в нее, покуда не высплюсь. С больной головой я только гажу и гажу лекцию. И притом нет вдохновения».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































