Текст книги "Чуковский"
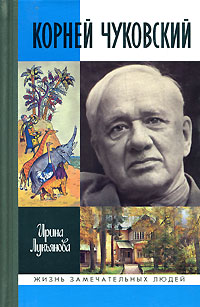
Автор книги: Ирина Лукьянова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
1908 год подходил к концу. В стране было по-прежнему неладно. Столыпинские реформы вроде бы шли, но без особого успеха, две Думы уже оказались распущены, третья не пользовалась большим общественным доверием. Правительственный указ о военно-полевых судах от 1906 года, не утвержденный Думой, не был, однако, отменен, и в России ежедневно выносились и приводились в исполнение скоропалительные смертные приговоры. «Ценность человеческой жизни, никогда в России высоко не стоявшая, упала еще ниже», – с горечью замечал Александр Изгоев. Александр Керенский в своих воспоминаниях писал: «Все образованные граждане России, независимо от их классовой принадлежности и исповедуемых взглядов, с чувством глубокого возмущения воспринимали каждое сообщение о новой расправе». Однако выступать против «столыпинских галстуков» было трудно: тексты калечила внутренняя цензура газеты, опасаясь судебного преследования и закрытия.
Россия протестовала. Лев Толстой заявил: «Не могу молчать!», Леонид Андреев написал «Рассказ о семи повешенных»… «Единственное, чем по-настоящему жила литература минувшего года, – это смертная казнь», – замечал Чуковский в подводящих итог 1908 года традиционных заметках о русской литературе. Самому К. И. казни тоже не давали покоя, и еще тяжелее было оттого, что он даже сказать об этом вслух не мог. «Написал о смертной казни – в печати так переделано, что больно смотреть», – жаловался он в дневнике 23 сентября 1908 года. Голос его не был услышан, статью никто толком не заметил, и только в 1910 году он смог совершить что-то заметное.
Что может сделать литературный критик в стране, переживающей кризис? Самому ему кажется, что ничего. С дистанции в сто лет видно, что сделать можно многое. Критик – безошибочный диагност, в мельчайших событиях литературной жизни, в стихотворных образах, в героях прозы он видит симптомы тяжелой общественной болезни: все смыслы обесцениваются, нравственное чувство и мысль скудеют, пошлость набирает все более страшную силу. Критик может не только ставить диагнозы, но и отыскивать пути выхода из кризиса; беда в том, что оценить его правоту или неправоту можно только через много лет.
В упомянутых итоговых заметках «Русская литература» 1908 года Чуковский пытался нащупать ясную доминанту творчества российских писателей и находил ее в «Моих записках» Леонида Андреева: «Жизнь – это тюрьма». «Писатели наши в этом году, словно сговорившись, отбросили все мелкие вопросы и решали главный: что есть жизнь? И, словно сговорившись, отвечали: кошмар. И, словно сговорившись, спрашивали: как уйти от кошмара? И наперебой отвечали – каждый свое, и каждый для себя. Делали дырку в стене, не одну, а тысячу дырок, и говорили: вот. Читателю же нужна не тысяча дырок, а одна большая, общая для всех, общий выход, общее освобождение – и потому он относится к современной литературе полупренебрежительно и легкомысленно в высшей степени». Добавим, что у Чуковского были свои ясные представления о том, что это за один большой общий выход. В 1900-х годах он, разумеется, не мог написать в статье слова «революция», поэтому говорил об «освобождении», о «демократии».
В конце мрачного десятилетия к печальным симптомам социального неблагополучия добавился еще один, куда более страшный, чем все остальные. В России стало расти число самоубийц. В статье, посвященной этому общественному явлению, Чуковский приводит собранную врачом Дмитрием Жбанковым статистику, опубликованную в журнале «Современный мир»: в Петербурге в 1905 году было совершено 205 покушений и самоубийств, в 1908 году– 121 в месяц и в 1909-м – 199 в месяц; то есть не в «пять с лишним раз больше», как писал «Современный мир» и цитировал Чуковский, а (возьмите калькулятор!) в 7 и почти 12 раз больше.
Чуковский заговорил об этом явлении, когда оно еще не приняло эпидемических масштабов, и возвращался к нему все чаще. Сообщения о самоубийствах стали привычной темой отдела хроники ежедневных газет, вопрос о самоубийстве немедленно подняла и литература, причем вставал он не только в творчестве существующих во все времена вычурных молодых людей. «Большая литература» уже несколько лет говорила о смерти (что тоже отмечал Чуковский), но это была Смерть с большой буквы, смерть-загадка или смерть-избавительница… и вдруг она стала смертью-соседкой. Жизнь как-то внезапно опротивела всем и сразу, и расставание с ней стало даваться поразительно легко. К. И. видел в этом закономерность: нежелание жить следует за разрушением идеологического фундамента общества, вслед за девальвацией ценностей происходит обесценивание жизни.
Может быть, поэтому Чуковский счел таким знаменательным явлением публикуемые журналом «Сатирикон» стихи Саши Черного (Александра Гликберга) – в них, как в фокусе линзы, собрались в точку и ярко высветились все те черты современного интеллигента, о которых без устали говорил К. И.: тоска и душевная усталость, отказ от «внешних» социальных устремлений и всецелая поглощенность собственной пустотой. (Кстати, в статье «Юмор обреченных» критик назвал «Сатиры» Саши Черного «песнями самоубийцы».) О том же духовном банкротстве интеллигенции размышляли и авторы вышедшего в 1909 году сборника «Вехи», сразу вызвавшего ожесточенную полемику в печати. Чуковский в «Современных Ювеналах» и обзоре литературы за 1909 год вперемежку процитировал Сашу Черного и Гершензона, утверждая, что оба говорят об одном и том же: «А ведь главный мерзавец – я!»
К «Вехам» Чуковский отнесся скорее отрицательно, хотя в определенной диагностической точности им не отказывал. «В том-то вся и суть, повторяю, что „Сатирикон“ – это „Вехи“, а Саша Черный – это Гершензон, – интриговал читателя Корней. – И даже „Сатирикон“ важнее, показательнее „Вех“, потому что „Вехи“ – это уже рецепты и диагнозы, а „Сатирикон“ – это еще слепая боль. Рецепт, он может солгать, но боль ведь не лжет никогда».
Блоковский «подземный гул» и Чуковский, и авторы «Вех» уловили одновременно. Но если Чуковский радостно приветствовал тот день, когда «они» победят «нас», и Блок ожидал того же дня с гибельным восторгом обреченного погибнуть в буре, то инициатор создания «Вех» и один из авторов сборника Михаил Гершензон с ужасом предупреждал: «КАКОВЫ МЫ ЕСТЬ, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной». Удивительно, что и здесь российское общество умудрилось увидеть не горечь и обличение, а охранительский пафос и ренегатство.
«Слепую боль» Чуковский и веховцы чувствовали одинаково остро (Чуковский даже в послесловии к «Пинкертону» писал, что «Вехи» поднимают ту же тему). Диагнозы ставили тоже схожие – хотя то, что Чуковский именовал «загниванием души», веховцы называли богооставленностью, которую понимали в прямом, религиозном смысле слова. Различны были и рецепты спасения: для авторов «Вех» выход был не во «внешнем устройстве общественной жизни», а во «внутреннем совершенствовании человека». Преобразовывать общество, оставляя без внимания его духовные основы, не имеет смысла, убеждали они. Чуковский же, при всем его внимании к жизни души, при всем своем культуртрегерстве, даже при некоторой религиозности (впрочем, неопределенной и расплывчатой), в своих социальных представлениях все-таки склонялся к материализму и позитивизму, под влиянием которых, собственно, эти представления и сложились. Для него скорее бытие определяло сознание, чем наоборот, и все свои надежды он возлагал на установление более справедливого социального строя. Именно уродливое общественное устройство калечит человеческую душу, считал он, не дает ей расправить крылья. Революция должна раскрепостить человека, сделать из него свободного творца. Он ждал революции и, похоже, естественным образом принял ее.
Первые статьи Чуковского о Саше Черном были довольно желчны (позднее, в предисловии к тому сочинений сатирика в «Библиотеке поэта» Чуковский признавался, что недооценил его). К. И. не особенно старался разделить автора и его литературную маску: «Сатира его главнейше устремляется против него же самого, против Саши Черного, – против собственных его изъянов и грехов»; «Из каждой его запятой так и бьет в глаза, что надоел себе человек до последнего краю…»
Два литератора были знакомы друг с другом еще с 1905 года, указывает автор предисловия и комментария к одному из изданий поэта Анатолий Иванов; в архиве Чуковского сохранились стихи Гликберга, датированные 1905 годом. Они продолжали дружить и общаться, пока не вышли «Современные Ювеналы», на которые Александр Михайлович очень обиделся. Возможно, этой обидой продиктовано не только злое стихотворение «Корней Белинский», но и куда более знаменитое посвящение «Критику» («Когда поэт, описывая даму…»), подчеркивающие разницу между автором и лирическим героем. Впрочем, разницы этой не увидел почти никто. «Пожалуй, разве что К. Чуковский и В. Амфитеатров провели в своих рецензиях четкую границу, отделив поэта от его литературной маски», – говорит А. Иванов. Чуковский тоже сделал это далеко не сразу, наиболее четко эта граница проведена в «Юморе обреченных» и поздних воспоминаниях о Саше Черном, умных, печальных и человечных.
Обида поэта была особенно жгучей оттого, что Чуковский был «свой». У замкнутого, обидчивого, щепетильного Гликберга было мало друзей; а вот с Чуковским отношения начинали складываться, они встречались, писали друг другу… Евгения Иванова замечает, что обличающие литераторские нравы стихи Саши Черного «После посещения одного „литературного общества“» (со строчками «Бьем, конечно, языком, – но больней, чем кулаком…») несомненно навеяны бешеной полемикой после лекции Чуковского о Гаршине. Корней Иванович вспоминает, как Саша Черный заезжал к нему в Куоккалу, возвращаясь от водопада Иматра. Поэт «признался, что водопад Иматра нагнал на него смертельную скуку и что бывали минуты, когда ему страшно хотелось броситься туда вниз головой». А вскоре появились стихи: «И сказала в пляске шумной сумасшедшая вода: „Если ты больной, но умный, – прыгай, миленький, сюда!“» «И тогда я увидел, – пишет Чуковский, – что это нисколько не маска, что это – он сам, Александр Михайлович, говорит о себе, о своем». Тогда в «Ювеналах» и появилась «справедливая мысль, что его сатиры, воплощая в себе громкий протест против тогдашней действительности, сами являются в известном смысле ее порождением». И все-таки Саша Черный не мог ожидать, что довольно близкий и понимающий человек назовет его «последышем славных „рыцарей свистопляски“» и напишет, что этот «странный поэт» «в каком-то экстазе самооплевания еженедельно в „Сатириконе“ выводит себя на позор».
Александр Михайлович не простил. В книжном издании «Сатир» он снял посвящение стихотворения «Обстановочка» Чуковскому, с которым совсем недавно дружески делился в письме своими мучениями над компоновкой книги; зато появилось вышеупомянутое «Критику»… В 1910 году вышел «Юмор обреченных», где Чуковский назвал Сашу Черного «подающим надежды самоубийцей», и отношения были окончательно разорваны. В 1911 году «Сатирикон» опубликовал длинную и не особенно удачную сатиру Саши Черного «Корней Белинский» со стандартными упреками в случайности тем, в преувеличенном внимании к мелочам стиля, в пристрастии к сенсационным заголовкам («Корявый буйвол», «Окуни без меха», «Семен Юшкевич и охапка дров», издевался поэт). «Акробатичноново», «на белых нитках пляшет сотня строк», «кустарит парадокс из парадокса, холодный пафос недомолвок – гол, а хитрый гнев критического бокса все рвется в истерический футбол, – злился Саша Черный. – Post scriptum: иногда Корней Белинский сечет господ, цена которым грош, – тогда кипит в нем гений исполинский и тогой с плеч спадает макинтош!»
Такая же печальная история, и почти в это же время, вышла у Чуковского и с Леонидом Андреевым. Они давно дружили, Корней Иванович ездил к нему в гости в Ваммельсуу, целыми ночами, как он вспоминает, слушал надрывные излияния писателя… Андреев поделился с ним замыслом трагедии «Океан», Чуковский этот замысел одобрил. Но когда пьеса была опубликована, критику она показалась ходульной, воспроизводящей горьковское схематичное деление людей на ужей и соколов, которое давно уже набило оскомину. Об этом и была немедленно написана жесткая и хлесткая статья «Устрицы и океан». Устрицы – это обыватели, так их окрестили в журнале «Сатирикон»; посрамлять их стало так общепринято, что они давно уже ничего не боятся: «Теперь, когда… каждая устрица – ницшеанка, и каждый мещанин уже умеет по всем правилам проклясть мещанство, теперь все такие трагедии о великих героях и о презренной толпе – поневоле звучат для нас как какие-то шарманные арии. Та-ра-ра-бумбия! Та-ра-ра-бумбия! Намозолили уши, и мы говорим: шарманщик, перемени же валик!»
Андреев отреагировал болезненно: заклеймил Чуковского прозвищем «Иуда из Териок» (в своих воспоминаниях о писателе Чуковский упоминает об этом прозвище, но не признается, что оно относилось к самому мемуаристу) и написал большое обиженное письмо, продиктованное, как ему казалось, даже не обидой, а заботой о заблудшем критике, который встал на скользкую дорожку. Так с Чуковским случалось не раз: друзья готовы были признавать его замечательным критиком до тех пор, пока он не пытался вынести суждение о их творчестве.
Критика и публикаВ конце 1900-х годов Чуковский продолжал выступать с публичными лекциями, докладами, чтением рефератов. Делал он это всегда – начал еще в одесской «Литературке», продолжил у Брюсова в Московском кружке, входил в состав питерского «Кружка молодых», постоянно присутствовал на разных «вторниках», «средах», «пятницах» у столичной творческой интеллигенции, где тоже часто читал доклады или выступал в прениях. К устным выступлениям Чуковский готовился тщательно – об этом свидетельствует Лидия Корнеевна, рассказывая в «Памяти детства», как ездила с ним на лекцию в Тенишевское училище в 1913 году. Вот Чуковский собирается в город, берет с собой шестилетнюю Лидочку – ей надо показать сфинксов и «Последний день Помпеи», отвести к врачу… По дороге читает ей Шевченко, в поезде играет с мальчиком-попутчиком, затем раскладывает на коленях папку с докладом – и все пропало. Доклад ему не нравится, он недоволен собой, он должен срочно его переделать, люди раздражают его, дочь мешает, жандарм, проверяющий паспорта в Белоострове, не может до него докричаться… Папа стал не-папой, тоскливо замечает Лидочка. В гостинице он выводит ее в коридор, сажает в кресло у окна, а сам запирается на ключ – на два оборота! на пять часов! – в надежде хоть что-то успеть выправить… Нервничает, мечется, не может застегнуть запонку…
Наконец, они отправляются в училище: отец спешно передоверил кому-то Лидочку, вышел на эстраду и заговорил. Память шестилетней дочери не сохранила темы доклада – так девочка волновалась за отца. Зато она запомнила, как студенты пытались освистать докладчика, а тот их высмеял: свистеть, мол, тоже как следует надо, сейчас покажу вам образцовый свист – вложил два длинных пальца в рот и оглушительно свистнул к великой радости аудитории.
А вот каким предстает Чуковский-лектор в воспоминаниях Александра Дейча: «Корней Иванович все время держал перед собой на кафедре написанный им текст, но он так незаметно пользовался рукописью, так тонко интонировал фразы, что это совсем не походило на „чтение по бумажке“. Да и, кроме того, лекция была прочитана, по-видимому, не раз и „испробована“ на публике. Лектор уже знал, где публика будет живо реагировать на его остроумное, меткое слово. Вместе с тем ничего актерского или наигранного не было. В каждом слове и жесте чувствовалась убежденность в правоте выдвинутой лектором концепции… Отточенность слова казалась работой ювелира, а ритм речи неизменно оттенялся красивым, гибким голосом лектора».
Он любил публичные выступления. «Корней Иванович, читая лекцию, идет каждый раз покорять», – догадывалась дочь. Конечно, он был прирожденный просветитель, культурный миссионер, педагог, и двигало им в первую очередь желание делиться, одарять людей тем, что он сам любит и ценит, учить ненавидеть то, что враждебно ему самому. Но не отнять у него и лицедейства, любви к представлениям, желания играть, нравиться публике, впитывать ее любовь и восхищение, остроумно отражать ее нападки… Отчасти это помогало справиться с постоянным отчаянием и неуверенностью в себе. В старости, снимаясь для документального фильма о «Чукоккале», он говорил (как всегда, полушутя-полусерьезно), что актерство и есть его призвание.
По воспоминаниям и рисункам очевидцев можно представить себе, как выглядели его выступления. У всех сохранилась в памяти его необыкновенная подвижность, точность поющих жестов; недаром на карикатуре Ре-Ми «Салон Ее Светлости русской литературы» Чуковский змеей обвивается вокруг колонны (и рукава, кажется, слишком коротки, и запястья далеко выдаются из манжет). Невестка Корнея Ивановича, Марина Чуковская, запомнила его выступавшим в Тенишевском училище, «высоким, тонким, бесхребетно гнущимся», а Ольга Дьячкова описала в стихах его «аршинный шаг» и самостоятельной жизнью живущие большие руки. Бенедикт Лившиц обронил: «он размахивал своими конечностями осьминога». А вот Ольга Форш пишет в «Сумасшедшем корабле»: «На сцене извивался, закручиваясь вокруг себя самого, как веревка на столбе гигантских шагов, высоченный человек. Он то прядал на публику, весь изламываясь в позвоночнике, подобно червю-землемеру, то выбрасывал в своеобразном ритме одни долгие руки вперед или вдруг он сжимался и весь делался меньше…»
Самую подробную зарисовку Чуковского-лектора сделал Василий Розанов в 1909 году (цитируется по статье Бенедикта Сарнова «Единственный Чуковский»): «Высокий-высокий тенор несется под невысоким потолком; если опустить глаза и вслушиваться только в звуки, можно сейчас же почувствовать, что уж конечно ни один „господин купец“ и ни который „попович“ не заговорит этим мягким, чарующим, полуженственным, нежным голосом, который ласкается к вашей душе и, говоря на весь зал, в то же время имеет такой тон, точно он вам одному шепчет на ухо… „Те не поймут, но вы поймете меня“. И слушателю так сладко, что лектор его одного выбрал в поверенные своей души… Я поднимаю глаза, чтобы рассмотреть, кто это говорит. Лектор читает не сидя, а стоя, и вы в ту же секунду чувствуете, как к нему не шло бы сидеть… То опуская глаза к тетради, то поднимая их на публику, он в высшей степени естественен в своей грации, до того занят темой чтения, что, кажется, забыл и о публике и о себе. Нервным движением он составил стул, все-таки для чего-то торчащий позади него, с возвышения кафедры на пол. Это оттого, что он не стоит на кафедре, как монумент, как колонна, – способ чтения стоя русских чтецов, а хоть незаметно, но постоянно движется изгибом, выгибом, торсом… Но какое соответствие между голосом и человеком…»
Шкловский, злой и пристрастный, в своей книге о Маяковском, совершенно взбесившей К. И. (об этом речь впереди), говорил о его голосе, «похожем на звук какого-то драгоценно-гнусавого старинного виоль-де-гамбистого инструмента». Репин в одном из писем назвал голос Чуковского «ангельским тенором».
В «Чукоккале» есть рисунок Чехонина, запечатлевший К. И. за чтением лекции в Доме искусств («в моей привычной позе», замечал портретируемый). Наклонившись над столом, опираясь на него длинными руками с большими кистями, он весь находится в движении, весь устремлен навстречу аудитории, готов пружинно распрямиться, взмахнуть руками, в глазах азарт, на устах хитрая улыбка. Запомнили все и его интонацию – то поющую, то почти плачущую, и его манеру читать лекцию ясно, плавно, певуче, почти не заглядывая в бумаги и не путаясь в придаточных предложениях. Даже его критические выступления в печати – и те часто созданы по законам устного жанра, они легко читаются вслух и легко воспринимаются. В них есть внутренняя интрига, есть яркие иллюстрации и резкие смены темы – есть все необходимое, чтобы читатель и слушатель не утратили нити повествования, чтобы не ослабело их внимание, чтобы заключительные выводы были восприняты ими как ясно и логично следующие из сказанного.
Но когда знакомишься с критическими откликами современников – поневоле удивляешься: неужели люди настолько не умели читать, не понимали очевидного, ожесточенно спорили даже с бесспорным и яростно бранились. И такова была участь не одного только Чуковского – воистину, надо было писать разве что «о лошадных и безлошадных» или о непостижимых метафизических материях, чтобы в тебя не палили из всех орудий. Стоило подступиться к чему-то живому, приблизиться к болевым точкам эпохи, попробовать высказать небанальное суждение, осмелиться не то чтобы посягнуть на авторитеты, а хотя бы взглянуть на них с неожиданной стороны, – и начинался смертный бой. Даже в «Памяти детства» Лидии Корнеевны сохранились крепко запавшие в душу шестилетней девочки отзывы публики, уходящей с лекции: «Вот видите, я вам говорила, это всегда свежо, талантливо, ново». – «Помилуйте, что же тут талантливого? Никакой философской основы. Какие-то мыльные пузыри. Это вообще не литератор, а гаер какой-то».
К концу первого десятилетия XX века Чуковский уже был влиятельным критиком влиятельной газеты; его уже называли одним из тех, кто создает и крушит репутации, кто определяет литературную политику. Вместе с тем литературная политика-то как раз не особенно интересовала нашего героя – его волновала литература, а не возня и грызня вокруг нее. И тем не менее в это время он сам постоянно оказывался причиной возни и грызни, а то и настоящего крупного скандала. Ему не раз намекали – и консерваторы, и либералы, – что он ведет себя неприлично, мысли высказывает неподобающие, что ему место в «Новом времени» рядом с «нерукопожатным» Бурениным… Подробности нескольких таких историй можно найти в предисловии Евгении Ивановой к 7-му тому нового собрания сочинений, – мы только кратко отметим некоторые из них.
Статья «Владимир Короленко как художник» вышла в «Русской мысли» в 1908 году. В ней нашли отражение представления молодого Чуковского о Короленко как «духовном кадете» (такое определение встречается в дневниках критика). «Он слишком благообразен для нас», пишет Чуковский, «слишком хорош», он «слишком прочно стоит на ногах», «душевная здоровость его… обидна и неуместна», он «украшает жизнь», стремится «искоренять из нашей жизни трагедию, изображать человечество изъятым из-под ее губительной власти». Горький в печати назвал эту (весьма невинную) статью «грубой выходкой»: посягать на святое не следовало, во-первых, и Чуковский ругал горьковские сборники «Знание», во-вторых. Впоследствии Чуковский издал эту статью в составе «Книги о современных писателях», предварив сумбурным пояснением: «Статья… не вполне выражает мои личные взгляды. Она скорее написана от лица того поколения, которое выдвинуло и санкционировало поэзию Ремизова, Сологуба, Андреева. Это опыт критики беллетристической. Подлинные мои воззрения на творчество Вл. Г. Короленко изложены мною в другом месте». К этому времени Чуковский уже познакомился с Короленко, проникся к нему искренней симпатией и дальше писал о нем уже совсем в ином ключе – как о деятельном человеколюбце, борце с несправедливостью, всенародном заступнике, который настолько печется о других, что это мешает его собственной жизни и творчеству. Таким предстает Короленко, например, в книге воспоминаний «Современники».
1 марта 1909 года в «Речи» вышла статья Чуковского о Тарасе Шевченко – горячая, живая, с любовью и состраданием написанная. Но, конечно, не без крушения стереотипов, не без выпячивания незамеченных до сих пор черт: кобзарь пишет о покинутых женщинах, о покинутой Украине, и так тоскует о покинутых, так любит их, что кажется, только покинутое он и может любить… Вы обливаете его глазурью – ну так получите: «У него, не знаю, было ли великое сердце, но великая печень у него была несомненно, и создания его великой печени – непревосходимо-прекрасны». Это Чуковский говорит о шевченковской язвительности, его гневе, его умении ненавидеть и жаждать мести. А вот о том, как Шевченко умел любить: «Этот пьяный, лысый, оплеванный, исковерканный человек, когда садился за стол и брал в руки перо, становился как бы иереем: совершал богослужение…» и дальше о том, как он поклонялся своей Украине, каким нежным умел быть в своих стихах, какие выбирал для выражения своей нежности обороты, какими гласными и согласными гудел, пел, шуршал, передавая все великое многообразие мира… И что же публика? Увидела только «лысого и пьяного» и закричала: не дадим обижать Шевченко, руки прочь от Шевченко!
Шквал негодующих читательских писем оказался так огромен, что очень скоро Чуковскому пришлось выступить с новой статьей – «Излишнее рвение», как раз о том, как его поняли читатели. «Я забыл, что уже лет сорок всевозможные „поклонники“ скандируют перед русским читателем: Шевченко это, так сказать, яркий светоч, это, так сказать, путеводная звезда наших идеалов, прогресса и свободы, той свободы, которая…
Я забыл, что таким юбилейным враньем Шевченко весь обмазан, как патокой, что его самого, живого, жизненного, близкого, из-под этой патоки давно не видать; что он давно уже перестал для русского человека быть человеком, а стал каким-то оселком, на котором гг. почитатели давно уже пробуют свое юбилейное красноречие».
Чуковский отчаянно защищается: «Разве лысого я его меньше люблю, чем лохматого; разве пьяный он менее гениален, чем трезвый?» Нет, читатель неумолим: низзззя! Низззя трогать святое! Обыватель полагает, что «у гения должна быть шевелюра», – тоскливо замечает критик. – «И нет таких оскорблений, которых он (читатель, обыватель. – И. Л.) в письмах и газетных заметках мне не нанес бы за то, что я осмелился отступить от этого канона его, обывательской, эстетики… И как это не нашлось у меня ни одного читателя, который бы понял, что эту «лысину» и это «пьянство» я упомянул с величайшим благоговением, и что, может быть, еще никто никогда не любил так горячо великого украинского поэта, как я его любил, когда набрасывал такие строки…»
Напрасно он объяснял все это. В октябре того же года с докладом о Гаршине приключилась ровно такая же история, только еще громче. К. И. долго готовился к нему, перечитывал писателя. Характерна дневниковая запись: «В Гаршине покуда открыл одну только черту, никем не подмеченную: точность, отчетливость» – везде-то он стремился открывать никем не подмеченные черты. Разговаривал с теми, кто знал Гаршина. Изучал критические статьи о нем. 30 апреля 1909 года Чуковский записывает: «У Мережковских: читал свою статью о Гаршине: слезы. До чего я изнервничался». 10 мая: «Этой статьи я никогда не забуду. Раньше я написал ее для себя – прочитал Мережковским, оказалось: слабовата. Тогда я переделал ее для „Речи“. Не подошла. И вот теперь я третий раз заново пишу один печатный лист – и если включить сюда месяц подготовки, то выйдет, что я дней 45–50 томлюсь над одной, довольно незамысловатой статейкой». Но самое незабываемое было еще впереди.
Мережковским и собравшимся у них гостям лекция не понравилась, возможно, не только потому, что была «слабовата». Может быть, еще и потому, что они в большинстве своем принадлежали к поколению, которое причисляло Гаршина к своим святыням, а Чуковский обошелся со святыней не то чтобы непочтительно, а как-то неколенопреклоненно.
Осенью состоялся доклад о Гаршине в Петербургском литературном обществе, частью слушателей освистанный, частью – воспринятый с восторгом. «Зал был буквально переполнен», – сообщалось в редакционном отчете «Речи» о лекции. Уже ожидали скандала – Чуковский даже начал с того, что в публике распространяются слухи, будто он собрался обесславить Гаршина: «Нет, я буду его больше, чем славить, – я буду его изучать». Текст доклада (правда, переработанный уже для книги «Лица и маски») читатель найдет в 7-м томе нового собрания сочинений – и наверняка изумится тому, что такой доброжелательный и умеренный анализ текста и личности был воспринят как святотатство.
Больше всего публику, пожалуй, возмутило то, что Чуковский осмелился подойти к Гаршину с неканонической точки зрения (подход для него обычный и вполне закономерный). Гаршин к этому времени уже был вполне вписан в интеллигентские святцы, «и его трагическая гибель сформировала вокруг его судьбы некое подобие жития, со всеми присущими агиографическому жанру чертами», – отмечает Евгения Иванова. А Чуковский – нет, он не посягнул на незыблемый канон, он просто не стал о нем говорить, оставил все привычное славословие в стороне и осмелился предложить свежее прочтение: «Почему этот безумный художник так удивительно был пунктуален?» Он не оспаривал ни места Гаршина в русской литературе, ни его символического значения для русской интеллигенции, – он занимался своими кропотливыми выкладками и выводил из них: вся гаршинская пунктуальность, обилие цифр и научных подробностей – это попытка спастись от хаоса и безумия, обступавшего несчастного писателя: «Та Палата мер и весов, которую они (Гаршин и Эдгар По. – И. Л.) так безнадежно устрояли в своей сумасшедшей палате – душе, разве это не драгоценнее и не патетичнее, чем какая-то «сверкающая радость безумия», и какая-то «жажда мгновенных озарений, мига всеразрешения, всеоправдания, всеспасения», – которою одаряют Гаршина его словоблудные критики».
Чуковский говорил с любовью и состраданием; слушатели ни того ни другого не поняли. «Вообще, реферат носил характер чисто литературного, психологического исследования, чего, очевидно, не усвоили многие из возражавших Чуковскому, – сообщалось в цитированной уже заметке в „Речи“. – Они усмотрели здесь какую-то демонстрацию. Все, за исключением г. Морозова, ответили тоже демонстрацией». Яростно ругал Чуковского писатель Дмитрий Линев (Далин). «Он никому не позволит трогать литературу. Разве можно трогать литературу! Литературу трогать нельзя!.. Когда г. Далин опустил руку в карман, я испугался до чрезвычайности. Я был убежден, что он вытащит из кармана знамя, на котором написано, что трогать литературу нельзя, и что полиция закроет собрание, – издевался в том же номере „Речи“ Владимир Азов (Ашкинази). – Но г. Далин вытащил только носовой платок, утер себе лоб и предложил публике побить каменьями К. И. Чуковского, осмелившегося неодобрительно отозваться о г. Скабичевском». Трудно предположить, что же Чуковский произнес об этом почтенном литераторе вслух («бла-а-роден, но очень глуп», если верить Розанову); в печатном варианте сохранилась только фраза «… и право же, нужно быть Скабическим, чтобы после всего этого заключить» (дальше после двоеточия идет цитата из Скабичевского. – И. Л.). Повод для побивания каменьями все-таки недостаточный.









































